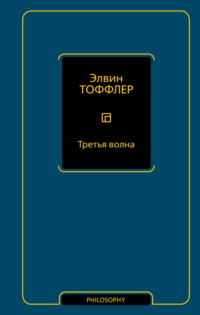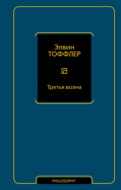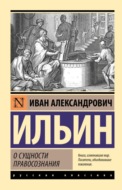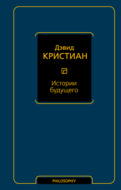Читать книгу: «Третья волна», страница 5
Унификация
Среди этих шести принципов наиболее хорошо известна унификация. Все знают, что промышленные общества выпускают миллионы идентичных единиц товара. Однако немногие замечают, что, как только рынок приобретает важность, мы унифицируем не только бутылки для кока-колы, лампочки и автомобильные коробки передач. Мы применяем тот же принцип ко многим другим вещам. Первым важность этой идеи понял Теодор Вейл, который на рубеже веков превратил в гиганта «Американскую телефонную и телеграфную компанию» (AT&T) 5.
Работая в конце 1860-х годов почтовым клерком на железной дороге, Вейл заметил, что письма поступают адресату необязательно по одному и тому же маршруту. Мешки с почтой путешествовали туда и обратно, нередко прибывая в место назначения только через несколько недель, а то и месяцев. Вейл предложил внедрить унифицированные маршруты, чтобы все письма, отправленные в конкретную точку, пересылались одним и тем же путем, что помогло революционизировать почтовые службы. Создав впоследствии AT&T, он задался целью установить в каждом доме унифицированный телефонный аппарат.
Вейл не только унифицировал телефонную трубку и все ее компоненты, но также бизнес-операции AT&T и администрацию компании. В 1908 году он оправдывал поглощение более мелких телефонных компаний потребностью в «клиринговом центре унификации», обеспечивающем экономию при «создании оборудования, телефонных линий и кабельных трасс, а также в области организационных методов и юридического оформления», не говоря уже о «единой системе эксплуатации оборудования и бухучета». Вейл понял, что для успеха в условиях Второй волны необходимо унифицировать не только технические устройства, но и «программные средства» – рабочие операции и административные процедуры.
Вейл был одним из великих систематизаторов, определивших облик индустриального общества. Еще одним был Фредерик Уинслоу Тейлор, рабочий-станочник, ставший поборником прогресса и считавший, что труд можно поставить на научную основу, унифицировав выполняемые работником операции. В первые годы ХХ века Тейлор провозгласил, что для каждой работы можно найти один наилучший (стандартный) способ, один наилучший (стандартный) инструмент и выполнять ее в одну предписанную (стандартную) единицу времени.
Вооружившись этой доктриной, он стал одним из ведущих светил менеджмента в мире. При жизни и после смерти его сравнивали с Марксом, Фрейдом и Франклином. Выжать последнюю каплю производительности из рабочих жаждали не только восхищенные методами Тейлора капиталисты. Их энтузиазм разделяли и коммунисты. Например, Ленин настаивал на внедрении методики Тейлора в социалистическом производстве. Ленин был в первую очередь поборником индустриализации и лишь во вторую – коммунистом, он свято верил в необходимость унификации.
В обществах Второй волны все больше унифицировался как сам труд, так и найм рабочей силы. Для отсева профессионально непригодных кандидатов, особенно при поступлении на госслужбу, использовались единые тесты. Шкала заработной платы и вместе с ней социально-бытовые льготы, продолжительность обеденного перерыва, отпуска и порядок рассмотрения жалоб были унифицированы во всех отраслях. В целях подготовки молодежи для рынка труда учебные заведения стандартизировали программы обучения. Бине и Термен создали стандартные тесты для оценки интеллектуальных способностей. Аналогичным образом были систематизированы школьные оценки, правила приема в учебные заведения и система начисления академических баллов. Получили широкое распространение тесты с выбором ответа из нескольких вариантов.
В свою очередь, стандарты распространяли СМИ – миллионы читателей читали те же рекламные объявления, те же новости, те же очерки. Подавление централизованным государством языков меньшинств в сочетании с воздействием средств массовой коммуникации привело к почти полному исчезновению местных и региональных диалектов и целых наречий, таких как валлийское или эльзасское. «Стандартный» американский, английский, французский или, если угодно, русский язык вытеснили «нестандартные» языки. По мере того как повсюду появлялись одинаковые заправочные станции, рекламные щиты и дома, различные части одной и той же страны начинали выглядеть на одно лицо. Принцип унификации пронизал все стороны повседневной жизни.
На более глубоком уровне промышленная цивилизация нуждалась в стандартизации мер и весов. Неслучайно, что одним из первых актов Французской революции, положившей начало эпохе индустриализма во Франции, стала замена дикой путаницы единиц измерений, характерной для доиндустриальной Европы, метрической системой и новым календарем. Вторая волна распространила единство мер и весов на бо́льшую часть мира.
Но и этого было мало. Если массовое производство требовало стандартизации машин, продуктов и процессов, то непрерывно растущий рынок требовал соответствующей унификации денежных единиц и даже цен. Раньше деньги эмитировались банками и частными лицами, а также монархами. Частные деньги находились в обращении в некоторых районах США до конца XIX века, а в Канаде – до 1935 года. Однако постепенно промышленно развитые страны подавили все негосударственные валюты и сумели навязать единый денежный стандарт в рамках всей страны.
Кроме того, до начала XIX века покупатели и продавцы в промышленных странах имели освященное вековыми традициями обыкновение торговаться, как на каирском базаре. В 1825 году молодой иммигрант из Северной Ирландии по имени А. Т. Стюарт, открывший в Нью-Йорке мануфактурный магазин, шокировал покупателей, установив фиксированные цены для каждого предмета. Эта политика единой цены или ценовой стандартизации сделала Стюарта королем коммерции своей эпохи и устранила одно из главных препятствий на пути к системе массового распределения.
При всех прочих расхождениях передовые мыслители Второй волны сходились во взглядах на унификацию как эффективную меру. Благодаря неустанному применению принципа унификации на различных уровнях Вторая волна ликвидировала множество различий.
Специализация
Второй великий принцип, пронизавший все страны Третьей волны, – это специализация. Чем больше Вторая волна устраняла разнообразие в сфере языка, образа жизни и досуга, тем больше она нуждалась в разнообразии в сфере труда. Ускоряя разделение труда, Вторая волна, используя методику Тейлора, заменила крестьянина, «мастера на все руки», серьезным специалистом узкого профиля и рабочим, выполняющим одну-единственную операцию.
Уже в 1720 году отчет «Выгоды ост-индской торговли» указывал на то, что специализация способна дать больше с меньшими потерями времени и труда. В 1776 году Адам Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» сделал громкое заявление: «Величайший прогресс в развитии производительной силы труда… [явился], по-видимому, следствием разделения труда» 6.
В качестве классического примера Смит дает описание производства булавок. Рабочий прежнего типа, писал он, выполняя все необходимые операции самостоятельно, смог бы ежедневно производить не более пригоршни булавок – может быть, штук двадцать, а может быть, ни одной. В противовес Смит приводит описание мануфактуры, которую он посетил, где восемнадцать различных операций для производства каждой булавки выполняли десять рабочих-специалистов, выполнявших только одну-две операции. Сообща они умудрялись производить 48 000 булавок в день – более 4800 штук на каждого рабочего.
К началу XIX века по мере перехода труда с полей на фабрики история с булавками повторялась все чаще и во все больших масштабах. Соответственно возрастали социальные издержки специализации. Критики индустриализма обвиняли рост специализации в том, что однообразный труд лишал рабочего человеческого достоинства.
К тому времени, когда Генри Форд в 1908 году приступил к производству «модели Т», для выпуска готового изделия требовалось уже не 18 операций, а 7882. В автобиографии Форд упоминает, что из 7882 специализированных операций 949 требовали, чтобы их выполняли «сильные, крепкие мужчины в практически идеальной физической форме». 3338 операций могли выполняться мужчинами с «обычными» физическими данными, а остальные – «женщинами или детьми старшего возраста». Он бесстрастно продолжает, что «670 операций могли выполняться безногими, 2637 – одноногими, две – безрукими, 715 – однорукими и 10 – слепыми». Другими словами, для специализированной операции требовался не весь человек, а только конкретная часть его тела. Никто с тех пор не представил более яркого свидетельства жестокости чрезмерной специализации.
При этом практика, которую критики приписывали капитализму, стала также неотъемлемой чертой социализма. Это произошло потому, что специализация труда была общей чертой всех обществ Второй волны, берущих свое начало с отделения производства от потребления. СССР, Польша, ГДР или Венгрия неспособны сегодня обеспечить работу своих заводов без изощренной специализации, как это не могут сделать Япония или США, где Министерство труда в 1977 году опубликовало список из 20 000 различных специальностей, поддающихся учету.
В то же время и в капиталистических, и в социалистических промышленных государствах специализация сопровождалась валом профессионализации. Везде, где только у группы специалистов появлялась возможность монополизировать свои мудреные познания и оградить поле своей деятельности от вторжения непосвященных, появлялись профессиональные сословия. По мере нарастания Второй волны рынок резко отделил носителей знания от клиентов, производителей от потребителей. Поэтому забота о здоровье в обществах Второй волны стала считаться уделом врачей и администрации системы здравоохранения, а не вопросом благоразумного отношения пациента к собственному состоянию (как в том случае, когда он был производителем и потребителем в одном лице). Образование тоже стало товаром, «производимым» школьным учителем и «потребляемым» учеником.
Множество различных категорий работников от библиотекарей до коммивояжеров начали требовать для себя права называться профессионалами, а также полномочий по установлению норм, цен и условий допуска других в свои ряды. По словам Майкла Пертчука, председателя Федеральной торговой комиссии США, в нашей культуре доминируют профессионалы, которые называют нас «клиентами» и рассказывают нам о наших «потребностях».
В обществах Второй волны профессией считается даже политическая агитация. Ленин неслучайно утверждал, что массы не смогут совершить революцию без помощи профессионалов. Нужна, говорил он, «организация революционеров», которая должна объединять «людей, профессия которых состоит из революционной деятельности».
Вторая волна сформировала у коммунистов, капиталистов, управленцев, педагогов, священнослужителей и политиков общий менталитет, помноженный на стремление к еще более глубокому разделению труда. По аналогии с заявлением принца-консорта Альберта, выступившего на открытии Всемирной выставки 1851 года в Хрустальном дворце, они верили в то, что «специализация есть движущая сила цивилизации». Великие поборники унификации и великие поборники специализации шагали рука об руку.
Синхронизация
Растущий отрыв производства от потребления заставил людей Второй волны изменить свое отношение ко времени. В системе, зависящей от рынка, будь он плановый или свободный, действует формула «время – деньги». Дорогие станки не должны простаивать, но они работают в определенном ритме. Так появился третий принцип промышленной цивилизации – синхронизация.
Труд даже в ранних обществах требовал тщательной организации по времени. Охотникам приходилось действовать сообща, чтобы изловить добычу, рыбакам – координировать усилия, работая веслами и выбирая сети. Джордж Томпсон много лет назад продемонстрировал, как в песнях работников отражается различная связь с видами труда. Песнь гребцов состояла из простых двусложных звуков вроде «оп-па!». Второй слог приходился на момент максимального приложения сил, первый служил сигналом приготовиться. Работа бурлаков была тяжелее, чем у гребцов, пишет он, «поэтому моменты приложения усилий занимали больше времени», и мы видим, что ирландцы тянули лодки с криками «хо-ли-хо-ап!», чтобы оставить больше времени для последующего рывка.
Пока Вторая волна не принесла с собой машины и станки, заглушившие хор работников, подобная синхронизация усилий происходила естественным путем. Она отталкивалась от чередования времен года и биологических процессов, вращения Земли и сердцебиения. Общества Второй волны, однако, перешли на ритмы, задаваемые механизмами.
По мере распространения промышленного производства высокая стоимость механического оборудования и тесная взаимозависимость работников требовали все более точной синхронизации. Если группа рабочих на заводе опаздывала с выполнением задачи, на следующем этапе возникала еще большая задержка. В итоге пунктуальность, никогда не игравшая значительной роли в аграрных обществах, стала общественной необходимостью, и в моду вошли настенные и наручные часы. В Англии они стали обычным явлением уже к 1790-м годам. По выражению английского историка Э. П. Томпсона, распространение часов пришлось именно на тот момент, когда промышленная революция начала требовать более высокой синхронизации труда.
Детей в странах индустриальной культуры начинали обучать чтению показаний часов с раннего возраста, и это неслучайно. Учеников тренировали к прибытию в класс по звонку, чтобы потом они без опозданий являлись на завод или в контору. Рабочие операции были рассчитаны по времени и поделены на части, подчас составлявшие доли секунды. Рабочий день с девяти до пяти стал стандартом для миллионов сотрудников.
Синхронизации подвергалась не только трудовая жизнь. Во всех обществах Второй волны, независимо от их ориентации на прибыль или политические цели, часы и машинное производство стали диктовать правила жизни в социуме. На отдых и развлечения выделялось специальное время. График работы включал в себя отпуска, выходные дни и перерывы на кофе – все это стандартной продолжительности.
Учебный год в школах начинался и заканчивался в определенный месяц. Больницы будили всех пациентов для завтрака в одно и то же время. Транспортные системы в пиковые часы трещали по швам. Радио и телевидение выделяли для развлекательных программ лучшее время – прайм-тайм. У каждой компании имелись свои пиковые периоды нагрузок или сезонных работ, синхронизированные с деятельностью поставщиков и дистрибьюторов. Появились специалисты по вопросам синхронизации – от заводских экспедиторов и диспетчеров до служащих дорожной полиции и экспертов по учету времени.
Некоторые люди восприняли новую систему индустриального хронометража в штыки. На различия полов она тоже оказала влияние. Те, кто участвовал в работе Второй волны, главным образом мужчины, следили за временем больше других.
Мужья эпохи Второй волны постоянно жаловались, что жены заставляют их ждать, не смотрят на часы, слишком долго одеваются, вечно опаздывают. Женщины, по большей части занятые домашними обязанностями и свободные от взаимозависимости, придерживались в своей работе менее механистических ритмов. По той же причине горожане привыкли считать сельских жителей медлительными и ленивыми. «Они никогда не приходят вовремя! Никогда не знаешь, появятся ли они в назначенное время!» – подобные жалобы можно прямо отнести к различию между трудом Второй волны, основанным на повышенной степени взаимозависимости, и трудом Первой волны, ограниченным полевыми работами и домашним хозяйством.
Как только Вторая волна захватила господствующие позиции, индустриальный метроном подчинил себе даже самые сокровенные жизненные процессы. В США и Советском Союзе, Сингапуре и Швеции, Франции и Дании, Германии и Японии семьи поднимались, садились за стол, ездили на работу, работали, возвращались домой, ложились спать и даже совокуплялись в одно и то же время, так как вся цивилизация помимо унификации и специализации применяла принцип синхронизации.
Концентрация
Подъем рынка породил еще одно правило цивилизации Второй волны – принцип концентрации.
Общества Первой волны использовали сильно рассеянные источники энергии. Общества Второй волны попали почти в полную зависимость от высокой концентрации запасов ископаемого топлива.
Но Вторая волна концентрировала не только энергию, но и население, высасывая людей из сельской местности и перемещая их в гигантские городские агломерации. Она также концентрировала труд. В то время как во время Первой волны труд осуществлялся в самых разных местах – в доме, деревне, на полях, основная доля труда в обществах Второй волны выполнялась на заводах и фабриках, где под одной крышей были сосредоточены тысячи рабочих.
Однако концентрации подвергались не только энергия и труд. В своей статье в общественно-научном английском журнале New Society, Стэн Коэн указывал, что за малыми исключениями до начала индустриализации бедняки жили дома или с родственниками, преступников наказывали штрафами, пороли или изгоняли из селения в другое место, за умалишенными ухаживали члены их семьи или, если они были нищими, община. Другими словами, все эти группы были рассредоточены внутри своих общин.
Индустриализм внес революционные изменения в это положение дел. Начало XIX века не зря называют «эпохой застенков». Преступников собирали в одном месте и держали в тюрьмах, умалишенных заточали в психушках, детей накапливали в школах, рабочих – на заводах.
Концентрация происходила и в области движения капиталов: цивилизация Второй волны породила гигантские корпорации и, кроме того тресты и монополии. К середине 1960-х годов три самые крупные автомобильные компании США производили 94 % всех американских автомобилей. В Германии на четыре компании, Volkswagen, Daimler-Benz, Opel (GM) и Ford Werke, приходился 91 % производства. Во Франции Renault, Citroёn, Simca и Peugeot фактически выпускали 100 % всех машин. В Италии один Fiat производил 90 % всех автомобилей.
Точно так же в США 80 % всего алюминия, пива, сигарет и готовых завтраков производили четыре-пять компаний соответствующей отрасли. В Германии 92 % гипсокартонных плит и красителей, 98 % фотопленки, 91 % промышленных швейных машин выпускали четыре компании (а то и меньше), работавшие в этой сфере. Список в высшей степени концентрированных производств воистину бесконечен 7.
Управленцы соцстран тоже были убеждены, что концентрация производства работает 8. Кстати, большинство идеологов-марксистов из капиталистических государств приветствовали рост концентрации промышленности в своих странах как необходимое звено на пути к тотальной концентрации индустрии под эгидой государства. Ленин говорил о том, чтобы «все граждане [становились] служащими и рабочими одного всенародного, государственного „синдиката“». Через полвека советский экономист Н. Лелюхина констатировала в журнале «Вопросы экономики», что СССР обладает наиболее концентрированной промышленностью во всем мире.
Будь то энергия, население, труд, образование или организация экономики, принцип концентрации цивилизации Второй волны проникал очень глубоко – глубже, чем любые идеологические различия между Москвой и Западом.
Максимизация
Разделение производства и потребления также привело в обществах Второй волны к навязчивой «макрофилии», своеобразной одержимости большими размерами и ростом в техасском стиле. Если истинно то, что длительные производственные процессы на предприятии снижают затраты на единицу продукции, то по аналогии увеличение масштабов производства должно обернуться экономией в других областях человеческой деятельности. «Большое» стало синонимом «эффективного», и максимизация стала пятым ключевым принципом Второй волны.
Города и страны наперегонки хвастались, чей небоскреб выше, чья плотина больше, у кого есть самое большое поле для мини-гольфа. Так как размер был следствием роста, большинство государственных учреждений, корпораций и прочих организаций индустриальных стран фанатично преследовали идеал роста.
Японские рабочие и менеджеры Matsushita Electric Company хором скандировали каждый день:
«Сделаем все для развития компании, Разошлем наш товар народам мира, Без конца, постоянно, Как бьет струя из фонтана, Расти, завод, расти, расти, расти! Гармония и честность! Мацусита электрик!»
В 1960 году, когда США завершили этап традиционного индустриализма и начали ощущать первые толчки Третьей волны, пятьдесят самых крупных корпораций имели в среднем по 80 000 сотрудников каждая. General Motors насчитывала 595 000 работников, AT&T Вейла – 736 000. Другими словами, если учитывать, что средний размер семьи в то время составлял 3,3 человека, от зарплаты сотрудника только этой компании зависели два миллиона человек, что эквивалентно половине населения всей страны на то время, когда Гамильтон и Вашингтон создавали американскую нацию. (С тех пор AT&T разрослась до еще более чудовищных размеров. К 1970 году в компании работало 956 000 человек, то есть всего за год ее штат увеличился на 136 000 работников.)
Конечно, AT&T – это особый случай. Американцы любят гигантоманию. Но макрофилия отнюдь не прерогатива одних американцев. Во Франции на 1400 фирм, или 0,0025 % всех компаний, в 1963 году приходилось 38 % всех занятых. Правительства Германии, Великобритании и других стран активно поощряли слияния фирм, считая, что так будет проще конкурировать с американскими гигантами.
Размах максимизации также не являлся прямым отражением максимизации прибыли. Маркс связывал «рост размеров промышленных предприятий» с «более широким развитием материальных движущих сил». Ленин, в свою очередь, утверждал, что гигантские предприятия, тресты и синдикаты подняли концентрацию производства на очень высокий уровень развития. Первым пунктом повестки дня Ленина после социалистической революции стало слияние и укрупнение предприятий России до как можно более малого числа производственных единиц. Сталин взошел по лестнице максимизации еще выше и создал гигантские новые проекты – металлургический комбинат в Магнитогорске, «Запорожсталь», Балхашский медеплавильный завод, тракторные заводы в Харькове и Сталинграде. Он запрашивал сведения о размерах соответствующего американского предприятия, после чего давал распоряжение построить еще более крупное.
В своей работе «Культ гигантизма в советском экономическом планировании» (The Cult of Bigness in Soviet Economic Planning) Леон М. Герман пишет: «В различных частях СССР местные политики, по сути, включились в гонку за привлечение самых крупных в мире проектов». В 1938 году Коммунистическая партия предостерегала от гигантомании, но особых успехов это не принесло. Советские и восточноевропейские коммунистические лидеры по сей день, по словам Германа, одержимы пристрастием к гигантомании 9.
Вера в большие масштабы коренится в узости взглядов периода Второй волны на природу эффективности. В то же время макрофилия индустриализма выходила далеко за рамки заводских цехов. Она, например, отражается в сведении самых разнообразных данных в один статистический показатель под названием валовый национальный продукт (ВНП), определяющий «размер» экономики путем суммирования стоимости произведенных ею товаров и услуг. Этот показатель, которым так любят пользоваться экономисты Второй волны, имеет много недостатков. С точки зрения ВНП не важно, что именно производилось – продукты питания, преподавание, медицинские услуги или военное имущество. Найм бригады рабочих для строительства дома или его сноса одинаково вносил вклад в ВНП, хотя первое увеличивало жилищный фонд, а второе его сокращало. Из-за того, что ВНП измерял только рыночную деятельность или обмен, этот показатель совершенно игнорировал целую отрасль жизнеобеспечения, основанную на неоплачиваемом труде, – например, воспитание детей и выполнение домашних обязанностей 10.
Несмотря на несовершенство этого показателя, государства по всему миру включились в слепую гонку за повышение ВНП любой ценой, стремясь максимизировать «рост», невзирая на риск экологических и социальных катастроф. Гигантомания как принцип настолько глубоко укоренилась в индустриальном складе ума, что казалась совершенно рациональной. Максимизация вместе с унификацией и специализацией заняла свое место в ряду основных правил индустриальной эпохи.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе