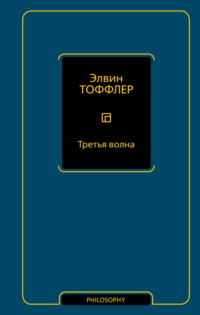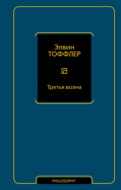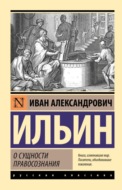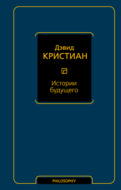Читать книгу: «Третья волна», страница 3
Живые батарейки
Предварительным условиям возникновения любой – старой или новой – цивилизации является энергия. Общества Первой волны извлекали энергию из «живых батареек», используя мускульную силу людей или животных либо энергию солнца, ветра и воды. Леса вырубали на дрова для приготовления пищи и обогрева. Водяные колеса, часть из них использовали приливную энергию, вращали жернова. В полях скрипели мельницы. Животные таскали плуги. По некоторым оценкам, еще в эпоху Французской революции Европа использовала энергию порядка 14 млн лошадей и 24 млн быков. Таким образом, все общества Первой волны опирались на возобновляемые источники энергии. Природа восполняла срубленные леса, ветер, надувающий паруса кораблей, и реки, вращающие колеса водяных мельниц. Даже люди и животные играли роль заменимых «энергетических рабов».
В противовес Первой волне все общества Второй волны удовлетворяли свои потребности в энергии за счет угля, газа и нефти, то есть невосполнимых полезных ископаемых. Этот революционный сдвиг произошел после изобретения Ньюкоменом в 1712 году работающей модели парового двигателя и впервые в истории планеты означал, что цивилизация перестала жить на проценты и начала проедать основной капитал природы.
Посягательство на природные запасы энергии предоставило промышленной цивилизации скрытую выгоду и значительно ускорило экономический рост. С самого начала индустриализации и по сей день страны, охваченные Второй волной, создавали гигантские технологические и экономические структуры, исходя из предположения, что дешевое ископаемое топливо фактически неиссякаемо. Что в капиталистическом, что в социалистическом обществе, на Востоке и на Западе происходил один и тот же сдвиг от рассеянности энергии к ее концентрации, от возобновляемых видов энергии к невозобновляемым, от множества различных источников к нескольким избранным. Ископаемое топливо составляло энергетическую базу всех без исключения обществ Второй волны.
Технологическая утроба
Скачкообразный переход к энергетической системе нового типа сопровождался гигантским скачком технологий. Общества Первой волны полагались, как говорил Витрувий две тысячи лет назад, на «вынужденные изобретения». Все эти древние лебедки, клинья, катапульты, давильные прессы, рычаги и вороты в основном использовались для усиления мышечной силы человека или животных.
Вторая волна подняла технологию на совершенно иной уровень. Она породила гигантские электромеханические машины, движущиеся части, ременные передачи, шланги, подшипники и затворы, все это стучало и грохотало. Новые машины были способны на нечто большее, нежели примитивное усиление энергии мышц. Промышленная цивилизация снабдила технические устройства органами чувств, научив их слышать, видеть и осязать с куда большей точностью и чувствительностью, чем это мог делать человек. Она снабдила технологию утробой, создав машины, способные в бесконечной прогрессии производить на свет другие машины – станки. Более того, она объединила машины во взаимозависимые системы под одной крышей, создав сначала заводы, а на заводах – сборочные линии.
На этой технологической базе вырос целый сонм промышленных отраслей, придавших цивилизации Второй волны ее характерный облик. Сначала появились уголь, текстиль и железные дороги, потом – сталь, производство автомобилей, алюминий, химикаты и самолеты. Как грибы после дождя выросли огромные города-фабрики: центры текстильной промышленности Лилль и Манчестер, автомобильной – Детройт, сталелитейной – Эссен, Магнитогорск и сотни других.
Эти промышленные центры производили многомиллионный поток готовых стандартных изделий – рубашек, обуви, автомобилей, часов, игрушек, мыла, шампуня, фотокамер, пулеметов и электромоторов. Новые технологии с помощью новой энергетической системы открыли путь для массового производства.
Красная пагода
Массовое производство, однако, не имело смысла без сопутствующих изменений системы распределения. В обществах Первой волны товары обычно производились кустарным способом. Предметы изготовлялись поштучно и под заказ. Под стать производству было и распределение.
Правда и то, что в расширяющиеся трещины старого феодального строя проникали крупные, хорошо организованные торговые и купеческие компании Запада. Они прокладывали кругосветные торговые маршруты, организуя охрану морских конвоев и верблюжьих караванов. Эти компании торговали стеклом, бумагой, шелком, чаем, вином, шерстью, индиго, мускатным орехом и его шелухой.
Потребителям большинство этих товаров доставлялись через мелкие лавчонки, а также в торбах или на тележках ходивших по деревням разносчиков. Убогая система связи и примитивный транспорт резко ограничивали размеры рынка. Мелкие лавочники и бродячие торговцы предлагали крайне скудный ассортимент и зачастую не могли получить тот же товар целыми месяцами, а то и годами.
Вторая волна произвела в этой скрипучей перегруженной системе распределения товаров не менее радикальную перестройку, чем в производстве. Железные дороги, шоссе и каналы предоставили доступ к глубинке, индустриализм породил «дворцы торговли» – первые универмаги. Быстро сложилась комплексная сеть маклеров, оптовых торговцев, комиссионных агентов и представителей поставщиков. В 1871 году Джордж Хантингтон Хартфорд, открыв в Нью-Йорке свой первый магазин с крашенным киноварью фасадом и будкой кассира в форме китайской пагоды, совершил такой же переворот в системе распределения, какой Генри Форд позже произвел на производстве. Хартфорд поднял распределение на невиданный прежде уровень и создал первую в мире гигантскую сеть однотипных магазинов – «Великую атлантическую и тихоокеанскую чайную компанию».
Распределение товаров по заказу уступило место массовому распределению и массовой закупке товаров, которые стали такими же привычными, неотъемлемыми элементами всех индустриальных обществ, как и машины.
* * *
Вместе взятые, эти изменения можно назвать трансформацией техносферы. Все общества – первобытные, аграрные и промышленные – используют энергию, производят необходимые предметы и распределяют их. Во всех обществах энергетическая система, система производства и система распределения являются взаимосвязанными частями гораздо более крупного целого. Это более крупное целое и есть техносфера, имеющая характерный тип для каждого этапа общественного развития.
По мере продвижения Второй волны по планете аграрную техносферу сменила промышленная техносфера. Невосполнимые источники энергии были напрямую встроены в систему массового производства, которая, в свою очередь, наводнила товарами систему массового распределения.
Упрощенная семья
Однако техносфера Второй волны нуждалась в не менее революционном преобразовании социальной сферы, в радикально новых формах организации общества.
До наступления индустриальной революции формы семьи сильно различались в разных местах. Там, где господствовало сельское хозяйство, люди обычно жили большими семьями, объединявшими представителей нескольких поколений. Дяди, тети, родня мужа и жены, дедушки и бабушки, двоюродные братья и сестры жили под одной крышей, работали сообща как единая производственная ячейка. По такому принципу были организованы «индийская семья», балканская «задруга», расширенная семья Западной Европы. К тому же семья никогда не покидала насиженное место, была корнями связана с землей.
Когда Вторая волна начала размывать общественный уклад Первой волны, семьи тоже ощутили на себе давление перемен. В каждой семье столкновение двух волн принимало форму личных конфликтов, выступлений против авторитета патриархов, изменения отношений между родителями и детьми, новых представлений о пристойности поведения. По мере перемещения производства с полей в фабричные цеха семьи перестали функционировать как единые ячейки. В целях высвобождения работников для фабричного труда часть семейных функций передавалась новым, специализированным учреждениям. Обучение детей поручалось школам, забота о стариках – богадельням, домам инвалидов и домам престарелых. Однако больше всего новое общество требовало мобильности, наличия работников, способных перемещаться в поисках работы с места на место.
Расширенная семья, обремененная престарелыми, больными и увечными членами, а также целым выводком детей, не обладала мобильностью. Поэтому структура семьи начала мучительно медленно меняться. Раздираемые миграцией в города, сотрясаемые экономическими бурями семьи постепенно избавлялись от нежелательной родни, становились меньше, мобильнее, лучше приспосабливались к нуждам новой техносферы.
Общественно признанным эталоном, современной моделью всех индустриальных обществ, как капиталистических, так и социалистических, стала так называемая нуклеарная семья, состоящая из отца, матери и нескольких детей, не обремененная другими родственниками. Даже в Японии, где благодаря культу преклонения перед предками пожилые люди занимали чрезвычайно почетное место, большие, состоящие из нескольких тесно переплетенных поколений семьи с нарастанием Второй волны начали разрушаться. Появлялось все большее количество нуклеарных семей. Короче говоря, нуклеарная семья наряду с ископаемым топливом, сталепрокатными станами или сетями универмагов стала еще одной характерной чертой всех обществ Второй волны.
Скрытая учебная программа
Итак, труд переместился с полей в фабричные цеха. Детей требовалось готовить к фабричному быту. Первые владельцы шахт, заводов и фабрик периода индустриализации Англии обнаружили, как в 1835 году писал Эндрю Юр, что «лиц, достигших половой зрелости, привлеченных хоть из сельской, хоть из ремесленной среды, почти невозможно превратить в полезных фабричных работников». Если бы получилось заранее готовить молодых людей к работе в рамках индустриальной системы, это помогло бы решить проблемы с трудовой дисциплиной в будущем. В итоге возникла еще одна централизованная структура общества Второй волны – система массового образования.
Взяв за основу модель фабрики, массовое образование обучало элементарным навыкам чтения, письма и счета и понемножку – истории и другим предметам. Так выглядела «явная» учебная программа. Но за ней также стояла куда более простая, «скрытая» программа. Она включала в себя и до сих пор включает во многих странах три «предмета»: пунктуальность, послушание и привычку к монотонному, однообразному труду. Работа на фабрике требовала от рабочих, особенно тех, кто трудился на сборочных линиях, не опаздывать, а также не прекословя выполнять распоряжения начальства. Она требовала от работников и работниц готовности к рабскому труду за станками или в конторах, связанному с выполнением изматывающе однообразных операций.
Поэтому начиная с середины XIX века, когда Вторая волна накатывала на одну страну за другой, происходило непрерывное развитие системы образования: дети начинали школьное обучение во все более юном возрасте, учебный год становился все длиннее (в США с 1878 по 1956 год он увеличился на 35 %), неуклонно возрастала продолжительность курса обязательного школьного обучения.
Массовое государственное образование определенно было гуманизирующей, прогрессивной мерой. Группа механиков и рабочих Нью-Йорка еще в 1829 году заявила, что «помимо права на жизнь и свободу величайшим благом, дарованным человечеству, мы считаем образование». И тем не менее школы Второй волны механически штамповали поколение за поколением молодых людей, превращая их в податливую, специализированную рабочую силу, востребованную развитием электромеханических технологий и сборочных конвейеров.
Нуклеарная семья и школьное образование по фабричной модели, вместе взятые, стали частью единой, интегрированной системы подготовки молодежи к выполнению различных ролей в рамках индустриального общества. В этом плане все общества Второй волны, капиталистические и социалистические, Севера и Юга, были одинаково равны.
Бессмертные существа
Во всех обществах Второй волны возник еще и третий институт, дополнявший функции социального контроля первых двух. Этим институтом явилась корпорация. До ее изобретения типичное деловое предприятие по форме своего владения было индивидуальным, семейным или партнерским. Корпорации хотя и существовали, встречались крайне редко.
Даже во времена Американской революции, согласно историку Артуру Дьюингу, никто не мог бы предположить, что именно корпорация, а не товарищество и не индивидуальное предприятие станет главной организационной формой бизнеса. В 1800 году в США насчитывалось всего 335 корпораций, большинство из них занимались, по сути, государственными обязанностями – строительством каналов и взиманием тарифов за проезд по дорогам.
Рост массового производства все это изменил. Технологии Второй волны требовали гигантского капитала – намного больше, чем могли предоставить одиночное лицо или небольшая группа. Одиночные владельцы или компаньоны, которым приходилось рисковать личным состоянием, неохотно вкладывали деньги в большие или непредсказуемые предприятия. Чтобы пробудить у них интерес к инвестициям, была внедрена форма общества с ограниченной ответственностью. Если корпорация разорялась, инвестор терял только вложенную в нее сумму. Эта инновация распахнула ворота для потока инвестиций.
Кроме того, суды относились к корпорациям как к «бессмертным существам», то есть такие образования могли пережить своих основателей. В свою очередь, это означало, что корпорации могли вести планирование с очень дальним прицелом и запускать намного более крупные проекты, чем прежде.
К 1901 году появилась первая в мире корпорация с миллиардным капиталом – United States Steel. Подобной концентрации активов невозможно вообразить ни на одном предыдущем историческом этапе. К 1919 году насчитывалось полдюжины таких монстров. Крупные корпорации стали неотъемлемой частью экономики всех промышленно развитых стран, в том числе социалистических и коммунистических, где они отличались по организационной форме, но оставались одинаковыми по сути 2. Все вместе эти элементы – нуклеарная семья, школа-фабрика и гигантская корпорация – стали определяющими социальными институтами во всех обществах Второй волны.
Поэтому неслучайно, что повсюду в мире Второй волны, в Японии, Швейцарии, Великобритании, Польше, США и СССР, большинство людей двигались по одному и тому же жизненному пути: взращенные в нуклеарной семье, они коллективно посещали школу-фабрику, после чего поступали на работу в крупную частную или государственную корпорацию. Каждый этап их жизненного пути контролировался одним из ключевых институтов Второй волны.
Музыкальная фабрика
Вокруг этих трех основных институтов сложился целый сонм других организаций. Министерства, спортклубы, церкви, торговые палаты, профсоюзы, ассоциации профессиональных работников, политические партии, библиотеки, этнические объединения, группы досуга и тысячи других структур колыхались в фарватере Второй волны, образуя сложную организационную экосистему, в которой каждая группа обслуживала, дополняла и уравновешивала другую.
Поначалу многообразие таких групп наводит на мысль о хаосе и беспорядке. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются скрытые общие черты. В одной стране Второй волны за другой социальные экспериментаторы, считая фабрику наиболее прогрессивной и эффективной формой производства, пытались внедрить тот же принцип в других организациях. Поэтому школы, больницы, тюрьмы, государственные органы и прочие организации перенимали многие характерные черты фабрик и заводов – разделение труда, иерархическую структуру, механическую безликость.
Действие фабричного принципа можно обнаружить даже в искусстве. Вместо работы на богатого мецената, что было обычным делом в период долгого господства аграрной цивилизации, музыканты, художники, композиторы и писатели стали все больше отдавать себя на милость рынка, все больше выпускать «товары» для анонимных потребителей. Так как эта перемена произошла в каждой стране Второй волны, изменилась сама структура художественной деятельности.
Ярким примером являются музыканты. С наступлением Второй волны в Лондоне, Вене, Париже и других городах начали появляться концертные залы, а вместе с ними – билетные кассы и импресарио, то есть дельцы, финансирующие производство и продающие билеты потребителям культуры.
Естественно, чем больше билетов удавалось продать, тем выше была прибыль. Поэтому концертные залы постоянно расширяли, добавляя новые зрительские места. Однако самые крупные из них, в свою очередь, требовали более громкого звучания, чтобы слушатели хорошо слышали музыку даже с последних рядов. Как следствие, произошел переход от камерной к симфонической музыке.
Курт Закс в авторитетном труде «История музыкальных инструментов» пишет: «Переход от аристократической к демократической культуре, происшедший в XVIII веке, заменил небольшие музыкальные салоны на гигантские концертные залы, требовавшие, чтобы музыка звучала громче». Так как позволяющая это делать технология пока еще не была изобретена, необходимая громкость обеспечивалась увеличением числа инструментов и музыкантов. В итоге родился современный симфонический оркестр. Бетховен, Мендельсон, Шуман и Брамс писали свои величественные симфонии именно для этой индустрии.
Внутреннее строение оркестра тоже чем-то напоминало фабричное производство. Поначалу у симфонического оркестра не было руководителя, его роль поочередно играли исполнители. Затем музыкантов, как рабочих на заводе или служащих в конторе, поделили на отделы или цеха (группы инструментов), все они вносили вклад в изготовление общего продукта (музыки), действиями каждого управлял сверху менеджер (дирижер), в оркестре даже был свой прораб (первая скрипка или ведущий музыкант группы инструментов). Данный институт продавал свой товар на массовом рынке, позже добавив к ассортименту своей продукции грампластинки. Так родилась музыкальная фабрика.
История симфонического оркестра – лишь одна из иллюстраций становления социальной сферы Второй волны с ее тремя коренными институтами и тысячами разнообразных организаций, адаптированных под нужды и процессы индустриальной техносферы. Однако цивилизация включает в себя не только техносферу и соответствующую социальную сферу. Для создания и распространения информации все цивилизации также нуждаются в инфосфере. Вторая волна внесла удивительные изменения и в эту область.
Бумажная метель
Все группы людей со времен первобытного человека до наших дней зависели от личного общения лицом к лицу. Однако нужда в системах передачи сообщений на расстояние и во времени также существовала. По некоторым сведениям, в древней Персии была создана линия связи под названием «царские уши» – на возвышениях и башнях ставили людей с пронзительными, громкими голосами, которые выкрикивали сообщения, передавая их по цепочке. Древние римляне использовали разветвленную службу передачи сообщений под названием cursus publicus. Семейный дом Турн-и-Таксис с 1305 года до начала XIX века содержал конную почтовую службу, действовавшую на всей территории Европы. К 1628 году она насчитывала двадцать тысяч сотрудников. Курьеры, одетые в синюю форму с серебряным позументом, колесили по всему континенту, доставляя письма принцам и генералам, купцам и ростовщикам.
В цивилизации Первой волны эти каналы связи были прерогативой богатых и влиятельных людей и оставались недоступны для обычного люда. По словам историка Лаурина Зиллиакуса, попытки отправления писем другими способами воспринимались с подозрением или запрещались властями. Другими словами, в то время как личный обмен информацией лицом к лицу был открыт для всех, более прогрессивные системы передачи информации за пределы семейного круга или деревенской общины были недоступны для посторонних и использовались правителями в целях общественно-политического контроля. По сути, они играли для элиты роль оружия.
Вторая волна, охватывая одну страну за другой, камня на камне не оставила от монополии на коммуникацию. Это произошло не потому, что богатые и влиятельные люди вдруг подобрели, но потому, что технологии Второй волны и массовое фабричное производство требовали передачи гигантских объемов информации, с которой прежние каналы попросту не справлялись.
Первобытному или аграрному обществу для целей экономического производства требовалась сравнительно простая информация, которая обычно предоставлялась кем-нибудь поблизости. По своей форме она ограничивалась устными сообщениями и жестикуляцией. Экономика Второй волны, наоборот, требовала тесной координации труда, который осуществлялся одновременно во многих местах. Производить и тщательно распределять необходимо было не только сырье, но и огромное количество информации.
Поэтому, как только Вторая волна начала набирать силу, все страны бросились создавать почтовые службы. Почтамт был гениальным и крайне полезным для общества изобретением под стать хлопкоочистительной или прядильной машине. Сегодня об этом немного позабыли, но в свое время почтовая связь вызвала бурный восторг. Американский оратор Эдвард Эверетт провозгласил: «Я вынужден признать, что почтовая служба наряду с христианской религией – это правая рука нашей современной цивилизации».
Почтовая служба предоставила первый открытый канал коммуникации в индустриальную эпоху. К 1837 году почта Великобритании ежегодно переправляла не только письма для элиты, но и 88 млн почтовых отправлений – настоящую лавину сообщений для того времени. К 1960 году, когда индустриальная эпоха достигла своего пика и началась Третья волна, количество почтовых отправлений возросло до десяти миллиардов. За этот же год почтовая служба США доставила в расчете на каждого жителя, включая мужчин, женщин и детей, 355 отправлений только внутри страны 3.
И все-таки вал почтовых сообщений, сопровождавший промышленную революцию, составлял лишь малую долю реального потока информации, хлынувшего вслед за приходом Второй волны. Еще большее количество сообщений обращалось в так называемых «микропочтовых системах» внутри крупных организаций. Масса служебных записок и циркуляров не попадала в общественные каналы коммуникации. В 1955 году, на гребне Второй волны в США, комиссия Гувера заглянула в папки с деловой документацией трех крупных корпораций. Она обнаружила соответственно 34 тыс., 56 тыс. и 64 тыс. документов и записок в расчете на каждого штатного сотрудника.
К тому же бурный рост потребности индустриальных обществ в информации невозможно было обеспечить одними письменными документами. Поэтому в XIX веке изобрели телефон и телеграф, взявшие на себя большую долю набухающего потока коммуникации. К 1960 году американцы делали около 256 млн телефонных звонков в день – более 93 млрд в год. Даже самые передовые телефонные системы и сети мира нередко испытывали перегрузку.
Все эти системы, как правило, передавали сообщения единовременно только от одного отправителя одному получателю. Однако обществам, развивающим массовое производство и массовое потребление, требовались способы массовой отправки сообщений или синхронная коммуникация между одним отправителем и большим числом получателей. В отличие от работодателя доиндустриальной эпохи, который при необходимости мог лично посетить на дому каждого из своих немногочисленных работников, новый промышленник не мог контактировать с тысячами рабочих в личном порядке. Еще труднее поддерживать связь со своими клиентами было оптовым закупщикам или дистрибьюторам. Обществу Второй волны требовались эффективные средства отправки одного и того же сообщения одновременно большой массе людей – недорогие, быстрые и надежные. И такие средства были изобретены.
Почтовая служба могла доставить одно и то же сообщение миллионам получателей, но не очень быстро. Телефоны передавали сообщения быстро, но не миллионам получателей одновременно. Этот пробел заполнили средства массовой информации.
Сегодня массовая циркуляция газет и журналов, разумеется, стала настолько привычной чертой повседневной жизни промышленно развитых стран, что ее принимают как должное. Между тем рост тиражей на национальном уровне шел в унисон с развитием новых промышленных технологий и общественных форм. Как писал Жан-Луи Серван-Шрайбер, это произошло благодаря совпадению нескольких факторов – «поездов, развозивших издание по стране [европейских размеров] за один день; ротационной печатной машины, способной выдать за несколько часов работы десятки миллионов экземпляров; телеграфа и телефона… но прежде всего – наличия публики, обученной читать в ходе обязательного школьного курса, и отраслей, нуждавшихся в массовом сбыте своей продукции».
Средства массовой информации, будь то газеты, радио, кино или телевидение, тоже работают по принципу фабричного производства. Все они вколачивают одинаковые сообщения в мозги миллионов людей подобно тому, как фабрика штампует одинаковые товары для миллионов домохозяйств. Из горстки крупных фабрик грез и представлений к миллионам потребителей течет река унифицированных, изготовленных в массовом порядке «фактов» – братьев-близнецов унифицированных, изготовленных в массовом порядке товаров. Без этой огромнейшей, мощной системы распределения информации промышленная цивилизация не смогла бы оформиться и надежно функционировать.
* * *
Таким образом, во всех промышленных обществах, как капиталистических, так и социалистических, возникла развитая инфосфера – каналы коммуникации, позволяющие распространять индивидуальные и массовые сообщения с не меньшей эффективностью, чем готовые товары или сырье. Инфосфера переплелась с техносферой и социальной сферой, обслуживая их нужды и помогая интегрировать экономическое производство и поведение индивида.
Все эти сферы играли ключевые функции внутри большой системы и не могли существовать в отрыве друг от друга. Техносфера производила и распределяла материальные ценности, социальная сфера с тысячами взаимосвязанных организаций назначала индивидуальные роли каждому человеку. Инфосфера распределяла информацию, необходимую для функционирования системы. Все вместе они сформировали базовую архитектуру общества.
Таким образом, мы видим контуры структур, которые являются общими для всех стран Второй волны, независимо от их культурных и климатических различий, этнического состава, религиозного наследия и того, называют ли они себя капиталистическими или коммунистическими.
Эти базовые структуры, одинаковые как в Советском Союзе и Венгрии, так и в ФРГ, Франции или Канаде, задают рамки, в которых проявляются политические, общественные и культурные различия. Они везде складываются лишь после ожесточенной политической, культурной и экономической борьбы между теми, кто пытается сохранить структуры Первой волны, и теми, кто понимает, что наболевшие проблемы прошлого поможет решить только цивилизация нового типа.
Вторая волна принесла с собой небывалый рост надежд. Люди впервые поверили, что нищету, голод, болезни и тиранию можно преодолеть. Писатели и философы-утописты от Этьенна-Габриэля Морелли и Роберта Оуэна до Сен-Симона, Фурье, Прудона, Луи Блана, Эдуарда Беллами и десятков других видели в нарождающейся промышленной цивилизации потенциал перехода к мирной жизни, гармонии, всеобщей занятости, материальному благополучию, равенству возможностей, ликвидации наследственных привилегий и всех тех порядков, которые выглядели вечными и незыблемыми в течение сотен тысяч лет первобытного существования и тысячелетий господства аграрной цивилизации.
Если нынешняя цивилизация кажется нам далекой от утопии, если она, напротив, выглядит деспотичной, безрадостной, экологически вредной, склонной к войнам и угнетающей психику, то неплохо бы выяснить, что служит этому причиной. Мы сможем ответить на этот вопрос, если взглянем на клин, который расколол дух Второй волны на две враждебные половины.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе