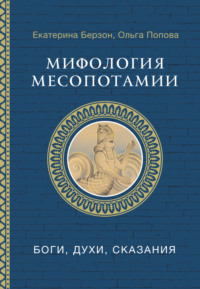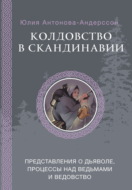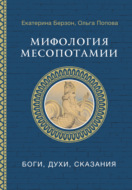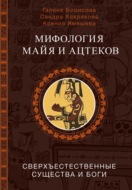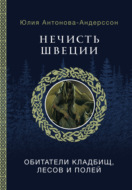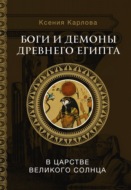Читать книгу: «Мифология Месопотамии. Боги, духи, сказания», страница 3
Основные этапы религии древней Месопотамии
Наши знания о месопотамской мифологии основываются на древних текстах, найденных археологами культовых сооружениях и иконографии. Часть текстов, такие как «Эпос о Гильгамеше», поэма о сотворении мира «Энума элиш» или рассказы о богине Иштар, дошли до нас в большом количестве копий, но есть и произведения, которые дошли обрывочно в единственном экземпляре. Некоторые сюжеты мы знаем только по отголоскам в иконографии.
В шумеро-аккадской мифологии сложно увидеть единую историю богов и персонажей и порой непросто построить генеалогию богов, потому что в мифах она далеко не всегда совпадает. События, произошедшие с богом или героем в одном мифе, могут не играть никакой роли в другом. Поэтому не удивляйтесь, когда будете читать, что отцом богини Инанны выступает то бог неба Ан, то бог луны Нанна.

Межевой камень кудурру с символами божеств
Став центром цивилизации, Месопотамия превращается в место культурного притяжения. В разные времена сюда приходят хурриты, хетты, касситы, арамеи, халдеи и другие народы. Все они оставили след в культуре и религии древнего Междуречья. Месопотамская цивилизация развивалась благодаря взаимодействию, столкновению и сплаву разных народов с их своеобразным общественным строем, набором верований, гадательных и магических практик и ритуалов, языком и политической структурой. Объединялись народы благодаря двум факторам: клинописному письму и пантеону богов, который из-за синкретизма (соединения разных верований и культов) и ассимиляции постоянно развивался, оставаясь при этом консервативным в своей морально-идеологической основе. Принять новых богов в политеистическую религию легко, ведь люди изначально верят, что богов существует множество.
Месопотамская цивилизация существовала несколько тысячелетий. За это время отношения между богами менялись не раз. Политическая воля могла превратить местных божеств в главных богов пантеона, как в случаях с Мардуком и Ашшуром. Шумеро-аккадская религиозная традиция основывалась на принципе сохранения и обогащения пантеона: новых богов принимали, старых не забывали. До нас дошли серии лексических списков богов, в которых перечисляется несколько сотен имен божеств – от главных до малоизвестных.
Иерархия месопотамского пантеона очень сильно зависела от исторических процессов. В период городов-государств у каждого города было свое божество-покровитель (Энлиль в Ниппуре, Инанна в Уруке, Нанна в Уре и так далее). С образованием же царств и централизацией власти централизовался и пантеон, во главу которого ставился бог-покровитель главного города, например Мардук, покровитель Вавилона.
В истории месопотамской религии можно выделить четыре основных этапа; каждый из них условно приходится на одно из четырех тысячелетий существования шумеро-аккадской цивилизации15. Религиозные представления жителей древней Месопотамии не были статичны, и было бы крайне неверно представлять их мировоззрение как нечто цельное и неизменное.
Первый этап приходится на 4-е тыс. до н. э., когда зарождается сама шумерская цивилизация. Об этом периоде мы знаем очень мало: письменность начинает складываться только ближе к концу этого этапа, а ранние знаки протоклинописи крайне трудны для интерпретации. Тем не менее уже в этом, еще довольно условном, рисуночном письме выделяются символы, которые, как мы знаем, позже станут обозначениями некоторых божеств. Например, можно увидеть звезду бога неба Ана, схематичное изображение восходящего между горами светила – имя бога солнца Уту/Шамаша, символ богини Инанны, напоминающий посох с закругленным навершием, – впоследствии он превратится в клинописный знак, обозначающий ее имя. Какие-то сведения мы черпаем также из памятников изобразительного искусства: например, изображения на печатях, ритуальные сцены на большой вазе из Урука, культовые статуи или их фрагменты. Их интерпретация порой затруднительна, и потому приходится признать, что первоначальные смыслы изображенных ритуа-лов ускользают от нас.
По всей видимости, на этом этапе в основе религиозных представлений древних шумеров главным образом лежало обожествление сил природы и природных явлений. Неслучайно имена многих богов шумерского пантеона отсылают к природным стихиям: Ан – «Небо», Энлиль – «Владыка-воздух», Нинхурсаг – «Госпожа – лесистая гора» и т. д. Некоторые из них ассоциируются с земледелием, другие выступают как покровители скотоводов. Особую семантику божественности (впрочем, как и в большинстве ранних земледельческих культур древнего Востока) обретает бык: в дальнейшем таким эпитетом наделяются многие месопотамские боги. Рога этого животного обычно украшают их головные уборы и в целом становятся одним из главных атрибутов божественной сущности.
Боги воспринимаются как податели природных благ: от их расположения зависят погода, приплод скота, урожай. Архаические мифы об умирающем и возрождающемся божестве, о воине-герое, побеждающем силы хаоса (последние обычно ассоциируются с горной местностью), известные нам по более поздним произведениям шумерской литературы 3-го тыс. до н. э., уходят корнями в эту эпоху или в более ранние пласты истории. Есть вероятность, что какой-то след здесь оставили и предшественники древних шумеров – так называемый протоевфратский субстрат. Ничего определенного мы об этом сказать не можем, кроме того, что имена некоторых божеств (например, Забаба – бог-покровитель города Киша) или мифических существ (хранитель Кедрового леса Хумбаба), судя по всему, имеют не шумерскую этимологию. Кроме того, ряд древних шумерских поселений (например, Эриду, Урук) были обитаемы и в более ранний период.

Рельеф с дороги процессий, изображающий льва – символ Иштар
Второй этап – 3-е тыс. до н. э. По мере становления и развития шумерской цивилизации и возникновения первых номовых государств представления о богах также претерпевают изменения. Боги становятся более антропоморфными. Некоторые из них приобретают определенные «обязанности», например выступают как правители: иногда в локальном масштабе – правителями своего города, иногда как носители верховной власти всего Шумера. Наиболее почитаемые божества получают земные резиденции – храмы. Они, будучи в первую очередь культовыми центрами, играют также важную роль в социально-экономической жизни городов-государств. Религиозным центром Шумера считается город Ниппур.
Тогда же складывается общий шумерский пантеон и выделяется так называемая шумерская триада: Ан, Энлиль и Энки – божества неба, воздуха (пространства между небом и землей) и земли и подземных вод соответственно. Помимо связи с силами природы у богов появляются и иные функции, часто имеющие отношение к определенным «сферам деятельности»: Гула почитается как богиня врачевания, Нисаба – как богиня счета и письменности. Верховные божества начинают ассоциироваться с различными проявлениями власти и связанными с ними абстрактными понятиями: Ан воплощает верховную власть, Энлиль – силу, Энки – мудрость, Нанна (бог луны) ассоциируется с царственностью, Уту (солнце) – со справедливостью и т. д.
С переселением семитских народов – сначала аккадцев, а ближе к концу 3-го тыс. до н. э. – и амореев, часть шумерских богов отождествляются с семитскими, чаще всего, по принципу общности их функций. Некоторые божества приобретают новые черты: например, шумерская богиня любви Инанна, слившись с семитской Иштар, становится более воинственной. В текстах боги все чаще фигурируют под семитскими именами. Появляются также отдельные собственно семитские культы (например, богов Дагана или Марту/Амурру, особенно почитаемых амореями), которые, впрочем, в городах исторического Шумера и Аккада не играют значимой роли. Именно к этому периоду относится создание или, точнее, письменная фиксация первых произведений шумерской и ранней аккадской литературы: гимны, молитвы, мифологические тексты – сказания о богах и героях. Важную роль в становлении государственности играет концепция царственности, которая воспринимается как самостоятельная божественная сущность, а ее пребывание в том или ином городе-государстве возвышает его над соседями.
Третий этап – 2-е тыс. до н. э. Как мы помним, в это время возвышается Вавилонское царство, которое в XVIII в. до н. э. из небольшого княжества, управляемого династией аморейского происхождения, превратилось в мощную державу. Она объединила бóльшую часть земель исторических Шумера и Аккада – в разные времена Вавилонскому царству были подконтрольны и более обширные территории. Вместе с могуществом Вавилона возрастает значение культа его локального божества – Мардука, который постепенно становится главой пантеона Южной Месопотамии. Мардук не только перенимает функции божеств шумерской триады, которые, согласно поэме «Энума элиш», буквально передают ему свои полномочия, но и сливается с некоторыми менее значимыми богами, а их имена становятся именами или эпитетами самого верховного бога Вавилона. В верховьях же Тигра, вместе с ростом могущества Ассирии, в последней трети 2-го тыс. до н. э. в статусе верховного божества укрепляется Ашшур, первоначально божество-покровитель номового государства Ашшура.
Именно в этот период были записаны самые известные произведения аккадской литературы: «Эпос о Гильгамеше», поэмы о сотворении мира и о потопе («Сказание об Атрахасисе», «Энума элиш» и др.). В некоторых из них переосмысляют или как-то модифицируютсюжеты, взятые еще из шумерской литературы. Определенное развитие получает астрономия, а вместе с ней и астрология. Тогда же создается, вероятно, самая известная вавилонская астрологическая серия Enūma Anu Ellil («Когда Ану и Эллиль…»), названная так по первым словам этого сборника.
Во второй половине 2-го тыс. до н. э. начинает формироваться и личная религия: божество становится более близким человеку. Теперь он не только видит в боге олицетворение могущества стихии и вершителя судеб мира, но и ощущает с ним личную связь. Вместе с тем литературе того времени все чаще поднимается вопрос о проблеме существования зла в этом мире и в целом божественной справедливости. Если боги могущественны и (в целом) благи16, то почему же вокруг происходит столько несправедливости и зла, и те праведники, что истово и верно исполняют божественные требования, зачастую бедствуют, а злодеи преуспевают? Так рождается целый жанр «теодицеи» (богооправдания), в рамках которого авторы размышляют о жизни и пытаются объяснить проблему существования зла в этом мире.
Четвертый этап приходится на 1-е тыс. до н. э. Для этого периода свойственен частичный переход к генотеизму – промежуточной стадии между политеизмом и монотеизмом. Нечто подобное мы наблюдаем и в Вавилонии, и в Ассирии, где, соответственно, Мардук и Ашшур заслоняют собой иных божеств. Это не в полной мере новация – такую тенденцию мы можем заметить еще в некоторых текстах более раннего времени, однако в 1-м тыс. до н. э. тенденция становится еще более выраженной. В итоге Мардук начинает именоваться просто Белом, то есть «Господином», а в переписке того времени то и дело проскальзывает упоминание «бога» – без указания какого-то конкретного имени. В то же время, по-видимому, не следует и преувеличивать эти «протомонотеистические» тенденции, поскольку культы самых значимых в более ранний период божеств в той или иной степени продолжат существовать вплоть до последних веков истории клинописной культуры.
Политические события, безусловно, и здесь оказали влияние на изменения в религиозной жизни древней Месопотамии. Так, в период доминирования Ассирии первенство среди богов, с точки зрения самих ассирийцев, всецело принадлежит Ашшуру. Вавилонский Мардук, подобно самой его стране, находящейся под ассирийским гнетом, оказывается в подчиненном по отношению к Ашшуру положении. Это находит отражение и в литературных текстах того времени: так, в одном из них Ашшур подвергает Мардука наказанию, и главный бог Вавилона оказывается в темнице. В ассирийской версии космогонической поэмы «Энума элиш» функции Мардука также берет на себя Ашшур. Возможно, так отражено в литературной традиции разрушение Вавилона ассирийским царем Синаххерибом в 689 г. до н. э. Впрочем, нельзя сказать, что культы божеств пантеона Южной Месопотамии действительно притеснялись в Ассирии. Например, сын Мардука Набу, бог письменности и мудрости, напротив, становится очень популярен в новоассирийский период. То же можно сказать и о многих других. Даже Мардук-Бел фигурирует в списках ассирийских царских богов, хотя и не на первых позициях.

Ассирийский рельеф, изображающий висячие сады
К этому же времени, если точнее – периоду Нововавилонской державы, относится наиболее полное из дошедших до нас описаний новогоднего ритуала в Вавилоне, называемого Акиту. Это был один из главных календарных праздников древней Месопотамии: он знаменовал начало года или нового ритуального цикла. В разных городах могли проводиться локальные Акиту (как, например, в Уруке), однако главным считался именно вавилонский Акиту, в котором центральное место занимал Мардук. Он отмечался в нисанну – первом месяце вавилонского года. Интересно, что, согласно описанию этого ритуала, получающий от Мардука благословение на предстоящий год правитель должен был подвергаться унижению. Его били по лицу, и считалось, что если в результате этих действий царь заплачет – значит, бог доволен, и год будет хорошим. Однако действительно ли все происходило именно так, вопрос спорный.

Оттиск печати эллинистического периода с изображением дракона мушхушшу и подписью «Имущество» (храма Эсагилы)
Начиная с середины VI в. до н. э. и вплоть до начала III в. н. э. Вавилония оказывается под властью иноземных династий: персидской – Ахеменидов, македонских – Аргеадов и Селевкидов, парфянской – Аршакидов. После нескольких неудачных попыток борьбы при первых Ахеменидах Вавилония полностью утрачивает политическую независимость: ритуал Акиту теряет свой смысл, статую Мардука снова вывозят из города – теперь уже в одну из столиц Персидской империи. Многие древние города и храмы Месопотамии начинают приходить в упадок, включая и самое главное – святилища Мардука в Вавилоне. В эпоху эллинизма ситуация как будто несколько меняется: правители из династии Селевкидов в целом придерживались политики патронажа по отношению к святилищам в Вавилоне, Борсиппе и Уруке. Некоторые из них они посещали лично и даже совершали жертвоприношения вавилонским богам. В какой-то степени восстанавливается и столь важный для вавилонян новогодний ритуал Акиту. При этом неясно, как часто он проводился и как переосмыслялась роль в этом священнодействии царя, который в силу разных причин не мог (или не желал) регулярно в нем участвовать.
Можно было бы предположить, что эпоха эллинизма в Вавилонии стала временем религиозного синкретизма, однако это все же не совсем верно. Действительно, в античном мире многие вавилонские божества начинают соотноситься с греческими17, однако собственно вавилонские культы в древних городах продолжают в целом сложившиеся на протяжении многих столетий традиции. Дошедшие до нас богослужебные тексты этого времени – частично копии более ранних, частично составленные уже в эллинистический период – записаны на шумерском и аккадском языках, среди них также немало двуязычных. Одновременно с этим широкое распространение в эллинистическом мире получают не только вавилонские познания в астрономии, но и астрологические представления. В самой же Вавилонии становятся популярны и личные гороскопы – возможно, такой интерес в первую очередь проявляют к ним именно греки.
История месопотамской цивилизации обрывается где-то на рубеже нашей эры. Самый поздний известный ныне клинописный текст (астрономический альманах) датируется 79/80 г. н. э., а последние десятилетия существования вавилонских храмов, где почитались древние боги страны Шумера и Аккада, сокрыты от нас пеленой безмолвия источников. В то же время хорошо известно, что культы некоторых месопотамских божеств – например, Бела, Набу, Нергала – сохранялись в ряде городов Месопотамии и Сирии даже в первые века нашей эры.
Боги
Ан
Ан (шум.) / Ану (акк.) – владыка небес и глава шумеро-аккадского пантеона. Именно его имя возглавляет списки богов, которые в разные периоды составлялись месопотамскими писцами. В генеалогии божеств Ан занимает почетное место «отца богов», и его имя в клинописи записывалось тем же знаком, которым обозначалось слово «бог» – по-шумерски dingir. Само слово an означает «небо» – таким образом, Ан воплощает саму божественность и олицетворяет собой небесную сферу. Небеса же – область Ана – делились на три уровня: нижнее небо – звездное, среднее – там обитают небесные боги игиги, и верхнее – там находится чертог Ана. Как владыка и царь богов, предводительствующий на совете игигов, Ан обладает всей полнотой «небесной власти» – anūtu (буквально «анство»). В то же время он довольно далек от мира людей и редко принимает непосредственное участие в их жизни. Эквивалентом записи имени Ана было число 60: в шестидесятеричной системе, разработанной древними шумерами, оно символизировало полноту и таким образом подчеркивало особый статус этого божества.
В отношении семьи Ана, пожалуй, не сформировалось устойчивой традиции: как супруги небесного божества в разные периоды чаще всего фигурируют богини Ки (шум. «Земля») и Ураш (также ассоциируемая с землей)18 в более ранних текстах, в позднейших вариантах женой Ана зовется богиня Анту – это уже аккадское имя. Как и во многих других месопотамских божественных парах, эти богини редко выступают как самостоятельные героини: Ураш и Ки представляют противоположность Ану, и такой союз Неба и Земли, символизирующий мужское и женское начала, можно найти в космогонических представлениях многих народов мира. Анту же, напротив, представляет собой, в сущности, женский эквивалент Ана19. Ан считался отцом многих божеств шумеро-аккадского пантеона, например владыки подземных вод Энки, бога грозы Ишкура/Адада, в урукской традиции – богини Инанны/Иштар и др.
Центром почитания Ана был Урук, один из древнейших городов Междуречья, а его храм-жилище на земле назывался Эана – «Дом (é) неба (an)». Однако бóльшую часть истории этогогорода Ан находится в тени Инанны/Иштар, которая почитается как покровительница Урука и в религиозных и литературных текстах ассоциируется в первую очередь именно с этим городом. Например, во вступительной части «Эпоса о Гильгамеше» Эана прямо именуется «жилищем Иштар», которая, согласно урукской версии, обычно почиталась как дочь Ана, хотя в некоторых текстах именуется его женой. Почему в Уруке сформировался такой не самый характерный для месопотамских городов дуализм двух самостоятельных культов, сказать трудно – по-видимому, его история уходит в глубь веков. Возможно, эту традицию объясняет существование двух протогородских центров, из которых сложилась община Урука – Эаны и Куллаба. Судя по всему, Эана издревле ассоциировалась с Инанной/Иштар: здесь, согласно шумерской традиции, один из первых правителей Урука по имени Энмеркар возвел храм своей богине. Куллаб же исторически в большей степени связывался именно с Аном.

Глиняная статуэтка, изображающая мужское божество
Сосуществование двух культов в одном городе, согласно мифологическим сюжетам, не кажется странным: если незамужняя или, точнее сказать, не имеющая постоянного консорта Инанна/Иштар естественным образом должна проживать в доме отца, то сам Ан пребывает в небесном чертоге, уступив Урук и «Небесный дом» дочери. В старовавилонском гимне царя Амми-дитаны (XVII в. до н. э.), где Иштар выступает как супруга Ана, божественная пара делит престол на равных. Таким образом, бóльшую часть истории Урука главным божеством этого города выступает Инанна/Иштар.
Однако уже в эпоху заката клинописной цивилизации начиная с V в. до н. э. ситуация меняется, и в Уруке на первое место выходит именно культ Ана и его супруги Анту. Доподлинно неизвестно, с чем именно связаны такие перемены. Возможно, проясняет это исторический контекст: в 539 г. до н. э. Вавилония была завоевана персидским царем Киром II Великим и затем на протяжении более чем двух столетий входила в состав огромной персидской державы. В конце VI – первой трети V в. до н. э. по Вавилонии прокатилась серия антиперсидских восстаний, которые были сурово подавлены. О роли Урука в этих событиях мы толком не знаем, однако вполне возможно, что изменения в религиозной жизни города стали их отражением. К концу эпохи персидского владычества Эана приходит в упадок, а в III в. до н. э., уже в эллинистический период, в районе Куллаб возводится монументальный комплекс Бит-Реш («Главный храм»), посвященный Ану и Анту. До нас дошли документы, отсылаю-щие к разным этапам строительства этого храма, а также различные богослужебные и ритуальные тексты, связанные именно с культом Ана. В их числе – довольно подробное описание новогоднего ритуала, который, в отличие от вавилонского Акиту, проводился в Уруке осенью. О популярности Ана в позднем Уруке свидетельствует также и то, что в этот период именно его имя в подавляющем большинстве служит теофорным компонентом в вавилонских именах жителей города20.

Фрагмент межевого камня кудурру с символами богов Ана и Энлиля
Иконография Ана, как кажется, не выделяется какими-либоотличительными элементами. На некоторых вавилонских межевых камнях кудурру, где разные божества часто изображались символически, Ану, Энлилю и Энки обычно отводится верхний регистр. Отсылкой к Ану на них служит изображение престола с возвышающейся над ним тиарой, украшенной несколькими парами бычьих рогов – символом его божественной власти. Ее Ан разделяет с Энлилем; другим символом последнего служит престол с таким же головным убором. В сюжетах на печатях Ана узнать труднее: чаще всего верховные мужские божества изображаются там схожими – в длинных одеяниях и украшенных рогами головных уборах. Без специальных атрибутов или надписей определить, кто именно это из богов, зачастую не представляется возможным.
Известные мифологические сюжеты, связанные с Аном, как ни странно, не особенно многочисленны и не вполне соотносятся с его статусом. Более того, Ан обычно выступает в них как второстепенный персонаж и играет скорее пассивную роль. Один из самых известных эпизодов – история о Небесном Быке, которого выпрашивает у отца Иштар, дабы наказать дерзкого Гильгамеша, осмелившегося отказаться от брака с богиней. В «Эпосе» так передается диалог между Аном и его дочерью:
«Иштар разъярилась, поднялась на небо,
Поднявшись, Иштар пред отцом своим, Ану, плачет,
Пред Анту, ее матерью, бегут ее слезы:
“Отец мой, Гильгамеш меня посрамляет,
Гильгамеш перечислил мои прегрешенья,
Все мои прегрешенья и все мои скверны”.
Ану уста открыл и молвит, вещает ей, государыне Иштар:
“Разве не ты оскорбила царя Гильгамеша,
Что Гильгамеш перечислил твои прегрешенья,
Все твои прегрешенья и все твои скверны?”
Иштар уста открыла и молвит, вещает она отцу своему, Ану:
“Отец, создай Быка мне, чтоб убил Гильгамеша в его жилище,
За обиду Гильгамеш поплатиться должен!
Если же ты Быка не дашь мне —
Поражу я Гильгамеша в его жилище,
Проложу я путь в глубину преисподней,
Подниму я мертвых, чтоб живых пожирали,
Станет меньше тогда живых, чем мертвых!”
…
Как услышал Ану эти речи,
Ее он уважил, Быка он создал,
В Урук с небес погнала его Иштар»21.
Как известно, герой вместе со своим другом Энкиду расправился со страшным животным, которое Иштар натравила на Урук, после чего Ан на совете с Энлилем и Шамашем предлагает покарать Гильгамеша за его деяния:
«Ану, Эллиль и Шамаш меж собой говорили.
И Ану Эллилю вещает:
“Зачем они сразили Быка и Хумбабу?”
Ану сказал: “Умереть подобает
Тому, что у гор похитил кедры!”»
На это Энлиль возражает:
«Пусть умрет Энкиду,
Но Гильгамеш умереть не должен!»,
За Гильгамеша вступается Шамаш, и боги начинают спорить друг с другом. Ан, впрочем, в этой дискуссии уже не участвует. Итог нам известен: вместо Гильгамеша смерть уносит его друга.
Ан присутствует в литературном произведении, рассказываю-щем историю Адапы, одного из семи древних мудрецов, служителя и, по одной из версий, сына Энки, который сломал крылья богу южного ветра за то, что тот перевернул его лодку. Сперва Ан хочет покарать героя. Он предлагает Адапе хлеб и воду смерти, однако тот, будучи предупрежден Энки не принимать от богов никакой пищи, отвергает эти «дары». Через некоторое время Ан под влиянием стражей небесных врат Думузи и Гишзиды, проникшихся расположением к Адапе, меняет свое мнение о герое и предлагает ему пищу и воду жизни, которая должна даровать тому бессмертие. Но Адапа, верный заветам своего бога, отвергает и это, из-за чего он сам и в его лице все человечество лишается шанса получить вечную жизнь.
В «Сказании об Атрахасисе», когда младшее поколение богов устало от работы, Ан (по другой версии – Энки) предлагает создать людей, чтобы переложить заботы на них. Когда боги решают уничтожить человечество, наслав на него потоп, Ан не предпринимает никаких действий, чтобы остановить их. И вот какие горькие слова произносит «повитуха богов, мудрая» Мами, которая вместе с Энки создавала первого человека:
«Где же был Ану и его мудрость,
Когда боги, сыны его, речам его вняли?
Что, не подумав, потоп устроил,
Приговорил людей к истребленью!»22
И хотя главным инициатором потопа был Энлиль, ответственность за это жестокое решение возлагается на Ана. Тот же упрек затем повторяет и богиня Нинту:

Рельеф с изображением божеств из храма царя Караиндаша в Уруке
«Где был Ану и его разум?
Как? И Энлиль приблизился к жертве?
Потоп устроили, не подумав,
Приговорили людей к истребленью!
Вы решились на гибель мира!»
В целом создается впечатление, что Ан сам по себе безучастен к миру людей и в целом к тому, что происходит в поднебесной, если только его не втягивают в эти дела. Все больше отстраняясь от земных дел, Ан в совете с Энлилем в конце концов «определили Мардуку, первейшему сыну Эа, владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали его высоким именем»23. Это слова из Пролога к «Законам Хаммурапи», теологически объясняющие усиление Вавилонского царства и как следствие – возвышение покровителя Вавилона Мардука, который становится главным божеством месопотамского пантеона во 2-м тыс. до н. э.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе