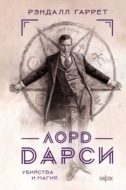Читать книгу: «Литания Длинного Солнца», страница 3
Однако Шелк вновь отрицательно покачал головой.
– Я ж говорил, что Клещ краденый, да? Так вот, патера, на этом-то я стянувшего его парня за глотку и прихватил. Сказал, что лягвам на него накачу и все такое… не то за Клеща вдвое больше пришлось бы выложить.
– Вздор, вздор. Не важно, – отмахнулся Шелк.
– Вот по такому случаю – ладно, чего уж там, грабь теперь ты меня. Пять карточек, патера. Хочешь… да говори ж ты, плут мелкий, – ишь, кочевряжится! Хочешь, обойди хоть весь рынок, и если найдешь второго такого же замечательного катахреста дешевле, меня туда отведи, и я уравняю цену! Пять карточек, а? За пять карточек тебе даже вдвое худшего товара никто не предложит, словом ручаюсь, а я – человек слова, кого угодно спроси! Согласен?
– Нет, сын мой.
– Мне, патера, просто деньги сейчас срочно требуются. Пожалуй, не следовало бы в том признаваться, однако… Любому торговцу живностью надо на что-то ее закупать, понимаешь? – забормотал торговец, на сей раз вовсе понизив голос до еле слышного шепота. – Я все гельтухи вложил в парочку верняков – в ледышки, понимаешь, патера? Вложил, а сбагрить вовремя не успел: стухли верняки-то у меня на руках. Вот потому и говорю: пять карточек, причем одну из них я в долг поверить готов. Как оно, а, патера? Четыре сейчас, на месте, и еще карточка в следующий раз, как увидимся… послезавтра у нас сциллица, день не торговый, так, стало быть, в мольпицу, а? По рукам?
– Нет, – повторил Шелк.
– Псиц, – отчетливо выговорил крохотный катахрест. – Кажь псиц, грянь!
– Ты кого это дрянью назвал, паразит блохастый?! – Просунув узкий клинок меж прутьев клетки, торговец кольнул зверька острием ножа прямо в крохотный розовый носик. – Его преподобие, достопочтенный авгур, к нам пришел не затем, чтоб на дурацких птиц любоваться… или как, патера? – с надеждой оглянувшись на Шелка, уточнил он. – Птица, если уж на то пошло, тоже говорящая. Ясное дело, на ребенка ничем не похожа, однако разговаривает бойко… одним словом, тоже ценная тварь!
Шелк призадумался.
– Грянь псиц. Сосед грянь псиц. Глуб, – мстительно предостерег его катахрест, вцепившись передними лапками в прутья клетки и встряхнув решетку что было сил. Кончики белых мохнатых пальцев зверька венчали черные, крохотные, игольно-острые коготки. – Грянь псиц, – повторил он. – Грянь клюх.
В последний раз хоть кто-либо из богов обращался к людям сквозь Священное Окно старого мантейона на Солнечной улице задолго до рождения Шелка, и слова торговца, несомненно, следовало считать знамением – одной из тех пророческих фраз, которые боги путями неведомыми, недоступными пониманию простых смертных вставляют порой в банальнейший разговор.
– Что ж, ладно, – как можно спокойнее согласился Шелк, – давай, показывай свою говорящую птицу. Раз уж я здесь, отчего бы не поглядеть… вот только мне вскоре пора идти.
С этими словами он поднял взгляд к солнцу, словно намереваясь уйти сию же минуту.
– Взгляни, взгляни! Ночная клушица, патера, – пояснил торговец. – Единственная, подвернувшаяся мне в нынешнем году.
Клетка с птицей появилась на свет из-под того же столика, накрытого алым полотнищем. Нахохлившаяся за решеткой птица оказалась довольно крупной, угольно-черной, с ярко-красными лапами, с пучком малиновых перьев у горла, а ее угрожающе длинный, острый «грянь клюх», как выразился катахрест, отливал зловещим багрянцем.
– И, стало быть, говорящая? – осведомился Шелк, хотя уже решил купить птицу, умеет она разговаривать или нет.
– А они все, все говорящие, патера, – заверил его торговец. – Все ночные клушицы до одной, разве не знаешь? Учатся друг у дружки там, в болотах вокруг Палюстрии. У меня их перебывало несколько штук, и эта, на мой взгляд, говорит лучше многих.
Шелк пригляделся к птице внимательнее. В устах катахреста человеческая речь отнюдь не казалась противоестественной: несмотря на шерстку, крохотный рыжий с белым зверек действительно очень походил на ребенка. Унылая черная птица, не отличавшаяся ни малейшим человекоподобием, смахивала разве что на обычного, пусть даже довольно большого, ворона.
– Первую кто-то выучил говорить еще во времена короткого солнца, патера, – пояснил торговец. – По крайней мере, так про них люди рассказывают. А после, надо думать, надоела ему ее трескотня, и выпустил он ее на волю, а может, она сама от хозяина упорхнула – это за ними не заржавеет, вернулась домой и обучила говорить всех прочих. Эту мне продал один мимохожий птицелов с юга, как раз в прошлую фэалицу, всего неделю назад. В целую карточку обошлась!
Шелк глумливо осклабился.
– Складно врешь, сын мой, художественно… да только нужда в капиталах тебя с головой выдает. Обошлась она тебе от силы в десяток долек, а то и дешевле, не так ли ты хотел сказать?
Торговец просиял, сверкнул глазами, почуяв поживу.
– Как хочешь, патера, а дешевле полной карточки я ее отдать не могу. Себе ж, понимаешь, убыток выйдет, и это в такое время, когда монета нужна позарез. Ты погляди, птица-то какова! Молодая, здоровая, сильная, на воле выращена… и вдобавок доставлена к нам из самой Палюстрии. На тамошнем большущем рынке к такому товару без целой карточки не подступишься, а то и доплатить придется. Одна клетка обошлась бы долек так в двадцать, если не в тридцать!
– А-а, – потерев руки, воскликнул Шелк, – так в твою цену входит и клетка!
Щелчок клюва ночной клушицы оказался куда громче ее бормотания:
– Нет… нет…
– Вот, патера! – Казалось, торговец готов запрыгать от радости. – Вот! Слыхал? Все понимает, что ни скажи! Знает, чего ради тебе потребовалась! Карточка, патера. Полновесная карточка. Ни единой дольки не уступлю: и так остаюсь без прибытка. Ладно, чего уж там, верни то, что я уплатил бродячему птицелову, и птица твоя. Роскошная жертва! Такую сам Пролокутор не постеснялся б богам поднести… а цена ей – всего-то карточка.
Шелк, приняв нарочито задумчивый вид, снова взглянул на солнце, обвел взглядом пыльный, переполненный рынок. Сквозь толпу – несомненно, в погоне за праздношатающимся юнцом, попавшимся ему на глаза чуть раньше, – пробивался, расчищая дорогу прикладами ружей, патруль стражников в зеленых рубашках.
– А ведь птица тоже ворованная, не так ли? – многозначительно осведомился Шелк. – Должно быть, так, иначе ты не прятал бы ее под столом вместе с катахрестом. Чем ты там пригрозил несчастному, у которого ее приобрел? «Лягвам на него накатить»… так ты, сын мой, выразился?
Торговец отвел взгляд в сторону.
– Я, разумеется, не из записных шпанюков, но, служа в мантейоне, со шпанской музыкой чуточку познакомился. Это ведь означает угрозу донести на него страже, если не ошибаюсь? Ну а представь, что сейчас я пригрожу тебе тем же самым. Согласись, справедливо ведь выйдет?
Торговец снова придвинулся к Шелку вплотную, слегка повернул голову вбок, словно сам сделался птицей (хотя, скорее уж, просто вспомнил об осквернявшем его дыхание чесноке).
– Клянусь, патера, это просто хитрость такая. Чтоб люди думали, будто товар достается им по дешевке… но тебе-то он и так обойдется – дешевле некуда.
Вернувшись с ночной клушицей в палестру незадолго до часа собрания, Шелк рассудил, что жертва, принесенная в спешке, может навредить куда сильней, чем вообще никакой, а живая птица отвлечет на себя внимание учеников самым душевредным образом. Входы в обитель авгура имелись и с Солнечной, и с Серебристой, однако он, по примеру патеры Щуки, держал обе двери на запоре. Воспользовавшись садовой калиткой, Шелк скорым шагом миновал усыпанную щебнем дорожку между западной стеной мантейона и чахнущей смоковницей, свернул влево, на тропинку, отделявшую грядки с зеленью (хозяйство майтеры Мрамор) от беседки, увитой виноградными лозами, и, прыгая через ступеньку, взбежал на обветшавшее крылечко обители. Здесь он отпер дверь кухни, водрузил клетку с птицей на шаткий дощатый стол и принялся энергично качать рукоять помпы, а как только из носика крана струей хлынула прохладная, чистая вода, оставил полную чашку у самой решетки – там, куда птица без труда дотянется жутковатым багровым клювом. Из мантейона уже доносились голоса и шаги учеников. Пригладив влажной ладонью волосы, Шелк поспешил к ним: день надлежало завершить напутствием. Невысокая задняя дверь мантейона, как всегда, оказалась распахнута настежь – для проветривания. Миновав ее, Шелк вмиг одолел десяток ступеней, стесанных, сглаженных под уклон стопами множества поколений спешащих авгуров, и вошел в полутемное святилище позади Священного Окна. Все еще размышляя о рынке, о мрачной птице, оставленной в кухне обители, мысленно подыскивая, что бы такого действительно важного сказать семидесяти трем ученикам в возрасте от восьми до почти шестнадцати лет, он проверил питание и заглянул в регистры Священного Окна. Увы, все они оказались пусты. Неужели вот к этому Окну вправду подходил сам Всевеликий Пас или еще кто-либо из богов? Вправду ли Всевеликий Пас, о чем столь часто рассказывал патера Щука, однажды поздравил его, ободрил, призвал собраться с силами, подготовиться к часу (а ждать сего часа, как намекнул Пас, осталось недолго), когда этот, нынешний круговорот, завершившись, останется в прошлом?
Подобное представлялось невероятным. Проверяя контакты изогнутым кончиком пустотелого наперсного креста, Шелк помолился об укреплении веры, а после, с осторожностью переступив через змеящийся по полу магистральный кабель (полагаться на его изоляцию более не стоило), перевел дух, выступил из-за Окна и занял место на выщербленном амбионе, в течение множества подобных собраний принадлежавшее патере Щуке.
Где-то спит ныне Щука, добрейший старик, старый верный служитель богов, прежде спавший из рук вон плохо, задремывая лишь на минутку-другую – всего на минутку-другую – за каждой совместной трапезой? Где-то он, нередко гневавшийся на рослого юного аколуфа, свалившегося на его голову после стольких лет, стольких десятилетий одиночества, и в то же время любивший преемника, как никто другой, кроме родной матери?
Где же он ныне, старый патера Щука? Где спит? Спит ли наконец-то крепко и безмятежно или то и дело пробуждается ото сна, как пробуждался всякую ночь, ворочался, скрипел, скрипел ложем за стеной, в узкой и длинной спальне по соседству со спальней Шелка? Пробуждался, молился и в полночь, и за полночь, и на ро́стени, в то время как вышние, небесные земли меркли высоко над головой; молился, когда Вирон гасил костры, фонари и канделябры о множестве лап, когда огни города отступали перед вновь явленным круговороту солнцем; молился, в то время как вокруг пробуждались, занимали положенные места зыбкие дневные тени, в то время как всюду вспыхивали пурпуром вестники утра, вьюнки, а цветы лилий, трубы ночи, безмолвно смыкали длинные, безукоризненно белые лепестки…
Неужто патера Щука, почивающий подле богов, более не просыпается, дабы напомнить богам об их божьих обязанностях?
Поднявшись на амбион патеры Щуки, встав вровень с мерцающей серой пустотой Священного Окна, Шелк выпрямился, расправил плечи, обвел взглядом учеников. Все они (это он знал точно) росли в бедных семьях, для многих полуденная трапеза, приготовленная полудюжиной матерей в кухне палестры, была первой за день, однако большинство ребятишек выглядели вполне опрятно, а уж о шалостях под бдительным присмотром майтеры Розы, майтеры Мрамор и майтеры Мяты никто даже не помышлял.
В начале нового года Шелк забрал старших мальчишек у майтеры Мяты и передал майтере Розе, изменив таким образом порядок, заведенный патерой Щукой, но сейчас, глядя на них, решил, что поступил неразумно. Старшие в большинстве своем слушались робкую майтеру Мяту из своеобразного, не слишком осознанного рыцарства, в случае надобности насаждаемого силами вожаков наподобие Бивня, однако к майтере Розе подобных чувств не питали, да и сама она держала класс в безжалостной, непоколебимой строгости, а что может быть худшим примером для мальчишек старшего возраста, юных мужчин – тех, кому скоро (ох, слишком уж, слишком уж скоро) предстоит блюсти порядок в собственных семьях?
Отвернувшись от учеников, Шелк перевел взгляд на образы Паса и его царственной супруги Эхидны – Двоеглавого Паса с молниями в руках, Эхидны в окружении змей. Прием подействовал безотказно: ропот множества детских голосов разом смолк, уступив место выжидающей тишине. В задних рядах поблескивали из-под куколя лиловыми искорками глаза майтеры Мрамор, и Шелк понимал, что взгляд ее устремлен на него, что при всем своем расположении к молодому авгуру майтера Мрамор пока не верит в его способность, говоря с амбиона, не ляпнуть какой-нибудь глупости.
– Сегодня, на сем нашем собрании, – начал он, – жертвоприношения не состоится, хотя все его и ожидали.
Отметив, что сумел заинтересовать всех, Шелк невольно улыбнулся.
– С этого месяца для одиннадцати из вас начался первый год обучения, – продолжал он, – однако и они, следует полагать, уже знают, что раздобыть жертву для собрания нам удается нечасто. Возможно, некоторые из вас удивляются: отчего я вдруг завел об этом речь? А оттого, что сегодня, именно в этот день, положение складывается несколько по-иному. Жертвоприношению здесь, в нашем мантейоне, быть, однако лишь после того, как все вы разойдетесь по домам. Уверен, об агнцах помнит каждый.
Около половины учеников закивали.
– Их я, как вам, наверное, тоже известно, приобрел на деньги, отложенные еще в схоле из тех, что присылала мать, прибавив к ним и часть жалованья, получаемого от Капитула. Все ли вы понимаете, что наш мантейон существует себе в убыток?
Старшие, судя по выражениям лиц, понимали это прекрасно.
– Увы, – продолжал Шелк, – дары, получаемые нами по сциллицам и в прочих случаях, не покрывают даже скудного жалованья, полагающегося нашим сибиллам и мне. По этой причине просрочили мы и уплату налогов – то есть остались в долгу перед Хузгадо, не говоря уж о различных иных задолженностях. Порой жертвенных животных предоставляют нам благотворители – люди, надеющиеся снискать благосклонность милосердных богов. Возможно, среди таковых имеются ваши родители, и если так, мы весьма им признательны. Когда же благотворителей не находится, мы с сибиллами покупаем жертву ко дню сциллицы – как правило, голубя – в складчину, из собственного жалованья… однако агнцев я, как уже говорил, приобрел сам. Для чего? Как по-твоему, Аддакс?
Аддакс – ровесник Бивня, почти столь же светлый лицом и волосом, как Шелк, – поднялся на ноги.
– Для предсказания судеб, патера.
Шелк кивнул, и Аддакс уселся на место.
– Именно, а точнее – судьбы нашего мантейона. Как всем вам известно, внутренности жертвенных агнцев предрекли ему блестящее будущее… но в основном потому, что я искал благосклонности различных богов и надеялся снискать ее подношениями, – прибавил Шелк и оглянулся на Священное Окно за спиной. – Первого агнца принес в жертву Пасу, а второго – Сцилле, покровительнице нашего города. Только на это – так мне подумалось – у меня и хватит средств: на одного белоснежного агнца для Всемогущего Паса и на другого, для Сциллы. Ну а испрашивал я у них, должен признаться, особой милости. Молил их снова явиться нам, как в прежние времена. Жаждал заверений, наглядных свидетельств их любви, даже не подозревая, насколько бессмысленны подобные заверения, когда ими изобилуют все до единой книги Хресмологического Писания!
С этими словами он постучал кончиком пальца по обложке истрепанной книги, лежавшей перед ним на амбионе.
– Как-то раз, поздним вечером, читая Писание, я вдруг понял, что читал его с детства, но по сию пору не сознавал, как крепко любим богами, хотя они твердили мне об этом снова и снова… а если так, что проку мне в собственном экземпляре? Посему книгу я продал, однако двадцати долей карточки, вырученных за нее, не хватило ни на еще одного белого агнца, ни даже на черного агнца для Фэа – в ее-то день все это и произошло. Пришлось мне удовольствоваться серым агнцем, пожертвовав его всем богам сразу, и внутренности серого агнца предрекли то же самое, что прочел я по внутренностям белых. Тут-то мне и следовало понять, что посредством агнцев к нам обращается вовсе не кто-либо из Девятерых, но… Увы, узнать этого бога мне удалось лишь сегодня, однако имени его я вам пока не открою, поскольку прежде должен разобраться в великом множестве вещей, оставшихся непонятными.
Взяв в руки Писание, Шелк сделал паузу, устремил взгляд на потертый переплет.
– Этот экземпляр, – продолжил он, – принадлежит мантейону. Его я и читаю с тех пор, как продал собственный, дабы принести жертву всем богам. Он много лучше моего прежнего во всех отношениях, начиная с печати и заканчивая пространностью комментариев. Еще в нем заключено немало уроков. Надеюсь, из вас их осилит каждый. Повоюйте, поборитесь с ними, если поначалу они покажутся чересчур трудными, и ни на миг не забывайте, что наша палестра была основана в давние-давние времена именно для того, чтоб обучить вас искусству борьбы во всех ее видах. Да, Лисенок? В чем дело?
– Патера, а бог к нам правда придет?
Некоторые из старших учеников рассмеялись, а Шелк, подождав, пока они не угомонятся, ответил:
– Да, Лисенок. Один из богов непременно придет к нашему Священному Окну, хотя, возможно, этого придется ждать долгое, очень долгое время. Однако ждать нам совсем ни к чему: вся их любовь, вся мудрость – здесь, у нас под рукой. Открой Писание в любом месте, и тут же увидишь стих, описывающий твои насущные затруднения – сегодняшние либо те, с которыми предстоит разбираться назавтра. В чем же причина сего чуда? Кто мне ответит?
Оглядев непроницаемые, пустые лица учеников, Шелк остановил взгляд на одной из девчонок, смеявшейся громче других.
– Отвечай ты, Цингибер.
Цингибер, неохотно поднявшись, одернула юбку.
– В том, что все тесно связано со всем прочим, патера?
Ответ оказался одним из любимых речений самого Шелка.
– Не знаешь, Цингибер?
– В том, что все тесно связано со всем прочим.
Шелк покачал головой:
– Разумеется, что все в нашем круговороте зависит от всего остального есть бесспорная истина. Но будь сей факт ответом на мой вопрос, любым строкам из любой книги следовало бы описывать наши насущные затруднения ничуть не хуже стихов Хресмологического Писания. Загляни наугад в любую другую книгу, и убедишься: это вовсе не так. Однако…
Вновь сделав паузу, Шелк еще раз постучал кончиком пальца по истертому переплету.
– Однако что мы увидим, стоит только открыть эту книгу?
Картинно раскрыв Писание наугад, он прочел вслух самую первую, верхнюю строку:
– «Льзя ль отдавать за песню десяток птиц?»
Явная отсылка к сделке, совсем недавно провернутой им на рынке, ошеломила его, вспугнула мысли, словно помянутый десяток птиц. Сглотнув, Шелк продолжил:
– «Как ни раскрась ты Орева, ворона, сумеешь ли выучить его пению?»
Ученики слушали, затаив дух, но, очевидно, мало что понимали.
– К истолкованиям мы перейдем несколько позже, – пообещал Шелк. – Вначале мне хотелось бы объяснить вот что: авторы сего Писания знали все не только о современном им состоянии круговорота – не только о настоящем, но и о грядущем, сиречь…
Сделав паузу, он обвел взглядом лица учеников.
– Сиречь постигли Замысел Паса. Всякий постигший Замысел Паса постигает будущее, понимаете? Замысел Паса и есть будущее, а его постижение и следование ему – главная обязанность в жизни каждого, будь то мужчина, женщина или дитя. Так вот, постигшие, как я уже говорил, Замысел Паса, хресмоды, безусловно, знали заранее, что может послужить нам наилучшим подспорьем, когда бы, в каком бы месте ни раскрыли бы мы сию книгу, что вернее всего выведет вас – нас с вами – на Златую Стезю.
Умолкнув, Шелк снова обвел учеников пристальным, испытующим взглядом и испустил вдох. Проблески интереса то тут, то там… проблески, но не более.
– Теперь вернемся к самим стихам. В первом из оных, «Льзя ль отдавать за песню десяток птиц?», заключено по меньшей мере три различных значения. Вот подрастете, научитесь вдумываться в прочитанное глубже, сами увидите: в каждый стих, в каждую строчку Писания вложено минимум два значения, а то и более. Одно из значений этого стиха относится лично ко мне. Его я объясню вам чуть погодя. Вначале давайте разберемся с двумя другими, касающимися всех нас. Прежде всего нам следует принять во внимание, что упомянутые десять птиц явно принадлежат к птицам певчим. Отметьте: в следующем стихе, где идет речь о птицах, петь не способных, на это указано прямо. Что же тогда означают сии десять певчих птиц? Детишек в классе – то есть вас же самих. Согласитесь, толкование вполне очевидно. Добрые сибиллы, ваши наставницы, призывают вас отвечать урок, когда поодиночке, а когда хором, и голоса ваши высоки, тонки, словно птичий щебет. Далее. Приобрести что-либо «за песню» означает «приобрести по дешевке». Общий смысл, как все мы видим, таков: льзя ль отдавать сие множество юных учеников задешево? Ответ: ясное дело, нет! Помните, дети, сколь дорого ценит – и сколь часто уверяет нас в этом – Всевеликий Пас каждое живое создание в нашем круговороте, вплоть до любой ягодки, до любого мотылька любого цвета и величины… а превыше всего – нас с вами, людей! Нет, отдавать птиц за песню нельзя, ибо птицы дороги Пасу! Ведь не приносим же мы в жертву бессмертным богам птиц и прочую живность, поскольку они ничего не стоят? Подобная жертва стала бы оскорблением для богов. Итак, «льзя ль отдавать за песню десяток птиц»? Нет. Нет, вас, дети мои, нельзя отдавать за бесценок!
Вот теперь ученики заинтересовались проповедью искренне, слушали в оба уха, многие наклонились, подались вперед.
– Далее нам надлежит принять во внимание и второй из стихов. Заметьте: десяток певчих птиц без труда породит на свет не десяток – десятки тысяч песен.
На миг перед его мысленным взором возникла та же картина, что, вероятно, когда-то овладела умом давным-давно усопшего хресмода, начертавшего эти строки: сад во внутреннем дворике, фонтан, всюду цветы, сверху растянута тонкая сеть, а под сетью той множество птиц – бюльбюлей, дроздов, щеглов, жаворонков – плетут роскошную, узорчатую ткань песни, тянущейся без умолку сквозь десятилетия, а может, и сквозь сотни лет, пока сеть не истлеет и освобожденные птицы не улетят на волю…
Но пусть даже так – отчего бы им время от времени не возвращаться в тот сад? Отчего бы не возвращаться туда, слетая с небес сквозь прорехи в истлевшей сети, дабы напиться воды из журчащего фонтана, а то и свить гнездо в покойном внутреннем дворике древнего дома? Да, долгий концерт их окончен, однако продолжится и по завершении, подобно тому, как оркестр продолжает играть, пока публика покидает театр, продолжает играть, наслаждаясь собственной музыкой, и велика ли важность, что последний из театралов ушел восвояси, домой; что зевающие капельдинеры гасят оплывшие свечи и огни рампы; что актеры с актрисами давно смыли грим, сменили костюмы на обычное, повседневное платье, переодевшись в неприметные темно-коричневые юбки и брюки с бесцветно-серыми блузами и рубашками, а сверху накинув бурые пальто, в которых явились к началу спектакля, на службу, такие же, в каких ходят на службу многие, многие из горожан, столь же простые, невзрачные, как оперенье бюльбюля?
– Но если птицы проданы, – продолжал Шелк, изгнав из головы актеров с актрисами, театр, и публику, и укрытый тончайшей сетью сад с фонтаном и сонмами певчих птиц, – откуда возьмутся песни? Мы, обладавшие несметным богатством, бессчетным множеством песен, останемся нищими, и тут ничего уже не поделать: ведь, как справедливо указывают провидцы-хресмоды, сколько ни крась перья черного ворона, сколько ни придавай ему деликатную красоту жаворонка или строгость и простоту наряда бюльбюля… да хоть вызолоти его под щегла – не поможет. Ворон останется вороном, несмотря ни на что.
Завершив пассаж, он перевел дух.
– К чему это все? Видите ли, дети мои, почитаемое, подразумевающее немалую власть положение может занять любой невежда. Допустим, к примеру, что некто, не получивший образования, пусть даже он – человек честный, благонамеренный… допустим, один из вас, учеников майтеры Мрамор, вдруг отлучен от ее уроков и так, недоучкой, волею случая вознесен на самый верх, в кресло Его Высокомудрия, Пролокутора. Вот он – ты или ты – трапезует и почивает в огромном дворце Его Высокомудрия, венчающем Палатин. В руках его посох, на плечах украшенные самоцветами ризы, все мы преклоняем перед ним колени, испрашивая благословения, но… но сможет ли он, согласно обязанностям, обеспечить нам должную мудрость? Нет. Уподобится тому самому ворону, безголосому ворону, размалеванному яркими красками.
Подняв взгляд к пыльным стропилам мантейона, Шелк мысленно сосчитал до трех, чтоб созданный им образ успел как следует закрепиться в головах слушателей.
– Надеюсь, из всего мною сказанного вам ясно, отчего учение следует продолжать. Надеюсь также, что вы понимаете: о главе Капитула я заговорил лишь для примера, но с той же легкостью мог бы привести в пример любого обычного человека, заменив Его Высокомудрие ремесленником, купцом, старшим делопроизводителем либо комиссаром. Вам надлежит учиться, дети мои, поскольку однажды вы непременно понадобитесь, пригодитесь нашему круговороту.
Вновь сделав паузу, Шелк оперся ладонями о древний, растрескавшийся камень амбиона. К этому времени неяркий солнечный свет, струившийся внутрь сквозь окно в вышине, над двустворчатыми дверьми, выходящими на Солнечную улицу, успел изрядно потускнеть.
– Таким образом, в Писании ясно сказано: ваша палестра не будет продана на сторону ни за недоимки, ни по какой-либо из прочих причин. Ходят слухи, будто она выставлена на торги, и многие из вас им верят… но совершенно напрасно.
Обращенные к нему лица засияли, озарились улыбками.
– Ну а сейчас я поведаю вам о третьем значении этих стихов, касающемся лично меня. Видите ли, это ведь я открыл Писание наугад, посему в нем и обнаружилось кое-что не только для всех, но и для меня одного. Сегодня, когда вы взялись за учебу, я отправился на рынок и приобрел там прекрасную говорящую птицу, ночную клушицу, для личного жертвоприношения… того самого, к коему приступлю, отпустив вас по домам. О том, как я, покупая тех агнцев, доставивших вам столько радости, надеялся, что один из богов, довольный нами, подойдет к сему Окну, как делали боги в прошлом, вы уже знаете и, думаю, поняли, сколь глупы были мои надежды. Вместо этого я получил иной, куда больший дар – дар, какого не выменять даже за всех агнцев с рынка. Да, сегодня я не стану рассказывать о нем вам, но скажу вот что: ниспослан он мне не за жертвы, не за молитвы, не за другие труды… однако ж ниспослан.
Старая майтера Роза сухо кашлянула. Казалось, механизм, заменивший ей дыхательное горло еще до того, как Шелк вымолвил первое в жизни слово, вполне разделяет скепсис хозяйки.
– Осознав это, я сразу же понял: принести благодарственную жертву надлежит мне, мне одному, хотя все мои сбережения уже истрачены на агнцев. И, как ни хотелось бы мне сейчас поведать вам, будто у меня имелся некий хитроумный план решения сей дилеммы, поисков выхода из положения… увы, никаких планов мне в голову не пришло. Зная лишь, что без жертвы не обойтись, уповая единственно на милосердие богов, поспешил я к рынку и по пути встретил незнакомца, снабдившего меня суммой, достаточной для приобретения прекрасной жертвы – говорящей ночной клушицы, о которой я уже упоминал, птицы, очень похожей на ворона. Так, дети мои, я и выяснил, что птиц нельзя отдавать за песню. Мало этого, еще мне – вот как щедры боги к возносящим молитвы – ниспослано было знамение, благая весть о том, что один из богов в самом деле придет к сему Священному Окну, откликнувшись на принесенную мною жертву. Возможно, как я и сказал Лисенку, не сразу, но лишь спустя долгое, долгое время, а посему нам следует набраться терпения. Набраться терпения, не терять веры и ни на минуту не забывать, что у богов есть иные способы говорить с нами, а если так, пусть даже наши Окна умолкнут навек, боги нас не оставят. Прежде всего они говорят с нами посредством знамений, видений и грез, как говорили с людьми во времена юности наших отцов, наших дедов и прадедов. Всякий раз, стоит нам расщедриться на жертву, они говорят с нами устами авгуров, а уж Писание у нас всегда под рукой, к нему можно обратиться за советом, когда б в таковом ни возникла нужда. Стыдно, стыдно нам, дети мои, повторять вслед за некоторыми, будто в наш век мы – что лодки без руля и ветрил!
Громовые раскаты за окнами заглушили даже вопли попрошаек и лоточников, оглашавшие Солнечную. Ребятишки беспокойно заерзали на скамьях, и Шелк после краткой заключительной молитвы распустил учеников по домам.
За дверьми мантейона забарабанили оземь, превращая в грязь желтую пыль, горячие, крупные капли дождя. Высыпавшие наружу ребятишки помчались вдоль Солнечной кто влево, кто вправо: задерживаться ради игр или болтовни, как бывало порой, сегодня не захотелось никому.
Сибиллы остались в мантейоне, помогать с жертвоприношением. Рысцой добежав до обители авгура, Шелк натянул церемониальные перчатки из плотной кожи и вынул из клетки ночную клушицу. Птица тотчас же, словно гадюка, клюнула его, целя в лицо. На палец левее, и длинный, зловеще багровый клюв угодил бы прямиком в глаз.
Крепко сжав голову птицы в обтянутой кожей ладони, Шелк посерьезнел, напомнил себе, сколько авгуров погублено животными, предназначавшимися в жертву богам: редкий год обходился без того, чтоб кого-либо из его злосчастных собратьев где-либо в городе не стоптал, не поднял на рога жертвенный лось или бык.
– Не смей клеваться, скверная птица, – пробормотал он себе под нос. – Или не знаешь, что, изувечив меня, будешь навеки проклята? Что за такое тебя забьют насмерть камнями и дух твой отдадут демонам?
Однако ночная клушица щелкала клювом, без толку била крыльями, пока Шелк не прижал сопротивлявшуюся птицу локтем к левому боку.
Тем временем сибиллы разожгли на алтаре, в жаркой, душной полутьме мантейона, жертвенный огонь. Стоило Шелку войти внутрь и торжественно, словно возглавляя процессию, направиться к алтарю, они закружились в неторопливом танце, хлопая подолами складчатых черных юбок, глуховато, нестройно затянув на три голоса зловещий, древний, как сам круговорот, ритуальный напев.
Костерок оказался совсем невелик, и лучинки благоуханного кедрового дерева уже пылали вовсю.
«Придется поторопиться, – подумал Шелк, – иначе жертвоприношение свершится при угасающем пламени, а знамения хуже еще поди поищи».
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе