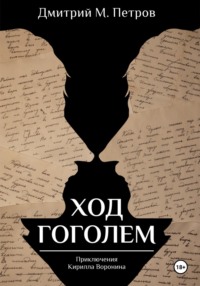Читать книгу: «Ход Гоголем», страница 2
– А вы, разумеется, получаете за это свои авторские отчисления? – внезапно с заднего ряда раздался голос Алисы Сенкевич. – Зарабатываете на имени великого писателя?
Решетников снисходительно посмотрел на неё и пожал плечами:
– Зарабатываю на своём знании биографии, творчества и характера великого писателя. Знаете, я считаю, что достаточно много сил вложил в изучение его жизни, чтобы это вернулось мне в виде прибавки к окладу преподавателя. Довольно неплохой, кстати. Огромные тиражи моих книг дают понять, что людям до сих пор интересно всё, что связано с Гоголем. И мои труды помогают им удовлетворить этот интерес. Так что же плохого в том, что я при этом ещё и зарабатываю, госпожа Сенкевич?
Алиса, насупившись, упёрла взгляд в парту.
– Итак, господа, наше занятие окончено. Следующую лекцию проведёт Кирилл Александрович со своим докладом, а мы с вами послушаем и подискутируем. До встречи!
Глава 2
Вспоминая утро того дня и ругая себя за неумение держать язык за зубами, Кирилл с нетерпением ждал своей станции. Он решил не терять времени и отправился к самому подходящему человеку, чтобы узнать о последних днях Гоголя, а особенно о его письмах, раз уж они так важны для написания доклада.
Не желая делать пересадку, Кирилл доехал до станции Кропоткинская и вышел из метро. Несмотря на то, что рабочий день ещё не закончился, центр Москвы утопал в пробках. «Кто все эти люди? – как и всегда, недоумевал Кирилл. – Неужели у них нет работы? Не могут же все они быть таксистами, курьерами и безработными студентами с дурацкими заданиями?»
Город постепенно погружался в сумерки, но фонари ещё не зажглись. К счастью, небо было чистым. Кириллу даже показалось – наверняка именно показалось, – что он увидел отражение ранней звезды в луже, что для залитого светом центра Москвы было совсем уж невероятно. Где-то короткой трелью пропел зяблик, почему-то опоздавший с отлётом на юг, но всё же в основном центр города наполняли гудки стоящих в пробках машин.
Но не только дороги были переполнены – на бульваре тоже хватало людей. Кто-то гулял с собакой, молодые парочки жались друг к другу в попытках согреться, пенсионеры мерно прохаживались, делясь свежими сплетнями. Кирилла часто удивляло, почему людям в такую промозглую погоду не сидится дома. Как можно променять удобное кресло, горячий кофе и хорошую книжку на прогулку по лужам среди облысевших деревьев, когда с неба того и гляди посыплется дождь, а то и снег? Нет, летом – совсем другое дело. Летом можно немного и погулять, тем более что бульвар в тёплое время года был совсем другим – ярким, живописным, зелёным. Кирилл и сам любил иногда пройтись, особенно если было не слишком жарко – жару он любил ещё меньше, чем ноябрьскую серость и сырость.
В тот день он шёл по бульвару, ссутулившись и спрятав нос в поднятый воротник пальто, практически не замечая никого вокруг, – все его мысли занимало полученное нелепое задание.
«Гоголь, блин… “Мёртвые души”! Да кому это вообще интересно? Два тома там было, три или десять. Но придётся угодить Решетникову с этим докладом – лишний балл на экзамене не помешает и позволит уделить больше времени другим предметам».
Дойдя до конца бульвара, Кирилл упёрся в памятник. Обойдя его и подняв глаза, он поморщился и проворчал:
– Ну ещё бы. Это же Гоголевский бульвар.
С пьедестала на него смотрел Николай Васильевич, величественный и импозантный, с мужественным и немного высокомерным лицом. Он горделиво стоял, и во взгляде писателя Кириллу привиделась ухмылка. Или это была гримаса лёгкого презрения? Мол, не по силам тебе, студент, раскрыть тайный смысл моего главного произведения. По крайней мере, именно такое впечатление создалось у Кирилла.
Памятник стоял посреди четырёх фонарных столбов, установленных на бронзовые основания в виде странных львов с обезьяньими мордами. Ох и глупыми же казались они Кириллу! Но, наверное, для того времени, когда были установлены эти столбы, такой дизайн был вполне привычным. Кирилл бросил взгляд на львов, презрительно фыркнул, затем перешёл дорогу и юркнул на Арбат.
Арбат был одним из немногих мест в Москве, которые Кириллу нравились. В этом районе, где каждый уголок дышал историей, а в каждом доме можно было обнаружить мемориальную квартиру какого-нибудь выдающегося деятеля, третьекурсник чувствовал себя в своей тарелке. Конечно, сейчас музеи терялись среди светящихся круглые сутки вывесок ресторанов, баров и прежде всего сувенирных магазинов, но и просто гулять по улице в окружении отреставрированных особняков и доходных домов было приятно. Главное, попытаться отбросить всё лишнее: весь этот современный визуальный шум, прилавки торговцев барахлом и электрический свет на фасадах – и тогда, вот она, атмосфера XIX века! Совсем рядом, ближе некуда – лишь руку протяни. Казалось, ещё вчера здесь можно было встретить неспешно прогуливающихся Пушкина и Лермонтова, Герцена и Аксакова, Булгакова и Блока. Сейчас, конечно, их заменили торговцы, курьеры и многочисленные туристы, но самое главное – атмосфера того, старого Арбата – осталось, достаточно лишь включить фантазию. Но как раз с этим у Кирилла проблем не было.
К тому же здесь всегда хватало интересных артистов и занятий. Он любил остановиться, послушать музыкантов, посмотреть на работу художников, а иногда – под настроение – и на выступление уличных танцоров. Возникало стойкое ощущение, что любой творческий человек, когда у него возникало желание – или нужда – заработать немного денег, не задавался вопросом «где?», потому что ответ казался очевидным: «Конечно, на Арбате!» В погожие дни артистов здесь собиралось столько, что в любом месте улицы можно было услышать сразу нескольких музыкантов, при этом наблюдая за рабочим процессом художника, а то и не одного. Даже молодые люди, читающие стихи на публику, на Арбате делали это с такой экспрессией, что возникал вопрос: они просто хорошие актёры, пытающиеся заработать хоть какую-то прибавку к нищенской зарплате служителя театра, или городские сумасшедшие?
В этот раз из-за сырости и холода никаких артистов не было, только один паренёк с длинными сальными волосами, надрываясь, пел под гитару что-то из русского рока. Кирилл задержался на секунду, чтобы насладиться музыкой, но насладиться не удалось: во-первых, парень пел на редкость фальшиво, а во-вторых, Кирилл быстро вспомнил, что у него есть дело. Поэтому он вздохнул и пошёл дальше.
Закончился рабочий день, и из окружающих Арбат офисных зданий повалил народ. Внезапно вокруг стало очень людно и улица наполнилась голосами и смехом. Не как в выходной день, конечно, но Кириллу то и дело приходилось лавировать между прохожими, чтобы ненароком никого не задеть, – большинство людей шли ему навстречу, к ближайшему метро. «Простите… Извините…» – то и дело бурчал он себе под нос, уворачиваясь от очередного встречного.
Через несколько минут таких манёвров он свернул в боковой переулок, а затем ещё в один и оказался во дворе старинного дома. Подойдя к знакомой неприметной двери, ведущей в полуподвальное помещение, он прочитал на табличке рядом: «Мельпомена. Книжный салон и букинистический магазин. Профессор Покровский В.А.»
Кирилл, как и всегда, улыбнулся. Никаким профессором Всеволод Андреевич Покровский не был: книготорговцем – да, страстным коллекционером книг – безусловно, но не профессором.
«Люди больше доверяют тому, кто может похвастаться учёной степенью, государственными наградами или ещё какой-нибудь бумажкой, – любил говорить Всеволод Андреевич. – А в моём деле доверие очень важно!»
С Покровским Кирилл познакомился ещё на первом курсе, во время написания работы по старославянскому языку. Оказалось, что в коллекции букиниста хранится одна из древнейших русских книг – «Изборник» 1075 года. Кирилл не мог поверить, что такая ценность находится не в музее или государственном фонде, а в частной коллекции в одном из московских подвалов. Он связался с Всеволодом Андреевичем и, что называется, напросился.
Кирилл никогда не забывал то волнение, какое охватило его, когда он первый раз зашёл в «Мельпомену».
Его встретило несколько стеклянных витрин с древними книгами и высокий прилавок, единственными предметами на котором были стилизованный под старину стационарный телефон в деревянном корпусе с позолоченной трубкой и маленький серебряный звонок. Кирилл долго не решался нажать на него, вместо этого разглядывая книжные шкафы из лакированного красного дерева, рядами уходящие в полумрак, – помещение было освещено редкими светильниками с тусклым жёлтым светом. В нескольких закутках виднелись удобные кресла и небольшие журнальные столики, на которых могли поместиться только книга и настольная лампа. Кирилл с удивлением заметил, что, несмотря на явную старину практически всего здесь находящегося, ему не бьёт в нос обычный для таких мест запах пыли, неухоженной старости и нафталина, – всё было идеально убрано, деревянные полки блестели от ежедневной протирки, а на книгах, казалось, не было ни пылинки.
Борясь со стеснением, Кирилл наконец нажал на звонок. Раздался высокий звон, и тут же где-то в темноте послышались торопливые шаги.
Из тени показался невысокий полноватый мужчина с пышной шевелюрой седых волос. Его внешний вид полностью соответствовал интерьеру салона – в винтажном, но безупречно выглядящем бордовом костюме-тройке, с антикварным зажимом для галстука и толстой серебряной цепочкой, уходящей от пуговицы жилетки куда-то под пиджак, он как будто и сам был гостем из XIX века.
– О! Вы Кирилл? – Он радостно протянул руку для приветствия. – Здравствуйте! Не так часто встретишь молодого человека, интересующегося старинными книгами.
– Я… не то чтобы интересуюсь, – засмущался Кирилл. – Мне для учёбы. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
– Вы были так вежливы в вашем письме, что я не мог отказать! Как говорится, на добрый привет добрый и ответ.
Знакомство сразу заладилось. Букинисту пришёлся по душе вежливый и скромный молодой человек, а Кирилла поразили невероятное обаяние и начитанность Всеволода Андреевича. Если бы преподаватели в университете были такими, кто знает, может, и учёбой он занимался бы куда охотнее?
Разумеется, Покровский не сразу предоставил Кириллу доступ к уникальной книге. При первой встрече он ограничился демонстрацией экспоната в закрытой витрине из бронированного стекла. После этого они долго пили чай – конечно, за свободным от книг столиком – и беседовали о книгах, истории и учёбе Кирилла на филологическом факультете.
Постепенно букинист проникся симпатией к студенту – Кирилл стал частым гостем в лавке-музее Покровского. Когда наступил период жёсткого карантина, ему приходилось пробираться к Арбату дворами и проулками, чтобы не попасться на глаза бдительным полицейским. А иногда он даже был вынужден приходить в «Мельпомену» ночью, под покровом темноты – Покровский с радостью приветствовал своего юного гостя в любое время. К тому же Всеволода Андреевича можно было застать в салоне всегда – Кирилл был уверен, что тот даже ночует здесь, в какой-нибудь потайной комнате, скрытой за неприметной дверью.
Самого Кирилла такие ночные вылазки тоже нисколько не беспокоили – если на учёбу не нужно вставать рано утром, то почему бы и не провести ночь за чтением старинных томов? Тем более что, к его собственному удивлению, это оказалось довольно интересным занятием. Он никогда не думал, что работа с книгами будет приносить ему столько удовлетворения. Может быть, дело было в подходе Покровского: тот никогда не сидел над душой и позволял Кириллу работать самостоятельно, появляясь только тогда, когда у студента возникали вопросы. Правда, чтобы заслужить такое доверие, пришлось проявить изрядную усидчивость и аккуратность. Зато теперь он с удовольствием проводил дни и ночи, разглядывая старинные книги, рукописи и письма известных людей.
Единственное замечание, которое в самом начале общения сделал Всеволод Андреевич Кириллу, было совершенно заслуженным: придя в «Мельпомену», студент увидел на прилавке книгу XVIII века и сразу же принялся её листать.
– Ну что же вы, Кирилл! – с напускной строгостью произнёс Покровский, выходя на свет из глубины помещения. – Нельзя так с ценными экспонатами! Помните: кто аккуратен, тот и людям приятен. Пожалуйста, в дальнейшем прикасайтесь к книгам только в перчатках.
С этими словами букинист добродушно улыбнулся и протянул Кириллу пару белоснежных перчаток из тончайшей материи – они не мешали аккуратно касаться книг и в то же время надёжно защищали бесценные страницы от пота и кожного жира. Кирилл урок усвоил и с тех пор всегда имел при себе пару перчаток – кто знает, когда и где ему доведётся прикоснуться к старинному изданию?
В тот же вечер Кирилл наконец получил разрешение поработать с «Изборником». И волнение, испытанное в тот момент, запомнилось ему навсегда.
– Пойдёмте, Кирилл, – по-отечески сказал Покровский. – Я думаю, вы готовы к «Изборнику».
Студент тут же вскочил с кресла, прятавшегося в одном из тёмных углов магазина. Но сразу спохватился, вернулся и аккуратно закрыл книгу, которую читал, после чего убрал её на полку – все книги в «Мельпомене» хранились на строго определённых местах, рассортированные по жанрам, датам, алфавиту и даже цветам обложек. Система хранения Покровского была настолько сложна, что вряд ли кто-то, кроме него, мог в ней разобраться. Сам же букинист всегда находил нужный том буквально за несколько секунд.
Убрав книгу на место и обернувшись, Кирилл увидел одобрительную улыбку букиниста.
– Вы точно готовы.
Они подошли к одной из стеклянных витрин, в которых хранились самые ценные экспонаты коллекции Покровского. Кирилла всегда удивляло отсутствие замочных скважин, засовов или ещё каких-то механизмов. Все бронированные витрины были закрыты на невидимые замки с магнитными датчиками и сканерами отпечатков пальцев – для такого страстного любителя старины Всеволод Андреевич демонстрировал просто невероятное пристрастие к современным методам охраны. Кирилл был уверен, что это из-за того, что Покровский никому не доверял и больше всего на свете дорожил своей коллекцией. Поэтому и не было у него ни управляющего, ни продавца, ни охраны – из двух зол он выбрал меньшее, ведь электроника не обманет и не обворует.
Всеволод Андреевич достал из внутреннего кармана массивную связку ключей и отцепил от неё небольшой металлический бочонок – магнитный ключ. Подняв его на уровень глаз, он с трепетом воскликнул:
– Ключ к истории!
Он поочерёдно прикоснулся бочонком к разным точкам витрины, известным только ему, а затем прислонил к углу стекла большой палец. В этот же момент раздался щелчок и толстое стекло сдвинулось.
– Вот оно!
Кирилл благоговейно смотрел, как Всеволод Андреевич аккуратно достаёт фолиант из витрины и несёт на рабочий стол в самом дальнем углу помещения – единственный, на котором хватало места, чтобы уместить больше, чем одну книгу.
– Вот, Кирилл, занимайтесь. Только прошу быть максимально аккуратным – книга, конечно, застрахована от любых повреждений, как и всё в моём салоне, но лучше будет, если вы не оставите никаких следов. Занимайтесь, сколько вам нужно. Если будут вопросы, я рядом.
Кирилл сел за стол и открыл тяжёлую обложку. Этот момент навсегда остался в его памяти. Ещё бы: листать книгу XVIII века, конечно, здорово, но это не идёт ни в какое сравнение с книгой почти тысячелетней давности! Касаться, пусть и через перчатки, страниц, которых касались руки князей, монахов, святых, учёных и полководцев; вчитываться в ровные буквы, выведенные чернилами из натуральных пигментов; часами разглядывать иллюстрации, орнаменты и буквицы – всё это было настолько захватывающим, что Кирилл сам не верил, что это происходит с ним!
«Когда-нибудь, – мечтал Кирилл, – и у меня будет своя библиотека! Устрою её у себя в кабинете – должен же у меня быть кабинет? Куплю мебель из тёмного лакированного дерева, постелю на пол толстый ковёр или даже шкуру медведя, установлю камин… Хотя нет, наверное, камин – не лучшая идея для собрания книг. Одна искра и… Придётся обойтись без камина. Зато всё пространство вдоль стен заставлю книжными полками до самого потолка! Может быть, у меня даже будет двухъярусная библиотека с балконом вдоль второго этажа! Сколько же книг там поместится? Главное, никаких современных писулек – только выдающаяся классика и раритеты. Конечно, вряд ли я смогу позволить себе такие редкости, как у Всеволода Андреевича… Хотя чем чёрт не шутит? Если я смогу раскрыть семейную тайну, денег у меня будет столько, что… Эх, ладно, размечтался – до этого ещё очень и очень долго… Нужно возвращаться к учёбе. Что ж, “Изборник”, посмотрим, какие секреты ты скрываешь…»
В ту ночь он совсем не спал, просидев с этим памятником письменности до самого утра. Его курсовая работа, основанная на изучении книги, получила заслуженную похвалу преподавателя. А сам он с тех пор мог работать с любыми книгами в «Мельпомене», правда, с самыми древними – под присмотром Всеволода Андреевича.
Таким запомнилось Кириллу его первое знакомство с бесценным наследием литературного прошлого России. А сейчас он стоял на пороге «Мельпомены» и размышлял, что интересного сможет ему рассказать Покровский о Гоголе. До этого студент никогда не проявлял особого интереса к литературе этого периода, предпочитая изучать рукописные книги глубокой древности, которых в коллекции букиниста хватало. Решив больше не терять времени, он открыл дверь и зашёл в «Мельпомену».
Внутри было тихо и темно, как и всегда. Ниша в дальнем углу салона тускло освещалась: Всеволод Андреевич сидел в старинном кожаном кресле за небольшим столиком, выглядывающим из-за книжного шкафа, на котором стояла шахматная доска. Расположение фигур на ней говорило о том, что партия была в самом разгаре.
– Кирилл, добрый вечер! – воскликнул букинист, торопливо поднимаясь с кресла. – Пришли продолжить работу с «Оком церковным» XVII века?
– Не сегодня, Всеволод Андреевич. Мне доклад задали, про второй и третий тома «Мёртвых душ», – вздохнул Кирилл. – У вас есть что-нибудь по Гоголю? Может быть, его письма последних лет жизни?
– Ох, Николай Васильевич! – Покровский возвёл глаза к небу. – «Мёртвые души»! Сожжённая рукопись! Глубокая тема, обширная – не на одну чашку чая. Я бы с вами с удовольствием обсудил: добрая беседа бывает получше обеда. Но сейчас я, к сожалению, немного занят. – Он бросил быстрый взгляд в сторону стола с шахматами. – Но вы можете поработать самостоятельно.
– Может, я сфотографирую и пойду, чтобы вам не мешать?
Букинист улыбнулся:
– Вы знаете мои правила, Кирилл: никаких фотографий. Потом они случайно окажутся в интернете, и мои уникальные экспонаты никому не будут нужны. Никто не придёт в мой салон, и я стану гол как сокол! – Он театрально закатил глаза. – Давайте поступим так. Вы тихонько посидите здесь и поработаете. Я дам вам почитать «Выбранные места из переписки с друзьями» – первое издание, 1847 год. А заодно несколько писем Николая Васильевича, написанных незадолго до кончины, – м-да, где-то есть у меня такие экземплярчики.
– «Выбранные места…»? – поинтересовался студент.
– Ну что вы, Кирилл! – ахнул Покровский. – «Выбранные места из переписки с друзьями» – последняя книга Гоголя, изданная при жизни! Он называл её «единственной своей дельной книгой», представляете? А ведь уже пять лет как вышли «Мёртвые души»! Правда, это он говорил ещё до издания – потом цензура её изрядно покромсала, к сожалению. Но у меня тут совершенно случайно есть несколько вырезанных фрагментов.
– Никогда не слышал об этой книге.
– Очень жаль! В этих письмах, помимо прочего, Николай Васильевич рассказывает о своих планах на «Мёртвые души», о своём видении этой книги или, точнее сказать, книг. – Учительский тон Всеволода Андреевича делал его похожим на настоящего профессора. – Вы же знаете, что Гоголь планировал трилогию? Если вы хотите проникнуть в тайну второго тома и узнать, почему же Гоголь сжёг его, вам не обойтись без этой книги!
– А письма? Вы говорили о каких-то письмах? Неужели у вас есть оригиналы?
– Если у меня что-то есть, то только оригиналы, – обиженно ответил Покровский. – Для коллекционера ценно лишь обладание подлинником.
Возникло неловкое молчание. Кирилл так и не научился понимать, действительно ли обижался Покровских в таких случаях. А ведь обиделся он далеко не в первый раз – Кириллу уже случалось задевать гордость Всеволода Андреевича. Это, конечно, происходило не специально. Просто иногда он не мог поверить, что столько ценностей и редкостей могут принадлежать одному частному лицу, вот временами и проявлял сомнения.
Букинист нетерпеливо достал свои антикварные карманные часы, взглянул на них и насупил брови.
– Так, подождите здесь, Кирилл.
Всеволод Андреевич скрылся между книжных шкафов и спустя несколько минут вернулся с книгой в одной руке и пачкой писем в другой.
– Зелёное кресло в вашем распоряжении – там и стол чуть побольше, вам будет удобно работать. А я, с вашего позволения, вернусь к своим делам.
Кирилл подумал, что Покровский неспроста предложил ему занять именно это кресло, хотя просторный рабочий стол был бы удобнее – оно находилось на максимальном удалении от угла, в котором он и его тайный гость разыгрывали свою шахматную партию.
Кирилл пожал плечами и направился через ряды книжных шкафов к нужному месту. Он любил зелёное кресло – в меру мягкое, обтянутое приятным бархатистым вельветом, с удобными широкими подлокотниками, оно способствовало максимальному расслаблению и подходило для неспешного чтения интересной книги.
Но сейчас он не мог расслабляться – ему не терпелось побыстрее закончить с подготовкой к докладу и вернуться к своим, несомненно более важным делам. Поэтому в кресле он сел прямо, не опираясь о спинку, приготовил блокнот для заметок и раскрыл «Выбранные места из переписки с друзьями».
– «Я был тяжело болен; смерть уже была близко», – прочитал он шёпотом. – Что ж, ободряющее начало.
Конечно, читать все триста страниц книги у Кирилла не было никакого желания – в основном она представляла собой проповедь и философские размышления на самые разные темы: вера, общество, государство, литература и многое другое. «Мёртвым душам» посвящалось всего четыре письма, вынесенных в отдельную главу. На них Кирилл и обратил своё внимание.
Сколько же интересного он узнал из этих писем! Оказывается, несмотря на то, что «Мёртвые души» являются одним из важнейших образцов русской классической литературы, Гоголь был недоволен книгой! Он соглашался со значительной частью критики, обрушившейся на него и на первый том. Это сейчас «Мёртвые души» считаются главным трудом жизни Гоголя и безусловным шедевром, а сразу после издания современники вовсю критиковали и нереалистичные образы персонажей, и их избитость, и недостоверность сюжета, и плохую редактуру, и безграмотность самого писателя. Он сетовал на то, что даже великий Пушкин, перед которым Николай Васильевич преклонялся, не понял карикатурности идеи, которую сам же Гоголю и подкинул!
С удивлением Кирилл прочитал, что каждого из героев поэмы писатель наделил своими собственными недостатками, а также чертами многих своих приятелей. Но от каждого взял только самое плохое, называя всех прототипов своих персонажей «прекрасными людьми, захватившими всё пошлое и гадкое нечаянно». А вот книжных персонажей, основанных на этих «прекрасных людях», он называл ничтожными, вызывающими отвращение, но при этом писал, что они «вовсе не злодеи». Показать всю мерзость этих людей и было главной задачей первого тома.
Вот как! Персонажи книги, включая, надо полагать, и Чичикова, – мерзкие и отвратительные люди, но «вовсе не злодеи»! Неужели ему не удастся выиграть спор с Решетниковым? Если сам автор не считает их злодеями, значит он, Кирилл, ошибается и не сможет доказать свою точку зрения. Но работу нужно довести до конца – если не ради победы в дебатах, то хотя бы ради оценки.
Он продолжил изучать письма и вскоре понял, что подбирается к тому, ради чего и сел читать книгу. Вот оно! Сейчас Гоголь подведёт к тому, что по задумке, в последующих томах его персонажи должны будут раскаяться и получить искупление, о котором говорил Решетников! Значит, профессор был прав?
В предвкушении ответа Кирилл начал читать последнее, четвёртое письмо: «Затем сожжён второй том «Мёртвых душ», что так было нужно…»
– Стоп, что? – сказал он вслух и тут же осёкся.
«Ну да, всё верно, – подумал он, глядя на дату письма, – 1846 год. За год до публикации этой книги и… за шесть лет до смерти Гоголя и известного всем сожжения рукописи. Выходит, перед самой смертью он сжёг второй том не впервые?»
Это открытие шокировало Кирилла. Как же так, никто и никогда не говорил ему, что Николай Васильевич уже сжигал рукопись второго тома! Почему об этом не пишут в учебниках, не говорят на лекциях? Кириллу пришлось дожить до двадцати лет, чтобы узнать об этом невероятном факте, причём совершенно случайно! Вот только… меняет ли это что-нибудь?
«Да что ж у него за книга такая была? – недоумевал Кирилл. – Сколько он, получается, корпел над этим вторым томом? Десять лет? Чтобы в итоге опять его сжечь и перечеркнуть все труды? Поразительно…»
Это письмо Кирилл изучил досконально и практически дословно переписал его к себе в блокнот.
Гоголь писал, что второй том, над которым он работал целых пять лет, вышел совсем не таким, каким должен был выйти, и его появление в таком виде «произвело бы скорее вред, чем пользу». Он верил, что наступит такой момент, что он легко напишет второй том: «в несколько недель совершится то, над чем провёл пять болезненных лет». Из письма также следовала идея, озвученная Решетниковым: персонажи, проявившие в первом томе всю свою мерзость, должны были преобразиться и предстать совершенно в другом виде – видимо, уже в третьем томе. Второму тому отводилась роль проводника к этому «высокому и прекрасному».
Кирилл закрыл книгу, глубоко вздохнул и откинулся в кресле. Он совершенно не заметил, как пролетело несколько часов, – его начало клонить в сон, но студент твёрдо намеревался закончить всю работу сегодня. Если бы можно было выпить чашку кофе, хоть самого дешёвого, растворимого! Но Покровский запрещал пить и есть, работая с книгами, а если говорить о кофе, то он в «Мельпомене» вообще не водился.
Перейдя от книги к письмам, Кирилл читал их уже без прежнего энтузиазма – он сидел, откинувшись в кресле и подперев голову кулаком, и постоянно зевал, а документы пролистывал скорее машинально, особо не вчитываясь в их содержимое. Там не было ничего, что могло бы вызвать интерес Кирилла – никаких упоминаний «Мёртвых душ». В большинстве своём это были даже не письма в привычном понимании, а короткие записки с приглашениями на обед и благодарностями за ответные приглашения, вежливыми расспросами о чужом здоровье и сетованиями на проблемы со своим. В более длинных посланиях речь часто заходила о Боге – в основном в адресованных матери, Марии Ивановне. Было также несколько благодарственных писем к некоему Шевырёву – в них Николай Васильевич сообщал, что возвращает тому какие-то справочники о Сибири, её истории и природе. «Те самые книги, о которых говорил Решетников, – догадался Кирилл. – Гоголь использовал их при подготовке к написанию третьего тома. Значит, он вот-вот должен был приступить к работе над ним. А может быть, и вовсе приступил».
Но внезапно очередное письмо привлекло его внимание: взгляд остановился на одной маленькой детали, которая на несколько минут захватила все его мысли и прогнала сонливость, как будто её и не было.
– Всеволод Андреевич! – не отрывая глаз от письма, произнёс Кирилл в пространство. – Не могли бы вы подойти?
Послышался мягкое шуршание отодвигаемого кресла и торопливые шаги. Из темноты показался Покровский, впервые на памяти Кирилла без пиджака. Но даже в таком виде – в бархатной жилетке поверх накрахмаленной рубашки – букинист выглядел превосходно, напоминая пожилого английского денди XIX века. Даже весьма объёмный живот ничуть не портил этот образ, а в определённой степени дополнял.
– Да, Кирилл? Вам ещё что-то нужно?
– Всеволод Андреевич, а это точно подлинник? Просто…
– Кирилл, вы меня обижаете. Я же вам не раз говорил: всё, что есть в моей коллекции, – стопроцентные подлинники, – с некоторым раздражением сказал Покровский. – Что это у вас? А-а, письмо Гоголя Шевырёву, 14 февраля 1852 года, за неделю до смерти писателя.
– Кто это – Шевырёв?
– Степан Петрович Шевырёв – друг Гоголя, литературный критик, профессор и декан Московского университета, академик, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Один из умнейших людей своего времени! Именно он был, что называется, душеприказчиком Гоголя – разбирался с его имуществом после смерти и занимался посмертным изданием книг. А ещё именно он придумал термин «загнивающий запад», который вам, безусловно, знаком. Это, впрочем, к делу совершенно не относится. А почему вы засомневались в подлинности этого письма?
– Вот здесь грамматическая ошибка, смотрите. – Кирилл показал пальцем в строку. – Слово «цела» написана через е, а должно – через ять, «цѣла».
– Да, это вполне возможно, – совершенно не удивившись, прокомментировал Покровский. – Ничего странного здесь нет, Кирилл, – грамотность Гоголя всегда подвергалась критике, ведь он был, как бы это сказать, не совсем русским писателем. Хотя и по-украински писал тоже не без ошибок, м-да… Впрочем, после переезда в Петербург их стало заметно меньше – он даже написал учебник по русской словесности. Жаль, издать при жизни не успел… как и многое другое. Но совсем избавиться от ошибок в письме ему так и не удалось. Так что ничего удивительного в этой конкретной нет, поверьте мне.
– А вы, пожалуйста, поверьте мне: так написать не мог ни один мало-мальски грамотный человек того времени! Для них е и ять были двумя совершенно разными буквами и обозначали разные звуки! Вы уверены, что это письмо написал сам Гоголь? – недоверчиво поинтересовался Кирилл.
– Ну конечно! – воскликнул Покровский. – Сравните почерк с другими письмами. Разумеется, я и сам всё это делал, когда приобретал письмо, – проводил экспертизу не только почерка, но и бумаги, и чернил. И не только самостоятельно, но и с привлечением нескольких экспертов. И ни один из них не увидел в этой ошибке ничего примечательного, ведь, как я уже сказал, слабая грамотность Гоголя была общеизвестной.
– То есть всё-таки получается, что Гоголь допустил нелепейшую грамматическую ошибку?
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе