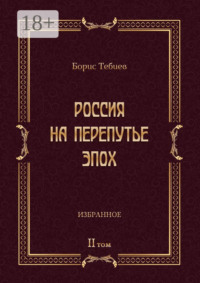Читать книгу: «Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II», страница 2
Примечательно, что А. Смит не пожелал полностью присоединиться к довольно распространённой среди экономистов его времени благодаря учению физиократов концепции «железного закона заработной платы» Высокая же заработная плата даёт рабочим возможность вырастить большое количество детей. При этом размер заработной платы должен устанавливаться на таком уровне, при котором темп прироста рабочего населения приблизительно соответствовал бы темпу возрастания спроса на труд. Иначе обстоит дело в статичном обществе. При стационарном состоянии капиталов, затрачиваемых на наем рабочих, наличного числа рабочих хватает для удовлетворения спроса на труд, и «хозяевам не приходится поддавать цену, чтобы отбивать рабочих друг от друга». Заработная плата понижается до уровня минимума средств существования, темп размножения рабочих замедляется, и численность рабочего класса остаётся на неизменном уровне. В деградирующей стране, где уменьшаются средства, идущие на содержание труда, спрос на рабочие руки становится все меньше и меньше и заработная плата падает ниже необходимого минимума. Нищета, голод и смертность уменьшают количество населения до уровня, требуемого уменьшающимися размерами капитала. 1
Выяснив, что размер реальной заработной платы зависит от соотношения между предложением труда и спросом на труд, т.е. от темпа возрастания капиталов или фондов, затрачиваемых на наем рабочих, А. Смит описывает в общих чертах теорию фонда заработной платы. Впоследствии эта теория получает широкое распространение среди определённой части экономистов. Однако в постановке А. Смита теория фонда звучала иначе. Она была более гуманной и продуктивной. По мнению А. Смита заработная плата действительно тяготеет к минимуму средств существования рабочего и его семьи лишь при стационарном состоянии капиталов или спроса на труд. При возрастании капиталов заработная плата превышает этот уровень, при сокращении капиталов – опускается ниже его. Последнее А. Смит считал временным и преходящим, неминуемо ведущим к вымиранию рабочего сословия.
Мысль о связи заработной платы с производительностью труда представлена у А. Смита в гипотезе «первоначального состояния» общества. «Продукт труда, – писал А. Смит, – составляет естественное вознаграждение или плату за труд. В том первоначальном состоянии вещей, которое предшествует обращению в собственность земли и накоплению капитала, весь продукт труда принадлежит работнику. Он не имеет ни землевладельца, ни хозяина (капиталиста), с которым он должен был бы делиться. Если бы такое состояние продолжалось, то заработная плата увеличивалась бы вместе со всеми теми улучшениями в производительной силе, которая создаёт разделение труда. Все вещи постепенно стали бы дешевле. Они производились бы с затратой меньшего количества труда; и так как товары, производимые равными количествами труда, при таком положении дела естественно обменивались бы друг на друга, то их можно было бы покупать на продукт меньшего количества труда, чем прежде» [13].
Рассматривая связь между уровнем заработной платы и производительностью труда, А. Смит отмечает и другую важную сторону теории производительности, которая впоследствии приобрела самостоятельное значение. «Щедрое вознаграждение за труд, – писал автор „Богатства народов“, – поощряя размножение, вместе с тем увеличивает и прилежание рабочих. Плата за труд служит поощрением прилежания, которое как всякое человеческое качество, увеличивается в соответствии с действующим на него побуждением. Обильные средства к существованию увеличивают физическую энергию работника, а утешительная надежда на улучшение его положения и на то, что он, быть может, окончит свои дни в довольстве и благополучии, побуждают его напрягать свою силу до крайних пределов».
В отличие от А. Смита его последователи, в частности Д. Рикардо и Т. Мальтус, придерживались пессимистических взглядов на существо вопроса. Игнорируя социальную, качественную сторону проблемы заработной платы, Рикардо уделяет внимание исключительно количественной стороне. Его учение о величине заработной платы базировалось на том, что спрос и предложение влияют лишь на рыночную цену труда, т. е. цену, которая действительно платится за него в силу естественного действия отношения предложения к спросу. Но как бы рыночная цена труда ни отклонялась от естественной цены его, утверждал Рикардо, она, подобно цене товаров, имеет тенденцию согласоваться с нею. Рыночная цена труда, как и товаров, колеблется вокруг определенного устойчивого центра, составляющего естественную цену или стоимость труда.
Рикардо считал, что естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие имели средства к существованию и к продолжению своего рода без увеличения или уменьшения их числа. Поэтому естественная цена труда зависит от цены пищи, предметов необходимости и комфорта, требующихся для содержания рабочего и его семьи. С повышением цены пищи и предметов необходимости естественная цена труда поднимается, с падением цены – падает. Естественная цена труда по Рикардо определяется, таким образом, стоимостью необходимых средств существования рабочего и его семьи. Эта теория минимума средств существования, названная, как уже отмечалось Ф. Лассалем «железным законом заработной платы», активно использовалась социалистами разных оттенков в спекулятивных целях, чтобы доказать рабочим невозможность коренного улучшения их положения в условиях капитализма.
Свой «железный закон» Рикардо выводил из теории физиологического минимума Т. Р. Мальтуса, согласно которой когда заработная плата превышает естественную цену труда, рабочий достигает цветущего и счастливого положения и может вскормить здоровое и многочисленное потомство, но когда вследствие поощрения к размножению, которое дает высокая заработная плата, число рабочих возрастет, заработная плата опять понизится до своей естественной цены. Ниже последней она надолго упасть не может, поскольку в противном случае лишения сократят число рабочих и заработная плата опять поднимется. Быстрое размножение рабочих не дает заработной плате подняться надолго выше естественной цены труда, замедленное размножение или вымирание рабочих не дает ей надолго упасть ниже этого уровня.
Учение Рикардо было подвергнуто суровой критике со стороны Генри Чарльза Кэри (1793—1879), родоначальника американской политической экономии, на методологических принципах которого в известной мере развивалась американская экономическая наука.
В противовес пессимистической концепции Рикардо-Мальтуса Кэри выдвинул оптимистическое учение, согласно которому свободное развитие капиталистического общества неминуемо приводит к примирению и гармонии классовых интересов. В книге «Гармония интересов» и других своих работах Кэри назвал труды Рикардо «настоящим руководством для демагогов, добивающихся власти при помощи аграрных законов, войны и грабежа».
В отличие от европейских авторов Кэри считал, что предметом политической экономии является человек и его поведение, направленное на улучшение своего положения. В духе гармонии интересов Кэри разработал и свою производительную теорию заработной платы, согласно которой заработная плата повышается или падает пропорционально производительности труда. С каждым прогрессом в росте производительности труда, утверждал Кэри, все накопленные запасы продуктов понижаются в своей стоимости, так как последняя определяется количеством труда, необходимого для воспроизводства продуктов, а не фактически затраченного на их производство. Количество труда, необходимого для воспроизводства данного капитала и для дальнейшего увеличения его размеров, уменьшается с каждой стадией производства. Но всякое понижение ценности уже существующего капитала обусловливает пропорциональное повышение ценности человека, поскольку последний может создать теперь тот же капитал с большей лёгкостью, чем раньше. Прогресс техники возвышает настоящий труд за счёт накопленных в прошлом запасов. С ростом производительности труда возрастает удельный вес живого труда или самого человека по сравнению с накопленными запасами мёртвых вещей.
Свою мысль о том, что с прогрессом рыночного хозяйства способность капитала распоряжаться трудом рабочего все более падает, а способность рабочего использовать капитал для облегчения своего труда все более возрастает и что при уменьшении власти капитала возрастает значение труда для воспроизводства капитала, Кэри иллюстрирует следующей таблицей 2.
В схеме представлены четыре последовательных периода в развитии производительности труда. От одного периода к другому валовая выручка на одного рабочего удваивается, и доля рабочего, как абсолютная, так и относительная, в продукте возрастает. В первом периоде рабочий получил ¼ продукта, в последнем —3/5 продукта. Но и предприниматель, относительная доля которого постепенно упала с 3/4 до 2/5, тоже не обижен, поскольку благодаря росту производительности труда абсолютное число получаемых им единиц продукта выросло с 3 до 12,80. И капиталист, и рабочий, отмечал Кэри, извлекают большую выгоду благодаря введённым улучшениям. Каждый дальнейший шаг в этом направлении будет сопровождаться такими результатами: с увеличением производительности труда увеличивается доля рабочего и уменьшается доля капиталиста, причём постоянно увеличивается количество продуктов и усиливается тенденция к уравнению долей различных элементов, составляющих общество.
В связи с развитием российского капитализма вопрос о том, как избежать обнищания трудящихся, становится одним из центральных экономических вопросов, имевшим важное теоретическое и практическое значение. Русские экономисты поднимают вопрос о том, каким должен быть прожиточный минимум рабочего и его семьи. Большое значение приобретает и вопрос о продолжительности рабочего дня. Большинство отечественных экономистов разделяли точку зрения сторонников классической политэкономии согласно которой сокращение рабочего дня на промышленных предприятиях при сохранении заработной платы может привести к краху промышленного производства, что сокращение рабочего дня снизит выработку на одного рабочего.
Наряду с этим популярность среди части экономистов пользовалась т. н. «доктрина свободного контракта», согласно которой между просвещенными экономическими агентами вопрос о размере вознаграждения за труд должен решаться исключительно на договорных началах. Подобно своим западным коллегам, многие отечественные экономисты не видели различия краткосрочных и долгосрочных последствий сокращения рабочего дня.
Со второй четверти ХIХ века, времени вступления России в эпоху промышленного переворота, вопрос об оплате труда работников становится для отечественных экономистов объектов оживлённых научных дискуссий. Как показывает исследование проф. В. А. Павлова [14], серьёзный интерес к вопросам заработной платы проявляли как практические политики, например, министр финансов Российской империи Е. Ф. Канкрин, так и учёные-экономисты – А. И. Бутовский, Т. Ф. Степанов, А. И. Чивилев и другие.
Егор Францевич Канкрин (1774—1845) оставил после себя ряд экономических сочинений, в том числе «Очерки политической экономии и финансии», изданные первоначально на немецком языке (Штуттгарт, 1845), много лет спустя на русском (СПб., 1894). Детально анализируя проблемы заработной платы, российский министр отмечал, что теоретически минимум, т.е. самое малое, что должен добывать простой работник, составляют [15]:
– «Соответственное его потребностям содержание, как собственно для себя, так и для семейства».
– Некоторый относительно «содержания» излишек, в котором он «нуждается для воспитания своих детей, ремонта своих инструментов, [содержания] животных и т. д.».
– «Запас про чёрный день и на старость».
– «Особая прибыль, которая дала бы ему возможность улучшать свое состояние или собирать капитал».
Высококвалифицированному работнику, проявляющему смекалку и мастерство, по мысли Канкрина следовало бы платить ещё большее вознаграждение. Благодаря этому он мог бы богатеть и, «производя вещи в высшей степени ценные, умножать вместе с тем и народное богатство» [16]. В действительности же, с сожалением констатировал Канкрин, «не встречаем мы, чтобы всем работника приходилось на долю полное подобного рода вознаграждение за труды и особенно редко случается видеть, чтобы приходилось им получать долю запаса и особой прибыли».
Среди отечественных учёных одним из первых вопросы оплаты труда затронул в 1847 году Александр Иванович Бутовский (1817—1890), видный экономист и государственный деятель, автор первого отечественного учебника политической экономии, написанного на русском языке. Его сочинение «Опыт о народном богатстве, или О началах политической экономии» состояло из трех частей: «Производство богатств», «Обращение и распределение богатств» и «Потребление богатств». Находясь на платформе классической политэкономии, Бутовский отстаивал естественный характер материального неравенства и осуждал принцип уравнительного распределения материальных благ. Его позиция близка к позиции сторонников «рабочего фонда». «В благоустроенном обществе, где господствуют христианские нравы, – писал Бутовский, – избыток богатых служит спасительным запасом для бедных… В минуты бедствия этот запас… проливается на неимущих росою благодеяния и пособий. Без него они погибли бы неминуемо: он помогает им вынести бремя лишений…» [17]
Под заработной платой рабочего Бутовский понимал часть издержек производства или ценности товаров. Труд, отмечал учёный, «предлагается одними членами общества, спрашивается другими. Его рыночная цена выражается в задельной плате… Как и всякая рыночная цена, задельная плата, т. е. цена труду исполнительному, определяется отношением между запросом на труд и его предложением» [18]. Естественные пределы заработной платы определяются не сами по себе, а в органической взаимосвязи с прибылью предпринимателя. Минимум заработной платы (по терминологии Бутовского «крайнее» или «необходимое» содержание наёмного рабочего) определяется возможностью удовлетворения потребностей работника и его семьи в «пропитании, одежде и жилье с некоторой домашней утварью и мебелью». 2
Интересна данная Бутовским трактовка причин снижения заработной платы ниже прожиточного минимума в условиях перехода от мануфактурной промышленности к фабричной. В отличие от Симонда де Сисмонди и его последователей Бутовский не считал, что причинами пауперизма, безработицы являются свободная конкуренция и замена ручного труда машинной техникой.
Обвинения в адрес свободной конкуренции и технического прогресса он признавал беспочвенными. «В свободном соперничестве, писал учёный, нельзя не открыть главного и необходимейшего условия развития и преуспения промышленности. Там, где труд стеснён монополиями, корпорациями, формальностями, техническими правилами, везде встречаем производство вялое, дорогое, неудовлетворительное». Машины же, по мнению Бутовского, «удешевляя производство каких-либо изделий в прогрессии арифметической… усиливают запрос в прогрессии геометрической, тем самым служат поводом к основанию множества предприятий и к употреблению числа [рабочих], далеко превосходящих число тех, которые теряют свои занятия». Спрос на рабочие руки возрастает в связи с производством «самих машин и для доставки значительнейшей массы сырых материалов».
Важнейшими факторами, действительно влияющими на величину заработной платы, рост безработицы, Бутовский считал:
– Трудности с реализацией продукции: «непостоянство сбытов – вот главное начало расстройства предприятий, их падения и внезапного уменьшения запроса на руки».
– «Внезапное вздорожание предметов первой необходимости, образующих потребление работника», что приводит к снижению реальной заработной платы.
– Снижение цены «продуктов первой необходимости», усиливающее предложение рабочих рук и понижающее зарплату до «предела рыночной цены предметов необходимого содержания».
– Колебания курса национальной валюты, оказывающие на денежную зарплату точно такое же влияние, как и изменения в цене предметов первой необходимости, только в противоположную сторону.
– «Соперничество между самими работниками, которые под гнетом нужды предлагают свой труд часто за бесценок».
Анализируя различные средства, которые препятствовали бы снижению заработной платы, Бутовский критически оценивает предложения отдельных экономистов и политиков об «установлении постоянного и неизменного тарифа заработной платы». Ошибочным признавал он утверждение Д. Рикардо и его последователей о том, что зарплата рабочих и прибыль предпринимателей могут меняться только в обратном соотношении. Бедственное положение рабочего сословия, утверждал Бутовский, никак не связано с «корыстью предпринимателей», различием их интересов. Образование рабочих коалиций, стачечное движение с целью «насильственного повышения заработной платы» учёный считал неуместным. В качестве перспективных форм развития делового сотрудничества между трудом и капиталом Бутовский называл акционерные компании, управляемые «общим поверенным в делах или советом».
Профессор Императорского Московского университета Александр Иванович Чивилев (1808—1867) в выпущенной в 1848 году книге «Наука народного хозяйства и её порицатели», так же широко затрагивал проблемы труда и капитала. Подробно анализируя социально-экономические проекты К. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна, Чивилев отмечал, что мысль об антагонизме между трудом и капиталом произошла, по всей вероятности, из-за того, что в материальном производстве промышленниками могут сделаться только те из работников, которые располагают некоторым капиталом или отличаются особенными способностями. Все же прочие должны довольствоваться платою, которая редко позволяет улучшить их положение. Но этот факт нисколько не доказывает, что интересы капиталистов и людей, способных только к простой работе, действительно противоположны, напротив, те и другие связаны крепкими узами взаимности [19].
Отмечая, что свободная конкуренция «не имеет ни сердца, ни религии» и что в её условиях «каждый сам отвечает за себя, и каждый получает столько, сколько производит», учёный видел решение проблем бедности рабочего сословия в государственном вмешательстве в социально-экономическую жизнь, в необходимости с помощью государства выравнивать уровень жизни людей.
Большой интерес представляют воззрения на вопросы взаимоотношения капитала и труда, экономическое содержание оплаты труда одного из руководителей петербургской школы экономического либерализма, профессора Ивана Васильевича Вернадского (1821—1884). Учёный считал, что главные условия образования ценностей и основание всякого правильного хозяйства, как системы экономической деятельности, составляют «владение и труд» [20]. В работе «Проспект политической экономии» (1858) Вернадский писал, что ценность производящего труда выражается различно, смотря по роду его: ценность вещественного труда, входящего в состав вновь произведённой им ценности, выражается в виде заработка или задельной платы.
Мера материального труда, указывал учёный, определяется самою сущностью производимого предмета и не зависит от произвола; но этот материальный труд (работа) может быть совершаем одушевлёнными и неодушевлёнными деятелями (двигателями). Естественно, что первые представляют высшую экономическую ценность, и их употребление влечёт за собой более сложные явления.
При нормальном ходе народного капитала – заработок, зависящий от отношений между работниками и капиталом, назначенным для их употребления, необходимо равен ценностям, употребляемым для органической поддержки деятелей, орудий труда (работников); но различные паи, приходящиеся на долю каждого из них, зависят от состояния на них запроса и предложения. Мнение, что заработок обусловливается ценою жизненных припасов, справедливо только с этой точки зрения, такое соответствие между заработком и жизненными припасами редко бывает в частных случаях.
«Под именем органической поддержки деятелей труда, – писал Вернадский, – разумеем, кроме удовлетворения их прямых общественных и местных потребностей, также и доставление возможности продолжения их существования, как рода, т. е. известную затрату на их специальное образование в массе. Сумма эта является в распределении богатства – постоянно существующею, присущею, и изменяется сообразно издержкам данного настоящего времени, а не имеет в виду вознаграждения сделанных уже на то затрат. Вопрос: ни сколько стоило специальное воспитание, а сколько оно теперь стоит?» [21]
Из этого видно, отмечал далее Вернадский, что заработок необходимо различен по различию потребностей в различных местностях, в разное время, и по разной степени общественного развития; и что употребление в работу слабейших членов семейства (женщин, детей) необходимо должно производить понижение среднего заработка. Желательно заменение подённой работы урочною.
Что касается до частного распределения валовой заработной платы в стране или индивидуального заработка то оно находится в тесной связи с разными условиями рабочих лиц и свойствами работы. Различие индивидуального заработка зависит, кроме общего состояния запроса и предложения труда в стране вообще: 1) от способности к работе лица; 2) от большей или меньшей вероятности успеха; 3) от большего или меньшего количества работы (праздничные дни); 4) от приятности или неприятности, а также вреда работы для рабочего; 5) от богатства рабочего.
Максимум заработка при прочих равных условиях бывает обыкновенно при новости занятия; минимум – если занятие известною работою не есть главное, а прибавочное при другом.
Вознаграждение за труд в службе совершается сообразно общему закону труда: т. е. соответственно целесообразности усилий лица, или что тоже – соответственно предполагаемому в особи количеству и отношению производительных сил (способности, таланту), или, что тоже – соответственно предполагаемым в ней потребностям. При этом общественная власть имеет в виду не действительные, конкретные потребности и труд известного должностного лица, а те идеальные способности и потребности, которые были бы в состоянии произвести известный труд, необходимый для предполагаемых целей, и которые могут быть ниже и выше действительных; но в нормальном состоянии общества, – составляют тот уровень, то среднее выражение, к которому постоянно стремятся подойти содержания должностных личностей. Такое стремление необходимо обусловливается препятствиями к движению талантов в стране.
В истории хозяйственный успех является конкретно в постепенной замене труда, причиняющего большие дневные издержки, и подвергающегося большему риску, трудом более ровным и влекущим менее трат на постоянную свою поддержку, т. е. труда животного – трудом неодушевлённым. При таком ходе промышленности животный труд находит соперничество с неодушевлённым трудом и. – проигрывает при сравнении, делается менее и менее ценным; отсюда – пауперизм и торговые кризисы.
Причина обеднения – в стеснении действий и поля труда.
Уровень, к которому стремится и доход от владения и прибыль от труда, конкретным образом выражается в равенстве заработка и процента или ренты. Большее или меньшее приближение к нему зависит от большей или меньшей напряжённости владения или труда.
Последовательным пропагандистом творчества Кэри в России являлся профессор Киевского университета св. Владимира Николай Христианович Бунге (1823—1895), впоследствии – министр финансов и председатель Комитета министров. Творчеству Кэри он посвятил одну из лучших своих работ – «Гармония хозяйственных отношений» [22]. Отвергая трудовую теорию ценности и тезис о вещественном характере труда, Бунге признавал движущей силой общественного развития стремление людей к удовлетворению своих потребностей посредством «полезной работы». Между участниками производства возникает обмен ценностями, составляющий «сущность экономических отношений» и обусловливающий «гармоническое, стройное развитие общественного порядка».
История рабочего вопроса в России середины ХIХ века тесно связана с историей вопроса об исторических судьбах капитализма в стране. Как известно, развитие отечественной капиталистической промышленности и перспектива повторения Россией опыта западноевропейских государств первого и второго «эшелонов капитализма» была далеко не однозначно встречена в стране.
Сторонники самобытности России от славянофилов до народников видели в наступающем капитализме серьёзную угрозу устоям российской нравственности и благополучия патриархальной жизни, разрабатывали модели непосредственного перехода страны к более совершенному общественному и экономическому устройству, в том числе через крестьянскую общину и артельную организацию хозяйства (промышленности) в городах. Однако утопичность подобных проектов не вызывала сомнения у российских учёных—экономистов, ведущее место среди которых занимали сторонники либерального реформаторства, стремившиеся синтезировать достижения западного экономического либерализма с рациональными элементами социалистических учений [23].
Противниками либеральных подходов к решению назревавшего рабочего вопроса выступили представители народничества во главе с Н. Г. Чернышевским и его последователями. Одним из наиболее активных пропагандистов экономического нигилизма в 1860-е годы был Михаил Илларионович Михайлов, продолживший начатую ранее А. И. Герценом линию критики зарождавшегося российского капитализма.
«Освобождение крестьян, – отмечал Михайлов, – есть первый шаг к великому будущему России, или к её несчастью, к благосостоянию политическому или экономическому, или к экономическому или политическому пролетариату». «От нас самих зависит избрать путь к тому или к другому». Выступая против тенденций конституционализма и «индивидуалистической политической экономии», Михайлов писал в одной из своих прокламаций: «В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек. Эти господа не понимают, что он приучает нас только считать гроши, что он разъединяет нас, толкая в тесный индивидуализм. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями. Начиная материальными стремлениями, ещё придём ли к благосостоянию, – односторонняя экономическая наука нас не выручит из беды. Напротив, откинув копеечные расчёты и стремясь к свободе, к восстановлению своих прав, мы завоюем благоденствие, а с ним, разумеется, и благосостояние, т.е. то, чего нам так хочется, – деньги. А эти, к несчастию, плодящиеся у нас конституционные и экономические тенденции ведут к консерватизму; они ведут к сословному разъединению, к созданию привилегированных классов. Хотят сделать из России Англию и напитать нас английской зрелостью. Но разве Россия по своему географическому положению, по своим естественным богатства, по почвенным условиям, по количеству и качеству земель имеет что-нибудь общее с Англией? Разве англичане на русской земле не вышли бы тем, чем они вышли на своём острове? Мы уже довольно были обезьянами англичан. Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком.
Пусть несёт его Европа. Да и кто же может утверждать, что мы должны идти путём Европы, путём какой-нибудь Саксонии, или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России? Кто может сказать, что он умнее 60-ти миллионов, умнее всего населения страны, что он знает, что ей нужно, что он приведёт её к счастью? Где та наука, которая научила его этому, которая сказала ему, что его взгляд безошибочен? По крайней мере, мы не знаем такой науки; мы знаем только, что Гнейсты, Бастиа, Моли, Рау, Рошеры раскапывают навозные кучи и хотят гнили прошедших веков сделать законом для будущего. Пусть этот закон будет их законом, а мы для себя попытаемся поискать другой…» [24]
Близкую к Михайлову, но более умеренную и реалистическую позицию по отношению к перспективам капиталистической модернизации России занимал в те годы Н. К. Михайловский, известный народнический публицист и общественный деятель. В своих статьях 1860—70-х годов он высказывался за необходимость организации «народного труда» за казённый счёт. «У нас существует мнение, – писал Михайловский, – что наш фабричный рабочий гораздо развитее, гораздо выше, если не в нравственном, то, по крайней мере, в умственном отношении, нежели крестьянин. Это мнение решительно ни на чем не основано. Оно держится едва ли не потому только, что нечто подобное действительно имеет место в Западной Европе. Но если на Западе до некоторой степени действительно существует указанное отношение между крестьянином и фабричным рабочим, то оно обязано своим происхождением отнюдь не фабричному режиму, а влияниям совершенно иного свойства, каких у нас и в помине нет, именно влиянию широкой политической жизни, которая естественно, концентрируется в городах и едва достигает деревень» [25]. Михайловский считал, что рабочий вопрос в России коренным образом отличается от рабочего вопроса в Западной Европе. «Рабочий вопрос в Европе, – отмечал Михайловский, – есть вопрос революционный, ибо он требует передачи условий труда в руки работника, экспроприации теперешних собственников. Рабочий вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только сохранение условий труда в руках работника, гарантия теперешним собственникам их собственности. У нас под самым Петербургом… существуют деревни, жители которых живут на своей земле, жгут свой лес, едят свой хлеб, одеваются в армяки и тулупы своей работы, из шерсти своих овец. Гарантируйте им прочно это своё, и русский рабочий вопрос решён» [26].
Несмотря на негативное отношение левых радикалов и революционно-демократической публицистики к проявлениям капиталистического прогресса, их представители все-таки были вынуждены признавать наличие капиталистических элементов в России, в том числе и «зачатков пролетариата», т.е. социального слоя, полностью лишённого какой-либо частной собственности. Об этом, например, писал в 1863 году в журнале «Русское слово» Н. В. Шелгунов, отмечая в сибирских заметках факт разорения тюменских ремесленников [27].
Позднее, в конце 1860-х годов, ссылаясь на отсутствие в стране земледельческого пролетариата, Шелгунов напрямую указывал на наличие пролетариата промышленного. «…Промышленный пролетариат, – писал он, – хотя и не в такой форме как на Западе, у нас есть» [28].
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе