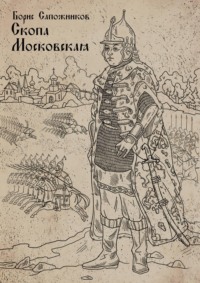Читать книгу: «Скопа Московская», страница 3
– Кромешник ты, хуже опричника всякого, да ещё и вор! – выкрикнул зарайский дворянин Кузьма Воронов Петров сын, уже почуявший чем дело пахнет.
– На войне мы дела похуже кромешницких проделывали, – пожал плечами я, – когда надо язык развязать. Да и ты бывал в походе, знаешь, что с пленным врагом делают, если он запирается.
Драбанты поставили жаровню прямо у ног Воронова, один присел над ней и принялся ворошить прутьями угли.
– Кто велел тебе меня ночью зарезать? – быстро спросил я Воронова. Тот опустил глаза и смотрел только на багровые угли в жаровне, да на постепенно краснеющие всё сильнее прутья.
– Царёв брат, Димитрий, – не стал запираться Воронов. – Сам подошёл ко мне, о должке напомнил, золото посулил. Сказал, что, мол, не воевода ты, князь, но вор и на трон царский сам залезть желаешь, вот и надо тебе окоротить. Да так чтобы уж навсегда.
Ничего удивительного в этом нет. Раз уж жена Дмитрия на пиру поднесла мне у всех на глазах чашу с ядом, то и теперь царёв брат не остановится, пока не сживёт меня со свету.
– А ты и рад стараться, – усмехнулся я.
– Не мог я иначе, княже, – пробурчал себе под нос Воронов. – Долг у меня перед царёвым братом. За Болотникова стоял я, и петля мне грозила, да он спас, при себе держал, а после брату передал.
Так это ещё и профессиональный наушник. Вот это отменный человек мне попался, ничего не скажешь. Шпионил для Дмитрия Шуйского за царём, да и вряд ли только шпионил, раз так легко убивать меня отправился. Не первый, ой не первый грех убийства спящего или беспомощного на этой чёрной душе.
– Снимите его, – велел я Сомме. – Оденьте, отведите в кабак в Земляном городе.7 Там напоите пьяным, да и горло перережьте. Нечего такому вору по земле ходить.
– Мои драбанты и к такому привычные, – скривил губы в сардонической ухмылке полковник.
– Денег на пропой пусть у матушки возьмут, – добавил я. – Негоже по делу за свой кошт пьянствовать.
Сомме ухмыльнулся ещё шире. Пить за чужой счёт все любят.
– А с теми двумя как быть? – спросил он у меня, когда я уже направился к лесенке, ведущей прочь из подвала.
За моей спиной драбанты развязывали Воронова, чтобы отправиться с ним на последнюю попойку в Земляной город. Зарайский дворянин ничего не понимал, говорили-то мы с Сомме по-немецки, однако не сопротивлялся.
– Сам разберусь, – отмахнулся я, понимаясь наверх.
Выбравшись из подвала я кликнул Болшева и вместе с ним и парой послужильцев8 отправился в клеть, куда посадили оставшихся двух соглядатаев Дмитрия.
В клети было так же холодно, как в подвале. Закутавшиеся в тулупы соглядатаи сидели на земляном полу, напоминая нахохлившихся голубей. Первым делом я велел Болшеву поставить обоих на ноги и отобрать у них тулупы. Так лучше дойдёт.
– Друг ваш поднял на меня руку в моём доме, – ледяным тоном проговорил я, смеривая обоих взглядом, от которого они ёжились едва ли не сильнее, чем от холода, царившего в клети. – Завтра поутру его найдут в кабаке в Земляном городе с перерезанным горлом.
Тут оба соглядатая, как я и думал, повалились на колени и поползли ко мне на карачках.
– Не казни, князь-милостивец, – вопили они в один голос. – Сохрани животы наши. Не было у нас умысла тебя губить.
– Прочь, псы! – рявкнул на них Болшев, замахнувшись для острастки саблей в ножнах.
Тульский дворянин до сих пор чувствовал себя скверно, потому что проспал угрозу, и первыми спасать меня ворвались не его люди, а драбанты Сомме. И только рад был был выместить на оставшихся двух соглядатаях накопившуюся злость.
– Глядите, наушничайте, докладывайте обо всём Дмитрию, – разрешил я соглядатаям. – Но коли снова к кому подойдут и предложат меня убить, сразу о том мне докладывайте.
– Не придут к нам с таким, – заявил один из них, поднимаясь на ноги и хлопая себя руками по плечам.
– С чего ты взял? – удивился я.
– Кузька Воронов вор был, холоп беглый, что за Болотникова дрался, тот его послужильцем сделал, – объяснил соглядатай. – Это потом уже, при князе Дмитрии он зарайским дворянином сказался, но все-то знали, кто он таков. Одного слова княжьего хватило бы, чтоб он на глаголь отправился.
– А вы стало быть агнцы, – рассмеялся я. – Никогда прежде чёрных дел не творили.
– Всяко у нас за душой, княже, – не стал отпираться второго соглядатай, – но на спящего руку бы не подняли. Встретить в переулке сабелькой – это можно, а в постели резать, нет. Совсем это дело кромешное.
Крепко же помнили опричнину все в Москве, что всякой жестокости и подлости были мерилом именно опричники.
– Ступайте тогда, – отпустил я их.
– Но знайте, сукины дети, – скорее для меня, чем для них, сообщил Болшев, – за вами самими пригляд будет.
Я первым вышел их клети.
Удивительное дело, ноги держали крепко, меня ни разу не шатнуло ни на лестнице, ни в холодном подвале и в клети. Злость придавала сил, но стоило ей отступить, схлынуть адреналину из крови, как навалилась невероятная усталость. Болшев с одним из послужильцев подхватили меня и почти волоком потащили обратно в постель.
Алекандра, сидевшая в моих палатах у кровати, вскочила на ноги, увидев на меня волокут.
– Что с тобой, супруг мой? – спросила она, подбегая и помогая Болшеву с послужильцем усадить меня на край кровати. – Достал тебя вор, куда ранил тебя?
– Не достал, свет очей моих, – ответил я. – Силы кончились просто.
Я увидел как просияло её лицо и сам невольно улыбнулся. Никогда прежде в том далёком будущем, где я жил раньше, меня никто так не любил. Крепко и сильно, по-настоящему. Вот только тень всё ещё оставалась на лице Александры, и я должен понять, какая кошка пробежала между нами. Но не сейчас. Сил и правда ни на что не осталось.
Болшев с Александрой раздели меня и уложили в кровать. Александра сама, будто мама укрыла меня медвежьей шкурой, и последнее что я помню, прежде чем провалиться в сон, это её заботливые руки, глядящие моё лицо.
– Скопушка, ненаглядный мой, – услышал я, а может мне и показалось. Едва коснувшись головой взбитой подушки, я крепко заснул.
Глава четвёртая
Скуратовна
Как ехать в гости к моей отравительнице большой вопрос. А не ехать я не мог. Нужно было нанести визит куме, поднесшей мне кубок с ядом, и хорошенько с ней переговорить. По душам.
Конечно, я первым делом отправил людей следить за усадьбой её мужа, царёва брата Дмитрия. В гости поеду, конечно же, когда он будет в отъезде. Как оказалось, он почти не бывал дома, едва ли всё время пропадая с братом в Кремле. Конечно же, не хотел великий конюший отходить далеко от царя – иначе кто ему будет шептать в ухо об изменах, окружающих его. Прямо как Грозному и Годунову в последние годы жизни. Екатерина же, супруга его, не могла подолгу отлучаться из дому, потому что вела хозяйство, за которым постоянный пригляд нужен.
Но если с этим разобрались легко и быстро, то над тем, как ехать, я думал много дольше. Была бы зима взял бы сани, ничего зазорного в этом нет – никакой рачительный хозяин не станет без нужды бить ноги верховых по снегу. А вот катиться в возке, будто боярыня мне ни к лицу. Хуже только пешком. Князья пешими не ходят. Эта мысль первой возникла в голове, стоило только всерьёз задуматься над таким вариантом.
Садиться в седло было страшновато. В прежней жизни я только в детстве фотографировался на живой лошади, ну и катали меня пару раз. Конечно, можно было положиться на память тела – князь Скопин-Шуйский уж точно был отменным всадником. А ну как подведёт она в этот раз – и что тогда, опростоволошусь перед всем миром. Такого даже болящему не простят. Не уверен в себе – не лезь. Здесь и сейчас царствует этот принцип, и скидок никому не дают.
И всё же выбора не было. А потому я тянул с визитом, дожидаясь полного выздоровления. Я уже свободно ходил по дому и двору, даже пару раз схватился на саблях с Болшевым и Сомме. Швед, к слову, на самом деле, ещё не до конца оправился от раны, полученной на Каринском поле, так что в том, что он не спешил домой, была лишь доля притворства. Если и сейчас он бледен и не слишком уверенно держит палаш, что же с ним было в марте или зимой. И правда мог бы околеть по дороге домой.
Но тянуть до бесконечности нельзя. Делагарди уже заезжал пару раз и заводил разговоры о войске, от которого я отставлен. О том, что наёмники недовольны очередной задержкой денег, что с ними обещают расплатиться не честным серебром, но новыми, специально для этого дела отчеканенными золотыми копейками, которые пойдут одна за десять серебряных. А сколько в тех копейках царских золота на самом деле, кто ж знает. Да к тому же большую часть вообще мехом отдать хотят, а на что эти меха солдатам – за честную цену их никто не купит всё равно. Шведы ещё держатся – они присягали королю, а вот наёмники уже ропщут и обещают податься к Жигимонту под Смоленск. Польский король-де платить честно и серебром, а ещё распускает по желанию войска на свободное кормление. То есть разрешает грабить и разорять округу. От царя же Делагарди внятных ответов не получил, и препирается с Дмитрием и Иваном Шуйскими из-за выплаты жалования. Приезжал пару раз и сам царёв брат, правда, Дмитрий не рискнул, зато Иван наведывался, справлялся о моём здоровье, и почти без обиняков говорил, что мне пора отправляться в имение.
– Царь Василий, брат мой, конечно, не Годунов и не Грозный, упокой Господи их души, – говорил он. – Но и он скоро разгневается, если и дальше тянуть. Он ведь и приказать может, и опалу тебе объявить, Михаил.
– Болящем опалу, – качал головой я. – Да я, Иван, только с кровати три дня, как поднялся, чтобы до горшка доползти. Куда мне ехать? Вот подсохнут дороги, тогда двину в путь.
– Не тяни, Михаил, не тяни с этим, – говорил на прощание Иван Шуйский. – Терпение царёво не вечное.
Я заверял его снова и снова, что как только дороги высохнут и закончится обычная наша весенняя распутица, я тут же отправлюсь в имение. Даже маме с Александрой велел готовиться, но не спеша.
Так что пассивно сидеть в Москве и дальше было попросту глупо, да и опасно. Схлопотать настоящую опалу за ослушание царёва совета не хотелось. А значит пора действовать. Также решительно, как и с покушавшемуся на меня по наущению Дмитрия Шуйского дворянину Воронову. Убивать жену Дмитрия я, конечно, не стал бы, но разговор у нас с ней будет весьма душевным.
В гости к княгине Екатерине я отравился всего с двумя послужильцами. Болшев заверил меня, что оба люди надёжные и в деле проверенные – не подведут и не предадут.
Слуги подвели меня коня, и я едва не попросил поменьше. Вот только поменьше конь меня долго таскать не сможет – больно я здоров. Говорят, даже особый гроб выколотить пришлось – ни один готовый мне не подошёл. Передо мной стоял настоящий мастодонт, рыцарский конь, подаренный Делагарди. Я редко ездил на нём, слишком уж дорог он для войны, но сейчас, для визита к княгине Шуйской, годился как нельзя лучше.
Я погладил его по морде, взял у слуги длинную морковку. Конь сперва косил на меня глазом недоверчиво, как будто чувствовал, что перед ним не хозяин, а кто-то другой в его теле. Однако морковку схрупал с удовольствием и больше не косился на меня.
Слуга придержал стремя, и мне не оставалось ничего, кроме как одним ловким прыжком вскочить на коня. Даже слугу не задел. Теперь царёвы соглядатаи донесут Василию, что я полностью здоров, а значит времени у меня остаётся очень мало.
– Ну, с Богом, – махнул я, и слуги отворили ворота.
Я впервые выехал за пределы своего подворья в Белом городе Москвы. В седле держался уверенно, тело само знало, как править лошадью, за что я был бесконечно благодарен памяти настоящего Скопина-Шуйского. А вот страх перед незнакомым городом вцепился в душу ледяными когтями. Я ехал по подсохшей уже улице к роскошной усадьбе царёва брата. Я отлично знал, где она расположена и уверено направлял туда коня. Вот только вокруг меня лежал незнакомый, совершенно чужой мне город. Кажется, он был чужим и для настоящего Скопина-Шуйского, князь не любил Москву с её интригами, ядом и кинжалом в спину спящему – честная война со всеми её опасностями привлекала его куда больше. Даже в Белом городе большинство домов были деревянными, их красили и белили, но срубы всё равно казались мрачными, чернели законопаченными щелями, а расписные ставни казались такими же фальшивыми, как яркие румяна на дряблых старушечьих щеках.
Меня узнавали, уступали дорогу, снимали шапки, приветствуя. Я отвечал на приветствие, как положено князю, стараясь выглядеть не особенно высокомерно. Надеюсь, получалось. Идущие пешком так и вовсе кланялись. До меня долетали обрывки разговоров, и меня неизменно звали спасителем Москвы, а то и всей Отчизны.
Да уж, тут можно понять моих дядьёв. Такой популярностью в народе ни один из них не пользуется, особенно государь.
Дмитрий Шуйский занял палаты умершего бездетным князя Барятинского Чермного. Отсюда к воротам во Фроловской башне выехал будущий царь Василий с крестом в одной руке и саблей в другой. Скопин-Шуйский тогда сопровождал его, ехал рядом, чтобы прикрыть, уберечь от врагов. Он ещё верил дядюшке, считая его едва не отцом родным. Да и бездетный Василий во многом заменил рано оставшемуся наполовину сиротой Скопину умершего отца.
Они ехали спасать царя Дмитрия Иоанновича от распоясавшихся литовских людей. Да так удачно спасли, что после останки даже опознать не удалось. К слову, в памяти Скопина осталось глумление над самозванцем, которого гоняли по улицам, обрядив в какие-то несусветные лохмотья. Как застрелили его из пищали. А вот истории с сожжением тела и выстрелом из пушки, как оказалось, не было. Его зарыли на убогом кладбище, где хоронили бродяг и упившихся до смерти пьяниц. И даже землю раскидали так, чтобы места не найти. Вряд ли даже я, хотя Скопин и был там, когда в могилу кидали изуродованное тело самозванца, смогу теперь с уверенностью показать, где его зарыли.
Усадьба Шуйских была роскошна даже по меркам Белого города. Лучше дома стояли только за стенами Кремля. У ворот торчала пара крепких стражников с топорами, чем-то напоминающих царёвых рынд.9 И вряд ли это случайно. Они, скорее всего, и были отобраны для службы во дворце, однако их перехватил себе великий конюший, чтобы показать всем свою значимость.
Остановить меня они не посмели, однако кому-то из дворовых подали знак, потому что стоило мне спешится во дворе, на крыльцо уже вышла сама княгиня Екатерина.
– Рада видеть тебя в добром здравии, княже, – поклонилась она.
– А уж как я рад быть в добром здравии, кума, – улыбнулся я насквозь фальшиво. – Твоими молитвами.
Она пригласила меня в светлицу, усадила за стол. День был погожий, тёплый и все три окна оказались открыты. Передо мной поставили кувшин с квасом и блюдо с пирожками. Княгиня налила мне квасу, но я не притронулся к красивой чаше.
– Удали всех отсюда, кума, – велел я княгине. – Не для посторонних ушей наш разговор.
– А коли толки пойдут? – прищурилась Екатерина.
– Кум к куме на квасок зашёл, что такого-то? – в тон ей ответил я. – Разве кто подумает чего срамного.
– Прочь все! – рявкнула Екатерина, и в голосе её услышал я отцову сталь. Наверное, также гонял всех Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский, всей Москве известный, как Малюта.
Челядь едва не бегом убралась из светлицы. Мы остались вдвоём.
По меркам того времени – верх неприличия, и нехорошие толки, о которых говорила Екатерина, обязательной пойдут. Вот только в её власти прекратить их, и железной воли дочери Малюты Скуратова на это хватит. Как хватило на то, чтобы угрожать вдове Грозного царя, вырвать ей глаза, если она не скажет твёрдо самозванец перед ней или нет. Уж с челядью она как-нибудь справится.
– Ты мне чашу с ядом поднесла, Скуратовна. – Я намерено назвал Екатерину ненавистным прозвищем. – А я не умер. Меня черти в ад за пятки тащили, да патриарх отмолил.
– Господь с тобой, княже, не было никакого яду… – начала она, не обратив внимания на то, как я её назвал. А скорее сделав вид, что не обратила – не тот Екатерина Шуйская человек, чтобы пропускать такое мимо ушей. Скорее затаила свою личную обиду на меня, вдобавок к тем, что у её мужа имеются.
– Лжёшь, кума, – улыбнулся я. – Ой лжёшь. Поклянись перед Спасом, что не было. Тогда может и поверю тебе.
Но Скуратовна знала за собой грех, и даже не попыталась встать и подойти к киоту.
– Господа-то хоть убоялась, кума, – продолжил я.
– Чего надобно? – не сказала, каркнула Екатерина. – Говори, зачем пришёл, и поди прочь.
– А может я за жизнью твоей пришёл, Скуратовна, – заявил я. – Ты меня убить хотела, да не смогла, значит, по закону жизнь твоя мне принадлежит.
– Нет такого закона, – выпалила княгиня.
– Есть, кума, есть, – покачал головой я. – Не царёв он, а Божий. По нему жизнь твоя, кума, мне принадлежит, и взять её я могу когда захочу.
– Так бери! – выкрикнула, пожалуй, громче, чем стоило бы, Екатерина. – Бери жизнь мою, изверг!
– В ад к сатане на свидание торопишься, Скуратовна? – усмехнулся я. – По батюшке соскучилась?
– Батюшка мой всё по приказу Грозного делал, не для себя, для государя старался.
– А ты, кума? Ради кого меня травить решила?
Она промолчала. Опустила взгляд.
– Грозный, может, и взял все грехи на себя, – кивнул я. – Да тебе-то никак не уберечься от мук пекельных.
– Да чего ты хочешь, княже?!
Теперь надрыв в голосе княгини был настоящим, не наигранным. То, что мне нужно.
– Мне отмщенье, и Аз воздам, говорит Господь,10 – ответил я. – Не стану я губить свою душу местью тебе, кума, и без того тяжела она от грехов. И ведь никто их на себя не возьмёт, как Грозный.
– Тогда зачем приходил? – в голосе её отчётливо слышались недоверие пополам с облегчением.
– Кроме Божьего закона, есть и древний, закон Земли нашей, – мрачно произнёс я, – и по нему возьму я одну жизнь у тебя за свою.
– Чью же? – прищурилась Скуратовна.
– Супруга твоего, князя Дмитрия, – уронил я. – Когда пришлю тебе весточку, поднеси ему чашу, чтобы отправился он к Господу на суд. Только уж без мучений.
Екатерина побледнела. Кровь отхлынула от её лица. И явно не от страха. Мало чего и кого боялась почти всесильная Скуратовна. Я почти кожей ощущал её гнев.
– Всё же и мою жизнь забрать хочешь, коршун, – снова не говорила, а прямо выплёвывала слова Екатерина.
– А ты думаешь царёв брат тебя бы пощадил? – спросил я, глядя ей прямо в глаза. – Вот приду я к царю, потребую суда над тобой, заступится за тебя Дмитрий? Или другую себе быстро найдёт, когда тебя по приказу царя насильно постригут в монашки или вовсе удавят.
Княгиня Екатерина знала ответ. Не было больше за её спиной зловещей отцовской тени, она во всём зависела от мужа, а по Москве уже ходили слухи о том, что именно она, Скуратовна, отравила меня. И любви народной это самому царю не добавило. Так что если я пойду к царю требовать суда, заступничества Дмитрия ей не дождаться. Екатерина отлично понимала это – неглупая же женщина.
– Вот то-то и оно, кума, – нарушил повисшую тишину я. – Моя ты теперь вся, что по Божьему закону, что по царёву. А весточки может и не будет вовсе. Ни к чему мне ни твоя жизнь, ни к царёва брата.
Я поднялся из-за стола, и Скуратовна встала следом.
– А квасок-то хорош у тебя, кума, – усмехнулся я на прощание. – На диво хорош.
Конечно же, я не отпил ни глотка.
Глава пятая
Тяжёлый разговор
Сам отправиться в гости к царю я не мог. Пускай и князь, и родич его, но не мог заявиться к нему вот так запросто. Жизнь не кино, в семнадцатом веке (если считать привычным нам способом от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как сейчас было принято на Руси) всё было прочно сковано цепями условностей и традиций, которые считались нерушимыми. Собственно, за такую вот поруху всего прежнего и поплатился самозванец, которого из-за причуд народ в конце концов и не признал истинным царём.
Поэтому я терпеливо ждал пока в ворота моей усадьбы постучится гонец от царя Василия с вызовом в Кремль пред светлы очи государя. Конечно, это был риск. Тот же самый гонец мог привезти мне весть об опале и царёв приказ удалиться в вотчину. И я сознательно на этот риск шёл, потому что иного выбора не было. Я должен попасть в войска, должен вести их к Смоленску, где упрямый воевода Шеин держит оборону против армии Жигимонта Польского. Эти мысли, конечно, остались от прежнего князя Скопина-Шуйского, но и мне теперь было неспокойно в Москве, несмотря даже на разговор с княгиней Екатериной. Она и так вряд ли стала бы травить меня снова, так что опасности не представляла, а вот её супруг, царёв брат Дмитрий, наоборот. И чтобы справиться с ним мне обязательно надо переговорить с дядей Василием. Но тот по обыкновению тянул с решением, не вызывая меня к себе и не присылая опалу.
Не вызывали радости и новости из можайского лагеря, где стояла армия. Сомме вернулся туда, снова начав обучать людей войне на европейский манер. Он говорил что-то о трудах Морица и Вильгельма Оранских из далёких Нидерландов, которые били непобедимую прежде испанскую армию, славную своими терциями. До ранения полковник со своими унтерами уже начинал такое обучение, но теперь всё пошло насмарку и приходилось начинать сначала. К тому же он постоянно сталкивался с откровенным саботажем. Рекрутов для пикинерских рот брали из посошной рати – небоевого ополчения, главной задачей которого было рытьё и строительство укреплений. На неё во многом опирался князь Скопин-Шуйский в своих сражениях, буквально перерывая местность и застраивая её засеками и крепостцами, где держали оборону стрельцы и наёмники. Однако теперь платить им приходилось, как солдатам, что увеличивало и без того огромные расходы на армию. И это, конечно же, не нравилось царю и приказу Большой казны, в которой было не так уж и много денег.
– Людей Сомме не дают, – говаривал нередко наезжавший из можайского лагеря ко мне в гости Делагарди, – а те, что есть, ленивы и глупы. Их и к лопате приставить страшно. Он с унтерами бьётся как лев, но чудес творить не обучен. Да и времени мало. Это у разлюбезных его Оранских времени, денег и людей было сколько хочешь.
– А нам придётся, как обычно, творить чудеса с тем, что есть, – отвечал я полушутя.
– Мало что у нас есть, а ещё меньше скоро останется, – мрачно заметил как-то Делагарди. – Наёмники уже не ропщут, а отрыто говорят о бунте. Денег нет, ни обещанных золотых, ни мехов. Воеводой царь назначил своего брата Дмитрия, ему никто не верит, даже ваши, русские, младшие воеводы откровенно презирают его. Он пыжится, пытается показать, что чего-то стоит, но над ним уже потешаются. Пока за спиной, но скоро и в лицо смеяться станут. Не будет с ним никакой победы под Смоленском. Ни Сапеге, ни Жолкевскому брат вашего царя и в подмётки не годится. Побьют с ним войско, а он бросит всех и сбежит, как уже было.
Так уже было под Болховом, что я собирался припомнить царёву брату. Армию он потерял, а сам сбежал и едва живой примчался в Москву, трясь, как заяц. Попал прямиком на царёву свадьбу, и там упрекал брата за то, что тот не ко времени жениться надумал.
– Одно хорошо, что податься наёмникам некуда, – добавил Делагарди. – Все знают, что Сигизмунд воюет за собственный кошт, и деньги у него кончаются. Иначе зачем было распускать казаков. Значит, под Смоленском на наём рассчитывать не приходится, а уходить отсюда вовсе без денег никто не хочет.
– Деньги у Сапеги найтись могут, – заметил я. – Из Калуги наверняка прелестные письма шлют.
– Шлют, – кивнул Делагарди, не став спорить с очевидным. – Да только ни Колборн, ни де ля Вилль ни их офицеры уже не верят ничьим обещаниям. Только звонкому серебру, чеканной монете, никак иначе. Обещание златых гор от Сапеги для них звучат также, как и слова Дмитрия Шуйского о золотых копейках и горах пушнины. Ни того, ни другого пока никто не дал.
Я понимал, что мне нужно как можно скорее встретиться с царём. Даже нынешний я, имеющий лишь голую память князя Скопина-Шуйского видел, что царь ведёт всех в никуда. Прямиком в ад, если уж честно. Он не глупый человек, но как будто не знает, что ему делать на престоле. Вот забрался он туда, а что дальше – как страной управлять, когда ты ничего дальше ста вёрст от Москвы не контролируешь. Города присягают кому хотят, и то дело меняют сторону. Новгород ещё как-то держится царя, но, похоже, Василий патологически не доверяет новгородцам, прямо как Грозный, считая, что там по-прежнему гнездо предателей, которые только и ждут, как бы не то Жигимонту Польскому продаться, не то просто отложиться от Русского царства. Василий пытается юлить, вертеться, угождать всем, потому что не чувствует за собой силы, и не хочет её. Потому что любого сильного человека рядом с собой не терпит – боится его. Прямо как меня. И слушает наветы брата – человека мелкого, подлого, зато верного. Уж Дмитрий-то никуда не денется – падёт Василий, и Дмитрию несдобровать.
И вот этот день настал. Гонец из Кремля передал приглашение явиться пред царёвы очи немедля ни минуты. Я отпустил его, дав на радостях пару серебряных копеек на пропой, пускай знает мою щедрость. Князь я или не князь. И тут же велел звать цирюльника, да готовить моё лучшее платье. Не каждый день к царю езжу. Уж этот визит будет посерьёзней беседы с кумой, да и разговор намечается посложнее.
Я снова ехал верхом по Москве. Теперь уже взял с собой Болшева и ещё одного дворянина – с послужильцами в Кремль соваться не стоит, царь и это может воспринять как оскорбление. Оба дворянина вырядились в лучшее, тот же цирюльник, что брил меня, подровнял им бороды, и они смотрелись женихами. Ехал намеренно медленно, и чтобы княжескую честь не уронить, и чтобы ещё и ещё раз обдумать разговор с царём.
Лёгкий ветерок приятно обдувал свежевыбритые щёки, но мысли в голове были тяжёлые. Меня обступал незнакомый, удивительно тесный город. Со всем его шумом и множеством запахов. Даже Белый город, где селилась знать, давил со всех сторон своей теснотой.
Мы миновали каменный мост через Неглинную, и я впервые въехал в Кремль. Странно так думать, конечно, потому что и князь Скопин-Шуйский бывал тут не раз, и сам я гулял по Кремлю. Вот только я-то гулял по Кремлю своего времени – правительственно-музейному, с мавзолеем Ленина у стены и красными стенами. А сейчас въезжал в совершенно другой Кремль – крепость семнадцатого века, правда, со знакомыми мне зубцами, с теми же круглыми башнями. Вот только взгляд невольно цеплялся за орудийные стволы, упрятанные в бойницы, и стрельцов с пищалями на плечах. Бердышей они в карауле не носили – зачем зазря тягать их на себе, всё равно махать не придётся, так что в этом устав был мягок. Стрельцов в карауле было очень много, как будто Кремль до сих пор находился в осаде. Не чует, ох, не чует под собой земли царь Василий, потому и ограждается ото всех пушками да большими караулами.
Оставив коней и дворян у царёва крыльца, я поднялся по ступенькам, и пара стражей отворили для меня ворота бывшего великокняжеского, а со времён Грозного, царского дворца.
После гибели самозванца я редко бывал тут. Только на официальных мероприятиях, а они проходили в Грановитой палате. Царь редко звал меня к себе на разговор. Разве только перед отправкой в Новгород, на переговоры со шведами. Вот и сейчас дядюшка принял меня в тех же палатах.
Он сидел на троне, в роскошном облачении. Рядом с троном тёрся, конечно же, верный брат Дмитрий, а за спиной царя замерли, подобно статуям пара рынд с топорами наперевес. Остановившись на положенном расстоянии, я приветствовал дядюшку не как родича, но как царя и государя.
– Ишь ты, лицо-то как выскоблил, – первым заговорил со мной Дмитрий, – и волосы остриг. Прям хранцуз, али гишпанец, а не русский человек.
– Про иного говорят, что волос долог, да ум короток, – в тон ему ответил я.
Сам тон и слова были явным оскорблением, но Дмитрий просто проигнорировал их.
– Зачем вызывал меня, государь? – прямо спросил я у Василия. – Отчего молчишь? Или уже в опале я?
Тут снова вступил Дмитрий. Он жестом велел кому-то войти. Двери за моей спиной отворились, и в палаты внесли здоровенный складень на три иконы.
– Всякое дело лучше всего с богоугодного начинать, – медовым голосом проговорил Дмитрий.
Прежде молчавший царь поднялся с трона, прошёл к разложенному служками складню. Мы с Дмитрием встали за его правым и левым плечами.
– Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, – принялся первым читать Символ веры царь, и мы с Дмитрием не отставали от него, кладя когда нужно широкие крестные знамения. – И во единаго Господа, Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы вочеловечьшася. Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребенна. И воскресшаго в третии день по писаниих. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию несть конца. И в Духа Святаго, Господа истиннаго и Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. И во едину святую соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвым. И жизни будущаго века. Аминь.11
Конечно, многие дела начинают с молитвы, но чтобы вот так перед иконами Символ Веры читать, такого в памяти князя Скопина на нашлось. Значит, сделано намеренно, неужели считают меня посланцем сатаны, который от святой молитвы и икон рассыплется пеплом. Вполне может быть. И это тоже нужно использовать против Дмитрия. Уверен, идея была его.
Закончив чтение, царь вернулся на трон, и наконец обратился ко мне.
– Доколе же ты, князь, будешь противиться воле моей? – вопросил он. – Или желаешь уехать к себе в имение, но с опалой?
– Если куда и ехать мне, государь, – ответил я, – то только в Можайск, к войску. Там моё место.
– Ты же говоришь, что здоровьице не позволяет тебе в имение ехать, а уже в войско рвёшься, князь-воевода, – снова встрял Дмитрий.
– Ещё когда к постели прикованный лежал, – на сей раз я снизошёл до ответа царёву брату, – то говорил государю, что прикажет он я себя к седлу привяжу и поеду.
– А я говорил, что не надобно жертв таких, – отрезал царь. – Ты ещё нужен будешь мне и державе, когда я повелю.
– Так вели сейчас же отправиться мне в войско и готовить его к выступлению на Смоленск, – заявил я. – Лишь этого приказа жду от тебя, государь.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе