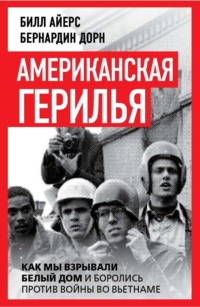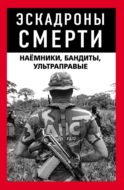Читать книгу: «Американская герилья. Как мы взрывали Белый дом и боролись против войны во Вьетнаме», страница 4
Глава пятая
Всякий раз, когда я слышу гул вертолета над головой или приближающийся в ночи неистовый вой сирен, я вспоминаю Кливленд 1966 года.
Я помню, как однажды рано утром торжественная шеренга войск шумно маршировала по бульвару Евклида в полном фантастическом боевом снаряжении, с примкнутыми штыками, в резиновых противогазах, превращающих каждого солдата в монстра из космоса, их высокие черные ботинки топали по тротуару, их жестяные фляги и патронные ленты отбивали синхронный ритм. Я помню охваченный паникой полицейский патруль, продвигающийся к горящему зданию, – хлоп! хлоп! хлоп! быстрыми очередями – в то время как грузовики с крюками и лестницами нервно стояли на холостом ходу в резерве. Я помню Джона Дэвиса, девятнадцатилетнего парня из нашего района, который дергался и царапал когтями бетон посреди Лейквью-авеню, его левая нога была согнута под невозможным углом, прежде чем он рухнул вперед, рассеянно целуя улицу, когда кровь собралась вокруг его головы и потекла в канаву. И я помню, как лежал лицом вниз на жесткой, раскаленной улице, газ попадал мне в глаза, дым – в рот, М-16 упиралась мне в ребра. Это зашкаливало, и тогда что-то пошло не так.
Был август, конец долгого жаркого лета, и, что невероятно, я оказался втянутым в массовые беспорядки в большом городе. Но история любой жизни включает в себя парад непоследовательностей.
Я приехал в Кливленд несколькими месяцами ранее, завербованный в Общественный союз Ист-Сайда, чтобы открыть альтернативную школу для детей младшего возраста, находясь в отпуске от Детского сообщества.
Общественный союз был частью совместной национальной стратегии SDS и SNCC (Студенческого координационного комитета ненасильственных действий), положившей начало переходу от борьбы с юридическими барьерами на пути интеграции в основном на Юге, которые сейчас в основном отступают, к организации вокруг фактической сегрегации и экономической несправедливости повсюду. Наше внимание было сосредоточено на создании мощной силы из бедных людей в больших северных городах – мы называли их grassy grass roots, – которые могли бы изменить не только свою собственную жизнь, но и мир.

Бернардин Дорн
Нашим лозунгом было «Пусть народ решает», и наш план состоял в том, чтобы жить среди бедных, разделять их страдания и триумфы, а затем строить действия и организацию вокруг вопросов, представляющих широкий и общий интерес: прав арендаторов и социального обеспечения, например, безопасности и жестокости полиции, образования и школ, расовой дискриминации. Мы горячо верили, что любые законные и справедливые перемены должны проводиться теми, кто был вытеснен и изолирован, и мы были уверены, что борьба в интересах этих забытых людей, раздавленных на дне, является ключом к социальным преобразованиям, которые потрясут весь мир до глубины души и в конечном итоге принесут пользу всем. Мы рассматривали нашу политическую работу – создание могущественного межрасового движения бедных – как этичный труд. Организация как праведность.
Прошлой зимой в Анн-Арборе проходило национальное собрание общественных организаторов, и я познакомился с ребятами из Ньюарка и Патерсона, Чикаго и Лос-Анджелеса, но группа из Кливленда была для меня особенной. Во-первых, Пол Поттер, президент SDS и человек, которого я уважал, переехал в Кливленд вместе с другими ветеранами движения, включая активистов SNCC. Кроме того, представители Кливленда на конференции были в основном простыми жителями сообщества, а не организаторами. На меня произвели впечатление все они – социальные матери, поденщики, повара, горничные и уборщики – своей серьезностью, решимостью и ясностью, и я предположил, что каждый из них был более честным, более порядочным – действительно, как вьетнамцы, более человечным, – чем другие люди, которых я знал. И наконец, я сразу влюбился в одного из делегатов.
Однажды вечером я встретился с пятью из них, двумя из Общественного союза Вест-Сайда, сосредоточенного в основном в районе Аппалачей на ближнем Вест-сайде, и тремя из Общественного союза Ист-Сайда, организующегося в черных кварталах на дальнем Ист-сайде. Трое из пяти были матерями – пособницами с маленькими детьми дома – Лилиан Крейг, которой было суждено стать национальным лидером в качестве воинствующего борца с бедностью и борца за права социального обеспечения; Кэрол Кинг, президент Общественного союза Ист-Сайда; и Доротея Хилл, которая когда-то была поражена идеей создания школы, подобной Детскому сообществу, для своих собственных детей, загорелась мечтой и начала помогать мне всем, что у нее было, – а было у нее много. Ее было легко полюбить; их всех было легко полюбить. Но Джеки Моррисон, чернокожая восемнадцатилетняя девушка, уже ветеран движения, была той, кто покорил мое сердце в тот год.
Джеки выросла в Ист-сайде, в красивой квартире с видом на парк. Ее отец был врачом, мать – учительницей, и они с младшим братом были полны высоких ожиданий. Ты замечательный, ты красивый, ты экстраординарный, говорили им родители всеми способами и каждым вздохом, и любой, кто думает меньше, невежествен, фанатичен или неправ. В старших классах она занималась всеми видами спорта, вступала во все клубы, была на «отлично» – ее воспитывали для участия в Лиге Плюща. Но в восемнадцать лет, еще не выйдя из дома, она также организовала школьный клуб по защите гражданских прав, и теперь у нее была другая идея – она собственными умелыми руками превратит себя в борца за свободу.
Джеки шла с идеальной осанкой, нечто такое, чему нельзя научить, и она вошла в комнату так, как мог бы выйти на ринг боксер наилегчайшего веса, крепкий маленький парень, ожидающий победы. Каждый день она носила синие джинсы или джинсовый комбинезон и накрахмаленную белую футболку, ее маленькое личико обрамляли большие очки в роговой оправе и полный афро. Ее прическа, конечно, была политическим заявлением, от которого никто не ускользнул.
– Мой папа говорит, что я выгляжу «по-деревенски», – сказала она мне, когда я провожал ее домой поздно жарким вечером. – А моя школьная подружка говорит, что я выгляжу «оборванкой». Но, черт возьми, я такая от природы. К черту весь мир.
– Я думаю, ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, – сказал я.
– Ты первый мальчик, назвавший меня женщиной, – сказала она.
Но, очевидно, подумал я, многие называли ее красивой. Она взяла меня за руку, и она была теплой и влажной, наши ладони идеально подходили друг другу. Мы перестали разговаривать, и она поцеловала меня в губы. Когда я коснулся ее лица, меня охватила дрожь. Я был поражен. Она что-то прошептала, но я не разобрал что.
Бедность в нашем районе поначалу поразила меня как жестокий удар. Я читал о бедности в книгах, повсюду видел фотографии бедных людей, но я не был беден и поэтому ничего не знал о запахе лишений, вкусе нужды, обволакивающем ощущении нужды. Я увидел, каково это – быть разоренным, по-настоящему разоренным без подкрепления, и каково это – быть голодным, а не просто готовым к обеду. Мой подъезд к третьему этажу безликого кирпичного здания на Лейквью-авеню был одним из длинного ряда обшарпанных строений, тянувшихся, насколько хватало глаз. Не работали элементарные вещи – отопление для длительных переездов, электричество, вода и водопровод, – и домовладелец появлялся здесь крайне редко. Летом соседи сидели на крыльцах, полуголые дети в залатанных штанишках играли в бросание камней или гонялись за облезлыми бродячими собаками. Группы мужчин собирались на углах и на пустыре рядом с нашим зданием, курили, передавали друг другу бутылку или косячок.
Моими соседями по комнате были Алекс Уизерспун и Терри Роббинс. Восемнадцатилетний Терри, невысокий, с копной волос песочного цвета, обладал порхающей энергией нервной птицы. Его внимание было неустойчивым, он был везде сразу и в то же время нигде, а его хрупкое тело было так туго натянуто, что тлеющий «Кэмел», застрявший у него в зубах, мог бы послужить фитилем. «Любой неженка может бросить курить», – говорил он, насмехаясь над своей привычкой. Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы столкнуться с раком легких. Казалось, он спешил испытать все, даже неизбежное. Я наблюдал за беспокойным движением его рук, когда Терри раскинул руки и захлопал крыльями, как пингвин, бегущий по льду, направляясь к глубокой воде. «Кливленд – слишком солнечное название для этого места, – заявил он по прибытии. – Теперь, когда еврей из Флашинга здесь, я должен окрестить тебя заново… Во имя Отца, Сына и Святого Духа, я нарекаю тебя Клевсбургом».
Алексу было тридцать три, он был ветераном Корейской войны и нескольких лет участия в кампаниях SNCC на Юге. Алекс легко смеялся, его широкий рот пересекал узкое темно-коричневое лицо, и он шутил обо всем, особенно о повседневных опасностях мира, в котором царят расистские выходки, но часто, когда я приходил домой, я заставал его сидящим одного в темноте и молча курящим. Где бы он ни был в своих мыслях, он всегда улыбался и оживлялся, включал свет, разговаривал и шутил, ставя кофе.
Алекс вернулся в Кливленд, чтобы быть поближе к своей стареющей матери, которая жила по соседству. Он работал три дня в неделю городским пожарным – настоящая работа, которая оплачивала уход за его матерью и все еще позволяла ему быть полноценным организатором и активистом. Каждому из нас платили по 2 доллара в неделю на карманные расходы, а нашу арендную плату и питание покрывал Общественный союз. Всегда стесненные в средствах, мы существовали на небольшие подачки от церковных групп и профсоюзов.
Наша работа, сказал Алекс, состоит в том, чтобы организоваться вне работы, и он имел в виду, что, хотя мы и можем быть катализаторами перемен, мы никогда не сможем заменить руководство местной общиной. Мы хотели создать организации из бедных людей Ист-Сайда, посредством них и для них, и мы глубоко критиковали профессиональных работников, ориентированных на оказание услуг беднякам, – сутенеров бедности, как называл их Алекс, делающих деньги на чужом горе.
Мы усердно работали, чтобы стать частью нашего сообщества, прислушиваясь к тому, что нам говорили люди, и проявляя максимальное уважение к нашим новым соседям. Сначала мы хотели стать добропорядочными гражданами нашего квартала. «Не придавай этому большого значения, – сказал Алекс, – но собери мусор по дороге на автобусную остановку».
Вскоре мы стучали в двери, разговаривали за кухонными столами, зависали на крыльцах и ходили на пикники в парк. Мы были явными аутсайдерами, живущими здесь по собственному выбору. Обходя людей от двери к двери, мы пытались вовлечь их в разговоры, которые могли бы рассказать о препятствиях, с которыми они сталкиваются в своей жизни; называя эти барьеры, сам этот поступок мог бы позволить им объединиться с другими, чтобы бороться, чинить, преодолевать. По крайней мере, мы на это надеялись.
Когда Алекс впервые постучал в дверь Доротеи Хилл, она открыла ее с широкой приветливой улыбкой. «О, вы – сторонники гражданских прав из соседнего квартала, – сказала она. – Я ждала тебя, заходи». Они проговорили до поздней ночи о детях, социальном обеспечении, школах, преступности, арендной плате, бандах, проблемах и жизни по соседству – это было началом прекрасной дружбы. Позже, когда я спросил миссис Хилл, почему она сказала Алексу, что ждала нас, она рассмеялась и ответила: «Я годами смотрела по телевизору, как движение борется за справедливость; как бы я ни была бедна, я поняла, что через некоторое время оно доберется и до моей двери».
Доротея Хилл была прирожденным лидером. Проницательная, красноречивая, уважаемая, она выросла в квартале и теперь растила там своих собственных детей. Активная в своей церкви и родительском комитете, она была человеком, к которому другие обращались за руководством и помощью. Когда ребенка сбила машина на Лейквью-авеню, именно миссис Хилл созвала собрание в своей гостиной, чтобы заставить город установить светофор; когда было урезано пособие на возвращение в школу, миссис Хилл организовала акцию протеста; когда крыса укусила ребенка, пока она спала в своей квартире, Доротея Хилл придумала драматическую тактику: взять с собой на демонстрацию в центр города дохлых крыс и свалить их на ступеньках правительственных учреждений. «Уберите крыс из Лейквью и мэрии», – кричала Доротея Хилл в мегафон, возглавляя скандирование.
Миссис Хилл открывала собрания молитвами, частично политическими: «Благодарю тебя, Господь, за Твои многочисленные благословения, за Твою милость, и, пожалуйста, Господь, помоги нам провести эту демонстрацию на следующей неделе». Затем мы исполнили несколько песен – «Пусть круг будет неразрывным», «Этот мой маленький огонек», «О, Свобода», – чтобы сплотить нас как группу, напомнить нам о нашей общей цели и заставить всех нас почувствовать себя немного сильнее. Начиная составлять повестку дня, миссис Хилл всегда вставляла свои собственные мудрые слова в качестве вступления: «Сегодня вечером мы поговорим о правах на социальное обеспечение и Рабочей тетради по социальному обеспечению, которую мы скоро опубликуем. Теперь помните, только потому, что вы бедны и получаете пособие, не означает, что вы не гражданин, а у граждан есть права». Или: «Теперь мы перейдем к выяснению вопроса об открытии этой детской общественной школы. Наши дети бедны, это верно, но это не значит, что у них нет прекрасных умов, верно, Билл? Мы должны подумать о том, как стимулировать эти прекрасные умы».
Первое число месяца в нашем квартале было праздничным, у всех в карманах звенело немного денег. Общественный союз начал устраивать первые в месяце вечеринки. Миссис Хилл часто приносила горчичную зелень и картофельные оладьи. «Не ешь чужие картофельные оладьи, Билл, – предупреждала она меня с лукавой улыбкой. – Мои читлины – редкий деликатес, – сказала она, – но никогда не знаешь, что могут съесть по соседству».
Постепенно Общественный союз Ист-Сайда превратился в крупный динамичный проект по защите прав на социальное обеспечение; комитет по забастовке за жилье и арендную плату, организующий строительство за зданием, требующий справедливой арендной платы и разумного содержания и ремонта; проект общественного здравоохранения, возглавляемый двумя молодыми врачами; офис на фасаде магазина, куда люди могли зайти выпить кофе и поболтать; дошкольное учреждение, действующее в подвале церкви; и информационный бюллетень сообщества. Каждое мероприятие было попыткой открыть пространство для участия, ежедневным повторением демократии, все было намеренно построено с использованием энергии и интеллекта жителей Лейквью – энергии и интеллекта, по большей части незаметных и игнорируемых издалека, но, как нам показалось, мощных и яростных вблизи. Доротея Хилл никогда не упускала возможности подчеркнуть этот момент: я бедна, потому что у меня нет денег. Я не психически больна! Я не ленива! Я не глупа!
Необъятная панорама расточительства и жестокости была ошеломляющей. Мама прислала мне упаковку шоколадного печенья и фруктов, и это было похоже на анахроничный подарок, пришедший из другого мира, из другого времени. Если бы я просто хотел помочь, работа была бы бесконечной. Но я действительно хотел помочь. И я думал, что Общественный союз стремится к помощи другого типа, помощи, которая позволила бы людям помочь самим себе, помощи, которая укреплялась бы и расширялась, помощи, которая придала бы людям мужество вечно сопротивляться случайному пренебрежению к их человечности.
Возвышенно, это верно, но и приземленно тоже. Например, после школы каждый день в течение нескольких недель я работал с полудюжиной соседей над исследовательским проектом. Мы купили пять фунтов гамбургеров в супермаркете на нашей улице, а затем объехали весь район, в разные дни покупая по пять фунтов гамбургеров в каждом филиале магазина, который смогли найти, – в других черных общинах, деревенском районе, рабочем классе и богатых пригородах. Мы готовили мясо в строго контролируемых научных условиях – на кухне Доротеи в ее большой черной чугунной сковороде на среднем огне, пока мы все смотрели. Когда мы слили жир, бинго. Гамбургер, продаваемый в черных кварталах, был в два раза жирнее, чем в Шейкер-Хайтс; белый бургер всегда нежирнее Черного. Тщательно проанализировав наши результаты, Доротея добавила томатную пасту и фасоль, и мы все присоединились к ним, чтобы отведать результаты исследования – жирный или нежирный белый рис.
Когда мы представили наши выводы городскому совету, они нам не поверили, но все в квартале знали, что мы были правы – тактика приготовления гамбургеров была на высоте.
Миссис Хилл тоже росла как лидер в городе, а затем и в штате. Она возглавляла марш «воинов бедности» от Кливленда до Коламбуса и каждый вечер выступала на церковных митингах. Она была неутомима, черпая энергию, по ее словам, у Бога и моих детей.
«А вот и сутенеры бедности», – сказал Алекс, с отвращением качая головой, когда начали появляться агенты спонсируемых правительством программ борьбы с бедностью. Это было соревнование, которое трудно признать подлинным, хотя со временем несколько социальных работников стали нашими друзьями. В основном мы думали о них как о нечестных агентах кооптации, стремящихся сорвать те радикальные преобразования, которые мы имели в виду. Они опросили соседей для «оценки потребностей сообщества», используя «научно» разработанную анкету, которую можно было количественно оценить для определения масштаба и ранжирования. Доротея Хилл была в их глазах огромным собранием болезней. Она бросила среднюю школу, забеременела в девятнадцать лет и была матерью-одиночкой с тремя маленькими детьми, одному из которых нужны были дорогие очки. Однажды, будучи подростком, ее арестовали за магазинную кражу, и в то время она тусовалась с группой подростков с Лейквью-авеню, которые называли себя Уличными демонами. Теперь она жила на пособие и иногда подрабатывала уборкой в домах белых людей, пока ее старший сын присматривал за детьми. Она также брала наличные у отца детей, водителя грузовика-дальнобойщика, который иногда ночевал в ее квартире. Другими словами, Доротея Хилл, по их словам, олицетворяла собой целый список поведенческих моделей, которые в совокупности образуют клубок патологий низшего класса: мошенница, член банды, преступница, мать-незамужняя, небрежный родитель, беременный подросток, бросивший школу. Доротея Хилл, по их словам, олицетворяла культуру бедности, и они буквально смотрели ей в рот.
Лейквью-авеню в Кливленде была целым миром, моим миром. У мужчин на углу каждое утро были имена. Эдди Роббинса звали Тандерберд, бутылка дешевого вина в кармане, дружеское приветствие каждый день» «Что это за слово? Тандерберд. Какова цена? Сорок четыре раза в два раза больше». Джеймс Томпсон был маленького роста, в ботинках четыре фута одиннадцать дюймов, в спортивной куртке большого размера, набитой обрезками материи, иголкой и нитками, крышками от бутылок и другими найденными предметами, которые он использовал для изготовления кукол, которые продавал матерям на улице. Теперь Вилли Джонса звали Исмаэль Акбар, но он позволял людям называть его просто Бар. Он был отцом трех маленьких девочек, чьи имена были недавно изменены – теперь они были Мали, Кенией и Ганой.
Все мужчины на углу были уличными персонажами, постоянными посетителями нашего квартала, хорошо известными, надежными и, как ни странно, вселяющими уверенность каждый день. Их переговоры были отчасти сводками новостей – машина Большого Боба припаркована у «Доротеи», сегодня позже он уезжает в Балтимор; отчасти скандальной заметкой – Луи видел, как Элис пробиралась домой в три часа ночи; отчасти дебатами, отчасти вопросами и ответами, отчасти встречей с быками, отчасти проходящим турниром по домино. Вскоре они впустили меня;
я заплатил за свое поступление тем, что был первым учителем, который кто-либо из них знал, который жил прямо здесь, в одном квартале с ними, и потому, что Акбар, который сказал, что все белые люди – дьяволы, сказал, что тем не менее я был хорошим учителем для его девочек. Каждое утро я выделял себе час на то, чтобы постоять с мужчинами и попить кофе из бумажного стаканчика.
На углу можно было узнать немало:
– Вы слышали, как Генри Аллен избивал ту девчонку, которая жила у него?
– Да, около полуночи стало довольно шумно.
– А когда в конце она закричала, и он выбросил ее в окно?
– Блин, я видел, как она упала, и не знаю, как она.
– Да, и копы были здесь через тридцать минут, скорая помощь ехала час, она могла умереть.
– Черные люди для них ничего не значат, чувак. Когда копы тебе понадобятся, ты не сможешь достать их для молитвы, но когда они тебе не нужны, чувак, они везде.
Шумиха была иногда горькой, иногда жалобной, иногда хвастливой, но всегда прерывалась быстрой вспышкой смеха.
* * *
В середине того долгого, жаркого лета что-то красное и яростное пронеслось по нашему району – для одних это было городское восстание, мятеж, для других Черная анархия, бунт в гетто. У меня был древний золотой «Олдсмобиль», который мы называли Лодкой, и я ежедневно ездил на автобусе в больницу с ранеными или в продуктовый магазин за пределами блокадного района, чтобы купить основные продукты для бесплатной раздачи в нашем офисе. Все было дымом и огнем, слухами и подстрекательством.
Истории облетели улицы быстрее пожара: копы на Супериор-стрит избили женщину, направлявшуюся в церковь, а на Сент-Клер коп выстрелил в упор в мальчика и назвал его «ниггером». Но на Евклиде две полицейские машины были сожжены дотла, банк разгромлен, и деньги сильными порывами разлетелись по улице. Правдива она или нет, но каждая история была принята и передана другим, каждая в какой-то степени правдива просто потому, что в нее верили.
Странным было жить в атмосфере, одновременно пугающей и заряжающей энергией. В одну минуту настроение было праздничным, как на гигантском общественном пикнике, все смеялись, делились и раздавали вещи – хотя раздаваемые вещи были не гамбургерами, а крадеными товарами, которые передавались через разбитые окна, – а в следующую минуту откуда-то раздавались выстрелы или внезапно вспыхивало пламя, и мы все поворачивались и разбегались. Однажды днем я увидел, как тридцать или сорок человек – молодые и старые, мужчины и женщины, как респектабельные, так и местные жители – вместе пытались оторвать решетку от большой стеклянной витрины супермаркета. Никто не призывал к осторожности, никто не возражал. И в ту ночь Дональд Холл, парень, работавший в Общественном союзе, но через год присоединившийся к чернокожей националистической группе и сменивший имя на Джамал Дауд, появился в нашей квартире, опаленный и прокуренный, принял душ и ушел со свежей одеждой от Алекса.
Поговаривали о свиньях и хонки, но акция все равно была в некотором смысле избирательной, в каком-то смысле сдержанной. Когда была разбита дюжина витрин, было удивительно, что пиццерия Тони осталась нетронутой – Тони много лет жил со своей семьей наверху, его хорошо знали и любили, и он был беден, как и все остальные.
Возвращаясь из больницы однажды ночью после комендантского часа, мы с Алексом были застигнуты врасплох на контрольно-пропускном пункте на Лейквью-авеню, остановлены под дулом пистолета, распростерты на тротуаре, обысканы и отпущены. Национальный гвардеец Огайо с детским лицом, который, обливаясь потом и тяжело дыша, обыскивал меня, смотрел широко раскрытыми от ужаса глазами. Я тоже.
Гнев по поводу расового угнетения клокотал под внешним спокойствием пятидесятых и вырвался наружу в виде движения за гражданские права, разрушив иллюзию, что с Америкой все в порядке. Я думал, что движение за гражданские права воплощает в себе все, что было хорошего в Америке, – ее идеализм, ее настоятельное стремление к демократии, ее веру в простую справедливость, а также в мужество и способность обычных людей формировать свою жизнь. Это напомнило о том, что было глубоко и, возможно, фатально неправильно в Америке, – линчевания, убийства, всевозможная бесчеловечность, американский апартеид, уродливое пятно на нашей душе, рабство и его наследие – открытая рана, гноящаяся, заражающая все политическое тело. Американская невинность взорвалась. Моральные проблемы стали политическими; поиск личного смысла присоединился к стремлению к общественной ответственности.
Кливлендский проект черпал свою силу и сосредоточился на движении за гражданские права, и он снова и снова оказывался втянутым в его сложности.
Когда тем летом Стокли Кармайкл поднял знамя Black Power на марше в Миссисипи, оно с ревом разнеслось по всему нашему району. Несколько недель спустя Стокли обратился к сотням людей в церкви дальше по улице: «Мы не можем ждать, пока белые люди решат, достойны ли мы нашей свободы, – сказал он. – Мы должны воспользоваться своей свободой. Мы не можем позволить другим делать за нас. Мы должны делать сами. Мы не можем принять стандарты красоты или интеллекта белых. Мы должны избавиться от ненависти к себе. Это совершенно ясно, – сказал он. – Мы на сто процентов люди, и, как и другим людям, нам нужна власть, чтобы управлять своей жизнью. Мы черные, и мы хотим власти». Черные… власти. Черная сила. Церковь вибрировала от возбужденного пения.
Я знал, что смысл слов Стокли включал требование, чтобы я убрался с дороги и организовал «своих собственных людей». Это казалось одновременно необходимым и фальшивым, и мне было больно думать, что у меня, возможно, больше никогда не будет таких друзей, как Алекс или Джеки.
Осенью я вернулся в Энн-Арбор. Джеки уехала в Таскиги, но к этому времени она сменила имя – ее звали Афени Шабазз.
Общественный союз был основан вскоре после того, как преподобный Брюс Клингер был сбит землеройщиком и убит во время сидячей забастовки на строительной площадке здания, которое должно было стать еще одной изолированной государственной школой Кливленда на одном конце Лейквью-авеню. Он исчез к тому времени, когда Ахмед Эванс и группа молодых чернокожих националистов вступили в смертельную перестрелку с полицией Кливленда в квартире на другом конце Лейквью. В промежутках была некоторая борьба и много надежды; иногда даже случался героизм. Это была самая любящая попытка, которую я когда-либо видел, изменить так много из того, что было вопиюще неправильным. А теперь еще и бунт.
Ночь за ночью, день за днем каждая величественная сцена, свидетелем которой я был, была такой ужасной и такой неожиданной, что ни один город больше никогда не останется невинно запечатленным в моем сознании. Большие здания и широкие улицы, цемент и сталь больше не были постоянными. Они тоже были хрупкими и поддавались разрушению. Факел, бомба, достаточно сильный ветер – и они тоже сорвались бы с места или были бы сбиты с ног.
Но мне так нравилось единство тех времен. Я любил Лейквью-авеню, свою улицу – и это была моя улица, – и я любил Общественный союз. Больше всего мне нравилось все, что я видел, и особенно все, чему я учился.
Я думал, что в «Стокли» есть смысл. Но к тому времени я тоже думал, что я черный.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе