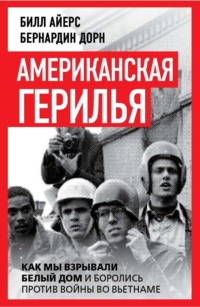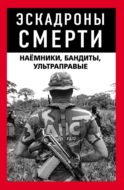Читать книгу: «Американская герилья. Как мы взрывали Белый дом и боролись против войны во Вьетнаме», страница 3
Глава третья
Мы назвали наш маленький тюремный блок «Стратегическая деревушка А», и внутри этой окружной тюрьмы мы пели песни о свободе, громко и часто фальшиво. Стратегическая деревушка А была отделена толстыми стенами от Стратегической деревушки Б, женского крыла, но мы тоже слышали их приглушенное пение, и поэтому пели друг другу серенады день и ночь.
В тюрьме я познакомился с Тре, формально и ранее Милтоном Танненбаумом Третьим, непочтительным анархистом, чей отец был руководителем Dow Chemical. Он был ровесником Рика, выше всех остальных в танке, и ему пришлось пригнуться, чтобы протиснуться в дверь. «Это убивает Элбджея, я знаю, что это так», – сказал он, высмеивая нашу уверенность в том, что наша жертва значила гораздо больше, чем эти серые бетонные стены. Он мучается каждый час, пока я здесь взаперти. Я чувствую его боль.
Тре мне сразу понравился.
Мы с ним поговорили о мире, о политике, но вскоре перешли к другим вопросам. Мы согласились, что, несмотря на всю сложность и непосильную работу, это действительно прекрасный мир, особенно из-за красивых женщин, которые так великолепно населяли и украшали его. Мы были благодарны за то, что живем в таком мире, где так много разных женщин, так много разнообразия. Мы говорили о девушках, с которыми у нас были отношения, – о нескольких – и о женщинах, с которыми мы мечтали быть, – гораздо больше. Каждый из них был в чем-то уникален, и будущее манило, теплое, влажное и гостеприимное.
У нас с Тре и другими было почти химическое сродство, мы чувствовали себя связанными нашим возрастом и нашим мировоззрением, нашей великой верой в себя и нашим уважением к будущему, которое мы создадим. Когда наш век вступал в свои права, молодежь предъявляла свои особые требования. Мы действовали бы в свое время. Мы любили бы по-своему. Мы бы восстали. Мы бы штурмовали небеса. Я понял, что ничто так не сплачивает молодых людей (и, как это ни парадоксально, так надежно), как страстный интерес к человечеству. В суматохе есть сладость, на пути революции – праведность.
Рон Сент-Рон давал нам советы о том, как сохранять спокойствие в условиях стресса и заключения с помощью правильного контроля дыхания и позы, но на второй день он тряс решетку и разглагольствовал, требуя, чтобы его освободили. Нас, вероятно, вообще бы здесь не было, если бы мы не разозлили судью, которому было наплевать на наши любимые сообщества, или на наши иллюзии свободы, или на наши распаленные страсти, и который был склонен дать нам отсидеть срок в обмен на отказ от участия в состязании. Но мы шумно вошли в зал его суда, распевая «О, свобода», когда он сердито посмотрел на нас, а затем каждый из нас настоял на том, чтобы высказаться. Мы были в огне.
– Судья, – сказал Рон, когда подошла его очередь, – вы знаете закон, вы знаете, что эта война неконституционна. И вы знаете, что я еще недостаточно взрослый, чтобы голосовать, но я достаточно взрослый, чтобы мне сказали идти убивать и умереть. Итак, судья, вы должны знать, что это неправильно!
Я процитировал Шекспира.
– Действие – это красноречие, – сказал я, и судья съежился, нахмурился и арестовал меня на десять дней. Высказавшиеся аспиранты получили по двадцать, профессора (они оба) – по тридцать дней, потому что, кисло объяснил судья, старшие должны лучше знать, чем валять дурака, и они должны получить дополнительное наказание за то, что повели младших по этому коварному пути. Мы громко рассмеялись, а затем подали апелляцию, основывая нашу защиту на незаконности войны и праведности нашего сопротивления. После суда присяжных и бесконечных проволочек мы все снова оказались в тюрьме.
Время, проведенное в тюрьме, многое изменило для меня, и не потому, что оно было особенно жестоким или даже жестким – там не было ни столбов для битья, ни винтов для больших пальцев, ни ночных избиений. «Не искушай их, – шутил Тре, когда сонные дежурные доставляли еду или почту. – Не будите в них гестаповцев».
Тюрьма была в основном утомительной и скучной, все в конце концов начинали действовать мне на нервы. Для начала Рон Сент-Рон, сначала потому, что он был таким показно спокойным, потом таким нравоучительным и, наконец, потому, что он превратился в бешеную разрядку сдерживаемой паники. Отсутствие уединения утомляло, не хватало книг, не было ничего нового, что можно было бы сказать или услышать от кого-либо. Я все это слышал.
Я действительно провел в яме тридцать шесть часов. Яма представляла собой изолятор без окон, без кроватей и стульев, с трещиной в бетоне вместо туалета. Рацион состоял исключительно из белого хлеба и воды, что было ощутимым шагом вперед по сравнению с арахисовым маслом или болонской колбасой и Kool-Aid, и нам не разрешалось пользоваться туалетной бумагой. Семерых из нас отправили в яму, построенную для одного, за то, что мы устроили пожар в нашей камере, используя запасенную туалетную бумагу, поэтому туалетная бумага была запрещена, как и спички и сигареты.
Рон демонстрировал, как приготовить горячий шоколад в металлическом стаканчике с шоколадным батончиком и водой на костре из туалетной бумаги, когда он потерял контроль, и его маленький костерок вспыхнул, превратившись в небольшой пожар, от которого дым распространился по коридору и превратился в лампу у наших ног и свет на нашем пути к дыре. Никто из нас не хотел показывать пальцем на Рона – не знаю, как остальные, но я, например, испытывал сильное искушение, – поэтому коллективное наказание было в порядке вещей. Карцер был на несколько градусов неприятнее, это правда, но было стойкое ощущение, что все это тоже было театром наказания, а не чем-то настоящим.
Моя мама плакала по телефону, когда меня арестовали, а отец прилетел из Чикаго, чтобы пригласить меня на ужин и посоветовать соблюдать осторожность.
– Не закрывай слишком много дверей в будущее, – сказал он. – Не делай слишком много шагов по улице с односторонним движением.
Сейчас его слова звучат размеренно и сдержанно, а в то время казались мне предсказуемо компрометирующими и презрительными.
– Что вы делаете, чтобы положить конец войне? – я бросил вызов. – Возможно, мы не все делаем правильно, но по крайней мере мы против войны и действуем в соответствии со своими убеждениями, что опережает нас на несколько световых лет от Commonwealth Edison.
– Эдисон не занимается политикой, – сказал он. – Это не наше дело. И кто эти «мы», на которых вы продолжаете ссылаться? – многозначительно спросил он.
– Мы, – повторил я решительно. – Я, мои друзья и я. Студенты за демократическое общество, например.
– Я скажу вам одну вещь, – сказал он, – я бы сомневался в группе, называющей себя «Студенты за демократическое общество», – в конце концов, это демократическое общество.
– Ну, я сомневаюсь насчет группы, называющей себя Commonwealth Edison, – сказал я. – В этом богатстве нет ничего обычного.
Все наши разговоры тогда были похожи на маленькие бомбы, которые летали взад и вперед по расширяющемуся полю.
И все же, несмотря ни на что, время, проведенное в тюрьме, изменило меня. Я рискнул, бросился в неизвестность, преодолел сомнения и страхи и поставил на кон свое тело.
Мне был брошен вызов – и я бросил вызов самому себе – связать свое поведение со своим сознанием и призвать все свое мужество на службу идеалу. Я сделал это. По моему разумению, я получил удостоверение и заслужил определенный неформальный статус в движении: братство частокола.
Я также столкнулся с парадоксом: в призывной комиссии, а затем в окружной тюрьме, окруженный и сдерживаемый, я чувствовал себя каким-то образом освобожденным. Я привык к покою и полной свободе, которые дает только клетка. Я трепетал от свободы, она танцевала вокруг и сквозь меня, и странным образом мне хотелось большего.
Мы отказались от мира в том виде, в каком мы его нашли, и, выйдя за рамки унылой пассивности, провозгласили себя воинами восстановления. Драма жизни внезапно оказалась незаписанной, и мы импровизировали в мире, который больше не был неизменным, не был законченным или фиксированным. Наше воображение взламывало все, и интенсивность была опьяняющей. Сами правила были доступны для восприятия, жизнь могла быть какой угодно, и мы готовили что-то новое и, как нам казалось, ослепительное. Вот почему в тюрьме для меня родилось общественное пространство.
В тот момент в этой тюрьме свобода казалась конкретной, трепетной и реальной. Я вырезал красную звезду, восходящую на моем левом плече, мою первую настоящую татуировку, кровавую и болезненную надпись, выколотую иглой и тушью, мой маленький символ автономии и мою личную декларацию независимости. Я хотел заявить права на свое тело, исправить свою меняющуюся личность. Я уже был мятежником, и теперь мне предстояло стать борцом за свободу.
Глава четвёртая
Чем вы занимаетесь на свободе? Я спросил парня постарше, сидевшего со мной на стальной скамье, когда нас впервые арестовали. Этому парню должно было быть тридцать два – тридцать три года – столько же, сколько нашим профессорам и ассистентам, хотя он и незнаком с нами по университету, столько же, сколько копам. Он держался несколько высокомерно, немного отчужденно, единственный из тридцати девяти арестованных в военкомате, которого я никогда раньше не видел на собраниях, демонстрациях или митингах. Он мог быть тем самым стукачом, от которого Рон предостерегал в момент заговора ранее, за исключением того, что он был слишком заметен – короткие волосы, аккуратные усы, клетчатая рубашка. Он возник из ниоткуда.
– Разные вещи, – небрежно ответил он.
Возможно, Рон был прав.
– Я пишу, – сказал он. – Я изобретаю. Я думаю. Я не смог бы работать, чтоб стать рабом. Убивает разум и дух, разрушает либидо – три основы того, чтобы быть мужчиной. – Рон был неправ. – Прямо сейчас, – продолжал парень, – я работаю волонтером в новой школе свободы для маленьких детей.
Мы часами говорили о школах и детях, о нашем собственном опыте работы в классах и о том, как могло бы выглядеть образование в духе свободы. Его школа свободы заинтриговала меня. У меня были все преимущества эксклюзивного и привилегированного образования, но я испытывал к нему большое презрение, презрение, которое распространялось в двух несколько противоречивых направлениях. Сама исключительность, привилегия оскорбляли мое взбудораженное чувство справедливости. Наши учителя в подготовительной школе вдалбливали мысль о том, что мы, избранные немногими, должны быть вечно благодарны за дарованные нам преимущества. Большинство моих сокурсников просто принимали это как должное. Да, казалось, их лица говорили: «мы избранные». И это правда, мы читали замечательные книги, обсуждали великие идеи, впитывали чувство свободы воли и права. Но почему мы должны получать это, а другие – что-то меньшее? Почему тридцати девяти досталось лучшее, в то время как миллионам досталось посредственное, а еще миллионам – худшее? К чему все эти иерархические сверхконкурентные игры, и, главное, к чему все эти претензии на равенство, когда одни люди получают четыре или пять аутов за иннинг, в то время как другие получают только два? Это было несправедливо.
Но помимо несправедливости всего этого, мое презрение перекинулось на содержание моего дошкольного образования. Это было неуместно, оторвано от динамичного мира, стремящегося к трансформации. Это было безнадежно устаревшим – кто, например, скучал по Моцарту, когда у нас были Гиллеспи и Дилан, или нуждался в Гомере, когда у нас были Ричард Райт и Джек Керуак? Новый мир строился прямо здесь, прямо сейчас. Ничто не принималось за чистую монету, ничто не приходило издалека – важен был опыт и еще раз опыт. Я верил, что лучшее образование – это обучение действию, знание дела, именно такое образование мы получали прямо здесь, в тюрьме.
«Ты отвергаешь все, – сказал мне мой отец примерно в то время, – и, похоже, хочешь заново изобрести велосипед». И я сказал: да, именно, все старые колеса сломаны и погнуты, и мы должны все изобретать заново, особенно колеса.
Память плывет по мутному морю – вино – темное, непрозрачное, непостижимое – маленькая веточка, срезанная с дерева и переброшенная, как игрушка, с гребня на гребень. Мы мечтаем построить какую-нибудь суперлодку обтекаемой формы, управлять лодкой со стеклянным дном, читать океанское дно как книгу – морскую карту прошлого на полке в легкодоступном месте. Если бы только океан не был таким глубоким, думаем мы, приливы и отливы – такими свирепыми, пески – такими подвижными – будьте спокойны.
Тогда у меня было несколько любовных романов, самый интересный – с лидером женской забастовки за мир. Она была замужем, имела детей, ей было сорок лет, когда мне было двадцать, она была непримирима к тому, что завела роман с ребенком, и бесстрашной и радостно щедрой любовницей, которая рассказывала мне о тонкостях женского оргазма, вызывая образ басовой скрипки, которая играет все снова и снова, еще долго после того, как шумный дирижер сложил свою дирижерскую палочку и ушел домой.
Когда в том году она возглавляла делегацию американских активистов на встречу с вьетнамцами в Торонто, она пригласила меня поехать с ней, и я был польщен. Наши встречи проходили в дешевом отеле в центре города – восемнадцать американцев и дюжина вьетнамцев с севера и юга, все красивые, скромные и стройные, некоторые тощие, двое самых старших выглядели как скелеты.
Они были дружелюбны, но формальны, постоянно улыбались, но сдержанно.
Напротив, каждый из нас был шумным и эффектным, каждый из нас был толстым – даже самые худые, – а некоторые из нас внезапно стали выглядеть отвратительно тучными.
Я отчетливо помню женщину по имени Нгуен Тхи Тхань, которая сказала мне, что видела фотографии Чикаго: он стоит на огромном озере, и здания там огромные. Она рассмеялась. На ней был серебристо-голубой ао дай, и говорила она так тихо, что приходилось наклоняться к ней, чтобы расслышать. У нее было лицо в форме сердечка, и выглядела она на двадцать два, но, как она застенчиво сказала нам, на самом деле ей было тридцать шесть. Она оставила двух малышей в Сай-Гоне со своими родителями в 1955 году, чтобы уехать на север во время «временного» раздела. Сейчас она была лидером Фронта национального освобождения и жила на юге, но так и не вернулась в Сай Гон и поэтому не видела своих детей одиннадцать лет. В конце наших встреч она подарила мне маленькое колечко с выгравированным на лицевой стороне номером 500, снятое с пятисотого американского самолета, сбитого во Вьетнаме. Если бы она попросила, я бы тут же сбежал с ней во Вьетнам, но, конечно, она этого не сделала.
Америка все еще рассказывала себе безумные истории о демонах-вьетнамцах – азиаты не ценят человеческую жизнь, сказал ответственный американский генерал, – и хотя к тому времени мы ничему из этого не верили, это было частью шумной культурной среды, в которой мы жили, и помогло подготовить почву для нашей встречи в Торонто. Здесь были двенадцать разных людей, которые рассказывали истории о своей жизни и своих потерях с непринужденным достоинством и абсолютной уверенностью в себе. Я был очарован, а затем загипнотизирован. «Мы боремся за нашу страну, – сказали они, – и какое право имеет ваше правительство определять наше будущее?.. Мы проводим различие, – продолжали они, – между американским народом и американским правительством, и мы знаем, что вы делаете все возможное, чтобы положить конец этой агрессии». В этот момент мне пришлось выйти из комнаты, чтобы поплакать.
Они казались мне намного, намного больше, чем людьми – более умными и сострадательными, более смелыми и более этичными, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо встречал. Конечно, это была романтическая идея, романтика, рожденная в мучительное время, романтика, которая подтолкнула меня к новой настойчивости.
Через вьетнамцев я увидел более крупную американскую структуру в действии. Я понял, что для некоторых Америка была злым китом, заглатывающим все, что только можно, и что я, подобно Ионе, жил во чреве зверя, рядом с сердцем Левиафана.
Теперь я хотел быть вьетнамцем и вернулся домой с именем, обозначающим мою страсть положить конец войне, и звали меня Нгуен Тхи Тхань.
Теперь я был активистом движения за мир на полную ставку, а вскоре и учителем школы свободы на полную ставку. Я вышел из тюрьмы и получил свою первую преподавательскую работу. Школа свободы была утопической мечтой под названием «Детское сообщество» – горстка дошкольников со всего Анн-Арбора, размещенных в ветхом церковном подвале.
Я был очарован в тот момент, когда увидел это; обещание этого места отодвинуло уныние трущоб на задний план, и все, что я увидел, были цвета, смех и жизнь. Вскоре я стал регулярно заниматься волонтерством, а потом стал оплачиваемым сотрудником и в возрасте двадцати одного года директором школы – молодость тогда была главным достоинством.
Матерями-основательницами движения были три бесстрашные и умные женщины, чьи маленькие дети приближались к школьному возрасту. Тони сама была учительницей, и она почувствовала тревогу, когда ее старшая дочь отправилась в то, что она считала изолированным, регламентированным, а иногда и жестоким детским садом. «Они травмируют детей там, – сказала она, – учат самым отсталым ценностям, и я не отправлю ее обратно».
У каждой из троих были очаровательные дети, и каждая была окутана милой уравновешенной красотой и несла в себе такую сексуальную уверенность, которую я редко видел раньше. Они легко флиртовали, часто шутили и свободно прикасались друг к другу. У Нэнси были светлые волосы, ниспадавшие ниже талии, открытое лицо и знакомая рассудительность среднего Запада; Бет, похожая на эльфа и игривая, ругалась как моряк и, несмотря на свой рост, доминировала в большинстве ситуаций; у Тони, смуглой и угловатой, с длинными ногами, был широкий выразительный рот и сверкающие миндалевидные глаза. Я влюбился в каждую из них и переехал в мансарду над семьей Нэнси, по соседству с семьей Бет.
Я помню гул моего первого визита. Происходили десятки отдельных событий, ничто не шло параллельно, и для меня было невозможно воспринять что-то большее, чем впечатления. Четырехлетний малыш по имени Тони, высокий и красивый, с серьезным, исполненным достоинства лицом, настаивал на том, чтобы называть меня Билл-Биллом, чему я отговаривал – это напоминало мне о гуфи Роне, дважды повторившем его имя, – но безрезультатно. Здесь были книги, краски и глина, на стенах висели плакаты с Фредериком Дугласом и Харриет Табман, фотографии Эндрю Гудмена, Джеймса Чейни и Майкла Швернера. Несколько ребят долго танцевали возле проигрывателя, и я помню двоих, которые, казалось, делали немногим больше, чем просто буйствовали в большом зале. Мне это понравилось.
Дети были милыми, просто потому, что дети милы, их удивление и ранимость всегда сочетаются, создавая своего рода особое, спонтанное волшебство. Ничто не шокировало и даже не раздражало меня – я носил в себе опыт формирования личности среднего ребенка в большой семье; я близко знал шум, движение и суматоху детского сообщества.
Большинство дней были похожи на тот, первый, – очаги спокойствия, эклектичные проекты и мимолетные попытки в каждом углу, смех и слезы и поток дикости, который мог вспыхнуть в одно мгновение, заставляя горстку хулиганов буйствовать по комнате. Я верил, что большинство школ пытались сломить детей и контролировать их, внедряя какой-то очищенный кальвинизм, избивая их до полусмерти для их же блага. Я всем сердцем воспринял противоположную идею: дети от природы хороши и прекрасно расцветут, если их вырастить на свободе. Немного Руссо, немного Торо. Я так и не понял, как адекватно обращаться с самыми дикими детьми во время их самых бурных извержений – это не вписывалось в мои представления о жизни, и я не знал, к кому обратиться, – поэтому я в основном держался, пока буря не утихла. Я полагал, что сама любовь в конце концов приведет к тому, что все наладится.
Мы организовывали экскурсии повсюду: в пекарню, на фермерский рынок, на сборочный конвейер Ford, на лейбл Motown Records, в яблоневый сад. Поездка в Motown привела к созданию проекта по созданию книги о наших любимых певцах, дополненной текстами песен и фотографиями с автографами, что позволило создать наши собственные уникальные буклеты. Поездка в фруктовый сад привела к тому, что на следующий день школа преобразилась: теперь это была маленькая пекарня, где готовили яблочные оладьи и яблочный соус, яблочные пироги и яблочные маффины.
Опыт, опыт, еще раз опыт. Мы хотели, чтобы дети думали, были смелыми и предприимчивыми, и поэтому мы подталкивали друг друга к смелости и самостоятельному мышлению. Поездки стали громким заявлением о важности личного опыта как приключения, исследования и обучения. Всякий раз, когда ребенок проявлял интерес к чему-либо – странному, причудливому, интригующему, удивляющему, – мы отправлялись посмотреть. Мы поехали в больницу навестить мать, которая работала помощницей медсестры, и в окружную тюрьму, чтобы навестить дядю Тони. Мы зашли на молочную ферму и последовали за молоком на рынок, затем на фабрику по упаковке свинины, чтобы найти бекон, – мужчина в окровавленном фартуке, возглавлявший экскурсию, на самом деле ел ребрышки. Мы поехали в ясли для новорожденных в больнице, а затем в похоронное бюро и окружной морг. Мы не знали, как остановиться и где. Опыт, опыт, сказали мы. Идем дальше.
Я нанял Тре для работы в школе, а затем Тре мобилизовал красочную команду общественных волонтеров. Раста был поденщиком и безработным актером, огромным мужчиной с внушительной осанкой, но заботливым в общении с детьми и увлекательным рассказчиком своим раскатистым красивым голосом. Джонни Миллер был бас-гитаристом, который научил нас миллиону народных песен. Бабушка Сендерс была автомастерской на пенсии, которая приходила раз в неделю, чтобы испечь что-нибудь особенное. Тим, вышедший на пенсию сторож из университета, и Херб, вышедший на пенсию инженер из Ford, любили что-то чинить и мастерить, поэтому каждый из них брал с собой большую сумку с инструментами и сюрпризами во второй половине дня, когда они приходили в гости. Херб мог бы распаковать набор крошечных шкивов и рычагов; Тим расставил бы свою платформу из цветных кубиков и весов.
Несколько месяцев спустя я попросил матерей-основательниц еще раз рассказать, что дало мне право стать новым директором, заменив Тони, которая переезжала в Калифорнию. Очевидно, они видели меня таким, каким я сам себя не видел, каким я долгое время даже не понимал. Но я знал, что в их оценке меня я был расширен – они дали мне то, во что можно вырасти.
– Послушай, – сказала Бет, – тебе двадцать один год, ты совершенно неопытен, бывший моряк торгового флота, бывший заключенный, член SDS с карточками и бросивший колледж. Ты идеален.
Мы рассмеялись, мне было немного неловко, но тем не менее я чувствовал себя польщенным и счастливым, что за мной ухаживают.
– Серьезно, – добавила Нэнси, – ты должен это сделать, потому что ты можешь осуществить мечту о том, чего мы пытаемся достичь.
Всегда приятно, когда за тобой ухаживают, и ты неотразим, когда ухажеры – три красивые женщины чуть постарше, которых ты любишь.
Я сказал «да».
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе