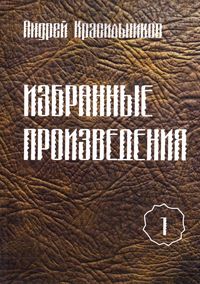Читать книгу: «Избранные произведения. Том 1», страница 5
Стихи и проза
Смерть родителя застала его врасплох, хотя ожидать конца человека с таким больным сердцем можно было каждую минуту. Но тридцатидвухлетний Антон наивно верил в чудо и оказался не готовым к самой горькой своей потере.
Он любил отца тщательно скрываемым ото всех потаённым чувством, в котором смешивались благоговейное почитание, детская привязанность и искренняя благодарность за богатую жизнь. (Богатство, разумеется, исчислялось не в денежных знаках, открыто презираемых в семье, а в широком диапазоне знакомств, интересов, различных «сфер», куда вхож далеко не всякий.) Анненков-старший подыгрывал сыну: делал вид, будто не замечает этой любви, и пенял ему на чёрствость не только прилюдно, но и с глазу на глаз.
Что делало кончину родителя особо трагичной – так это невозможность для Антона во время траура совершить поступок, вынашиваемый всей его сознательной жизнью: сделать предложение Ирине, своей школьной подруге, единственной даме сердца, в день пятнадцатилетия их первого романтического свидания. Полтора десятка лет продолжалось не то борение, не то истязание, не то предвосхищение, пока Антон не решил положить всему решительный конец.
Срок, достаточный любому, чтобы окончить школу и получить высшее образование, казался Антону малым для столь серьёзного дела, как создание семьи. Перед его глазами прошло множество скоропалительных браков и столь же быстрых разводов. Восемь его друзей, ступив на стезю супружества в студенческие годы, уже с неё сошли и вернуться назад не торопились. Но если вкусивший плод не хочет срывать его во второй раз, то почему он должен казаться сладким тому, кто его не пробовал?
С годами Антон пришёл к страшному признанию: либо любви нет совсем, либо ему не дано её познать, ибо ни разу не испытывал он чувств, о которых читал в книгах и слышал от друзей.
Убедив себя в неспособности к истинной страсти, наш герой приготовился довольствоваться привычной приятностью, сулящей умиротворение и спокойствие. «Что ж, самокритично! – подумал про себя он. – Рождённый ползать летать не может. Если крылья любви не отрастают, то не стоит и горевать. Нормальные люди используют не рудимент, а совсем другой орган».
Но только он вознамерился направить плавающее без руля и ветрил судёнышко своей судьбы в тихую семейную гавань, как его буквально перевернуло налетевшее бурей несчастье.
Похороны никаких хлопот от Антона не потребовали: всё взяла на себя общественность. Перед отпеванием устроили гражданскую панихиду, куда даже привезли венок от президента, сопровождаемый руководителем его администрации. Руководитель, очевидно, буквально понимающий свою миссию, двигаясь навстречу сыну покойного, молча развёл руками и, по-прежнему не произнеся ни слова, сжал его ладонь. Тот методично тряс длань соболезнующего, демонстрируя ожидание. Сановник вспомнил, что от него требуется, и нашептал на ухо какие-то банальности про талант и народное почитание. Антон не выдержал и громко ответил: «Лучше б вы ему это сказали самому три месяца назад», имея в виду обошедшееся без государственных почестей шестидесятилетие. Важный посетитель опешил и принялся лобызать престарелую тётку почившего – признанную всем семейством неформальную главу старинного рода.
Сорок дней Антон не прикасался к бумагам родителя и даже не входил в его кабинет. На последних поминках он твёрдо заявил, что сам займётся архивом и просит не беспокоиться функционеров многочисленных писательских союзов, – умерший не признавал ни один – желающих обременить себя членством в комиссии по наследию.
Анненков-старший отличался поэтическим беспорядком во всём, и уследить какую-либо систему в наполнении бесчисленных папок исписанными с двух сторон листками оказалось невозможно. С одной стороны мог быть черновик стихов, а с другой – набросок так и не законченных мемуаров. Неуживчивый с людьми поэт не жаловал ни один из современных ему режимов, а на последний обрушил весь присущий ему сарказм, не израсходованный в столь щадящем власть предержащих жанре, как лирика. Но при этом он не хотел при жизни прослыть ворчуном и злопыхателем и печатал лишь самые невинные главы. Правда, и в них попадались опусы такого содержания: «В те застойные времена мы даже в страшном сне не могли предвидеть, что на первых же свободных выборах президента свободной России интеллигенция побежит голосовать за реинкарнированного Черненко, а на вторых – за добровольца-стукача, выслужившегося в штатные сексоты». Или: «Хватит верить тем, кто засорял нам мозги идеями коммунизма, величием Ленина и прочей ахинеей. Неглупому старшекласснику, не говоря о студенте, было ясно, что всё это – полный бред. Тот, кто его распространял или, ещё хуже, пытался применять на практике, либо полный дурак, либо законченный подлец. В любом случае такой человек недостоин сегодня не только чем-то руководить, но и вообще высказывать публично какое-либо мнение, кроме раскаяния, прощения и разоблачения сущности породившей его системы».
Втягиваясь в чтение, Антон чувствовал, будто погружается в мир, не имеющий ничего общего с реальным. Всё, что здесь совершалось почти механически и не подвергалось осмыслению, там становилось предметом тщательного препарирования. Ни одно слово ни в стихах, ни в прозе не попадало в окончательный вариант, не побывав на строжайших весах Правдивости и Разумности. Ради них ломались поэтические красивости и безжалостно вымарывались эстетизированные необязательные словеса. Родитель недаром называл мастерской тот отсек дома, где уединялся с пачкой бумаги и бутылкой чернил, оставляя следы от последних везде, где надо и не надо.
Знакомые Антону и всей читающей публике со школьной скамьи строчки неожиданно выплывали в своей первозданной обнажённости на выцветших, мятых, исчирканных клочках; они не всегда узнавались с первого пригляда, заставляя мучительно вспоминать книжный текст.
…Первый раз на эти странные две буквы И.Н. в правом верхнем углу черновика Антон наткнулся в тонкой папке со шнурочками, где хранилась, в основном, подборка для популярного толстого журнала, выходившего в те времена миллионным тиражом. Известное стихотворение «Икар», переписанное набело, предварялось сей странной монограммой:
И.Н.
Икару отец счастье редкое дал:
Кружить над землёю, как вольная птица,
Но крылья непрочно приделал Дедал,
Недолго Икар в поднебесье летал,
Ему суждено было вскоре разбиться.
Так ты, окрыляя любовью своей,
Дала мне почувствовать дерзость полёта.
Я взмыл в облака, я парил много дней,
Я сделался сразу смелей и сильней…
Растаял вдруг воск, и упал я в болото.
Не придав значения находке, Антон достал следующую папку и буквально тут же наткнулся на хрестоматийное четверостишие, также предварённое загадочными литерами:
И.Н.
Душа моя изранена тобою,
Слова крошат её, как палаши,
А я, увы, неподготовлен к бою.
Я плачу. Слёзы – это кровь души.
Благодаря последней метафоре затейливый катрен, впервые напечатанный вместе с «Икаром», побывал во всех сборниках родителя, но нигде – Антон это специально проверил – не начинался с интригующих букв. Что это – И.Н.? Может быть, интимное? Но зачем точки?
Через два дня попалась необычная находка, подобная тщательно заложенной, но ещё не сработавшей бомбе. Это было неизвестное, ни разу не напечатанное стихотворение, где знакомые уже И.Н. не прятались в углу странички, а нагло вылезли на середину листа, в заголовок:
И.Н.
Моё необладание тобой:
Коварный рок или твоя насмешка,
Иль то, что было раньше, просто спешка,
Иль я, возможно, стал совсем другой?
Неправда. Я такой же, как и прежде,
Лишь только больше, чем тогда, влюблён.
И смысл жизни всей моей в надежде,
Что всё умчится, как нелепый сон.
Что мы проснёмся снова вместе, рядом,
Что ты меня поманишь пылким взглядом,
И будет перечёркнуто судьбой
Моё необладание тобой.
Стихи, конечно, хуже предыдущих по мастерству, и можно было предположить их появление на раннем этапе творчества, если бы не эти наглые И.Н. Только сейчас до Антона дошло, какой он слепец! Ведь И.Н. – это посвящение. Посвящение женщине. И не просто знакомой, а героине зарифмованных событий.
Наперекор расхожему мнению о любвеобилии поэтов, отец никогда не слыл ловеласом. Два-три романа при достаточно зрелом, чтобы их распознать, отпрыске он, судя по наблюдениям Антона, пережил, но головы при этом не терял и никаких следов не только на печатных страницах, но и рукописях не оставил. Очевидно, они выполняли функцию не изобретённой ещё тогда виагры и тщательно дозировались, дабы избежать побочных действий, самым страшным из которых могло стать разрушение семейного организма, работавшего как часы все годы их счастливого брака с матерью.
Ценность последней находке придавала стоявшая внизу дата – март 1987 года. Она на три месяца опережала появление в журнале «Икара» и хрестоматийного четверостишия. Значит, существовала внутренняя связь между всеми тремя произведениями. Значит, каждый раз в отношениях родителя с таинственной И.Н. происходило событие, толкавшее к чернильнице. Возможно, стихам задавалась и чисто коммуникативная функция: сообщать адресату нечто для него важное. Или важное для пишущего.
Интуитивно чувствуя близость новых подтверждений своей версии, Антон прервал методичную разборку архива и занялся эксклюзивными раскопками. И нашёл! Магические буквы явно проступали на уголке рукописного варианта популярного стихотворения «Казнённая любовь». Раньше Анненков-младший не придавал значения датам написания. А теперь ему казались важными не только год, но и месяц, даже число. Один из набросков попался на обратной стороне открытки, призывавшей проголосовать в июне восемьдесят седьмого за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных (через полтора года блок рухнул, и тот призыв оказался в своём роде последним). Отец имел обыкновение записывать экспромты на первых попавшихся под руку листках. Возможно, эти строки пришли ему на ум в дороге, а с собой оказалась только извлечённая из почтового ящика абсолютно бессмысленная открытка: за кого ещё в застойные времена можно было голосовать!
Выходит, в начале июня уже настал конец бурному роману с И.Н. Именно тогда вышли «Икар» и четверостишие. Впрочем, в ту пору журнальный цикл не позволял управиться быстрее трёх месяцев, и нет ничего странного в подобном совпадении: разрыв-то, как видно из неопубликованных строк, случился аж в марте.
Посвящения И.Н. выстраивались в небольшой цикл. Перелистав все отцовские сборники, Антон, подобно Менделееву, безошибочно угадавшему ненайденные в природе элементы, предположил, что в цикл входит и пятое стихотворение, с тремя звёздочками вместо названия. На вопрос, почему он допускает появление в печати безымянных произведений, автор неизменно отшучивался: мол, это мои звёздные творения.
И действительно, выискалась рукопись со знакомой монограммой и не менее знакомым текстом. Но обнародованный вариант имел одно отличие от чернового. Выглядели они так:
Обнародованный
В плену разлуки страсти пыл
Ушёл в безжалостное было.
Теперь не любит, а любил,
Теперь не любит, а любила.
Уж не расправить прежних крыл,
Уж не поднять нам те ветрила,
Но помни: я тебя любил,
Но помни: ты меня любила.
Пусть скажет нравственный дебил,
В ком бьётся ханжеская жила:
«Греховно он её любил,
Она же каждого любила».
С времён древней, чем Рим, чем Нил
И чем трагедии Эсхила
Всяк прав, кто истинно любил,
Иль та, кто искренне любила.
Стихам вполне достанет сил,
Чтоб нас история хранила.
Пускай все знают: я любил
Тебя, а ты меня любила.
Черновой
В плену разлуки страсти пыл
Ушёл в безжалостное было.
Теперь не любит, а любил,
Теперь не любит, а любила.
Уж не расправить прежних крыл,
Уж не поднять нам те ветрила,
Но помни: я тебя любил,
Но помни: ты меня любила.
Пусть скажет нравственный дебил,
В ком бьётся ханжеская жила:
«Греховно он её любил,
Она же каждого любила».
С времён древней, чем Рим, чем Нил
И чем трагедии Эсхила
Всяк прав, кто истинно любил,
Иль та, кто искренне любила.
Стихам вполне достанет сил,
Чтоб нас история хранила.
Пускай все знают: я любил
Тебя. А ты меня любила?
– Надо же, – подумал про себя Антон, – не поменять ни одной буквы – и так изменить содержание! И всего какой-то значок-крючок в самом-самом конце, а как всё переворачивается.
Вот она – грань интимного в лирике: список для возлюбленной, остающийся неизвестным читателю, и опубликованный текст отличаются лишь одним знаком препинания. Убери его – и задушевное, личное, предназначенное только для двоих становится всем известным, везде цитируемым, анализируемым учёными мужами. Но авторы монографий и не подозревают, как бесконечно далёк исповедальный тон первоначального варианта от жизнеутверждающего канонического. Вот уж воистину уместно исконное русское слово подлинник. Строчки эти порождены чувством, сомнением; заискивая перед любимой, автор хочет понять: а сам-то он был любим или нет. Типографская же краска оттиражировала хоть и грустное, но вполне спокойное настроение человека, пережившего душевную боль и теперь с достоинством сооружающего памятник своему былому увлечению.
В конце поисков цикл, обращённый к И.Н., пополнился шестым и, как оказалось, последним стихотворением. Им стал нигде не напечатанный сонет:
Мою тоскующую душу
Терзает холодом она,
Как бьёт безжалостно волна
Людьми покинутую сушу.
Закрою я глаза и уши,
Но предо мною лишь одна,
Игривой негою полна,
Как будто шепчет: «Правду слушай:
Резвились мы немало дней,
Но чувству так легко пропасть.
Знать, вышел срок. В душе моей
Уже царит другая страсть,
Не жди меня и сам сумей
Преодолеть любви напасть».
Этому нескрываемо интимному произведению знаменитого Анненкова не нашлось пока места на страницах сборников и собраний сочинений. Но, быстро ставший вровень с ведущими исследователями творчества родителя, Антон усомнился: можно ли отнести сонет к ранее найденному циклу. Там – история болезни в пяти её стадиях. Здесь – лишь предчувствие, поэтому вместо боли – всего-навсего кокетливая ирония.
Точная датировка последней находки резко отбросила размышления нашего героя совсем в другую плоскость. Под сонетом стояло число – 8 марта 1987 года. Значит, возникшие в тот день сомнения уже через две-три недели перешли в нестерпимый стон. А, следовательно, «Икар» оказался в промежутке. В нём ещё есть рассудочность, даже академичность, но уже никаких иллюзий. Лирический герой низвергнут с высот любви в вязкую зловонную тину. Именно такой после сладостного блаженства кажется любая нелюбовь. Ох, как несовершенен наш язык! Нет даже существительного, точно передающего состояние отсутствия самого главного чувства. У слова нелюбовь совсем другой смысл. Им обозначается активная позиция кого-то по отношению к другому. А как назвать нейтральное, безразличное состояние опустошённости, когда к близкому ещё вчера человеку сегодня утрачено магнетическое состояние влечения?
Итак, всё ладно выстраивалось в такой ряд. Сначала – сонет, так и не доверенный редакторам, где автор-герой тоскует по даме сердца, а та приходит к нему лишь в воображении и готовит к разрыву. Потом разрыв происходит. И пять берущих за живое миниатюр шаг за шагом передают тончайшие нюансы чувств отвергнутого мужчины: вот у него болевой шок, но он не теряет рассудительности; вот нервные окончания начинают посылать свои импульсы, и он издаёт редкие стоны; вот тоска становится нестерпимой, и утрачена внешняя степенность, а поэтические тропы заменяет голая эротичность; вот болевой синдром приглушён, и в стихах разливается уже не тоска, а досада; вот всё окончательно позади, и возникает грусть, перемешанная с верой в значимость случившегося, иначе зачем это происходило.
Решено: впредь публиковать пять стихотворений циклом и предварять их сонетом.
А как быть с посвящением? Ведь сам автор постоянно снимал его при публикации.
Щадил жену? Возможно. Мама бы не перенесла столь чувственных излияний в адрес реально существовавшей женщины, сумевшей возбудить страсть в типичнейшем однолюбе. Они прожили вместе, как в сказке: тридцать лет и три года и всегда казались необычайно гармоничной и счастливой парой, не подверженной угрозам третьих лиц ни с одной из сторон.
Значит, это третье лицо всё-таки существовало.
Как это теперь безразлично с точки зрения житейской! А для понимания творчества поэта ой как важно! Но стоит ли на свежую мамину рану накладывать ещё одну? И заживёт ли вообще эта рана? Не подождать ли до воссоединения родителей в лучшем из миров?
Внезапная догадка обжигающей вспышкой сверкнула в голове и мигом овладела сознанием: И.Н. – это же инициалы Ирины, его Ирины, Ирины Назарьевой. Дважды инициалы, поскольку она – Ирина Николаевна.
Нет, этого не может быть, не должно быть! Какое-то глупое совпадение. И.Н. – такое распространённое сочетание. И может обернуться не только Ириной, но Ираидой, Инной, Ингой, Ией, Изабеллой, не говоря уж об экзотических Ирмах, Изольдах и Ингридах, коих развелось теперь немало. Н., если это отчество – и Николаевна, и Никитична, и Никифоровна, и Наумовна…
Посмотреть в записной книжке родителя? Кажется, когда-то, в докомпьютерную эпоху, он работал с машинисткой, носившей вычурное имя Иоанна. Не Жанна, не Яна, а Иоанна. Отец за глаза подтрунивал над её родителями, назвавшими дочь столь неудобопроизносимо. Впрочем, в святцах значится именно так. Зваться же по-разному в миру и в крещении очень неприятно. Пойдёшь венчаться – и родные не узнают.
Мысль о венчании снова вернула его к первоначальной версии, напомнив о той, которая уж точно была И.Н.
Он и она. Возможно ли представить себе новый вариант Марии и Мазепы? Антон не относился к ханжам и не отворачивался от экрана при показе откровенных сцен. Однако возникшая в воображении картина соития этих близких ему людей вызвала тошнотворную гадливость.
А вот и записная книжка. Да, есть Иоанна. Но без отчества и фамилии. И так не ошибёшься.
Ах, как хотелось бы, чтобы вторым инициалом оказался Н.!
Антон уже начал верить в счастливый исход поиска. В его голове родилась очередная спасительная версия: не посвящение эти буквы, а, скажем, резолюция, точнее сказать, условный знак: мол, отдать И.Н., сиречь перепечатать.
Нет, нельзя дать овладеть собой самообману. Ведь печатала-то как раз И.Н. Значит, единственное место «резолюции» – на рукописи. А если автор сидел за машинкой сам? И никакой Иоанне, будь она Никодимовна или Ниловна, сокровенных строк не доверял. Не ей, выходит, они предназначались.
И потом, даже, если она Нефёдовна или Никоновна, где уверенность, что не существовало в жизни отца другой женщины с такими же инициалами?
Но всё же версия с машинисткой сильнее всего укоренилась в Антоне. Вроде, он её даже когда-то видел. Молодая. Энергичная. Такие Анненкову-старшему нравились. Да и интрижка между писателем и секретаршей так же распространена, как между художником и натурщицей. Банальная, в общем-то, история.
Он названивал Ирине по телефону (она делать это не решалась, боясь нарушить горестное уединение Антона) и исподволь готовил её к решительному объяснению в ближайшем будущем. Замкнутость свою объяснял полным погружением в колдовской мир словесных образов, хранивший ощущение реального присутствия своего создателя. Какая прекрасная профессия – писатель! Тебя уже нет на свете, а, листая рукописи, можно общаться с тобой, как с живым.
Самой последней открыл он папку с аккуратной надписью «Деловые бумаги». Надеялся найти что-нибудь поэтическое, но там действительно с необычной для отцовского архива педантичностью были уложены разные договоры, справки и другие документы. Среди них оказалась и расписка в получении денег за перепечатку рукописи Иоанной Сергеевной Абакумовой.
Поиск предстояло начинать заново.
Исследование записных книжек, дневников и иной «non-fiction» выявило двух претенденток. Одна была троюродной сестрой по материнской линии и жила на Украине. Другая принадлежала к числу коллег по сборнику «День поэзии» и однажды даже ездила вместе с родителем на читательскую конференцию в одну из среднеазиатских республик.
Кандидатура кузины отпала сразу же: та, хоть и много моложе, давно достигла того возраста, который принято называть бальзаковским, что никак не вязалось в сознании Антона с коротким и остро ранящим романом.
Поэтесса подходила больше. Он попытался вспомнить её. Не получилось. Спросил мать. Да, та действительно приходила на похороны. Какая из себя? Довольно полная брюнетка с короткой стрижкой и низким, хриплым от постоянного курения голосом.
Ну просто зеркальное отражение отцовского идеала женской красоты! Конечно, пятнадцать лет назад могла быть худощавой, длинноволосой, но курящих дам покойный не выносил, а голос имел для него первостепенное значение. «В кульминационный момент, – говаривал он, – фигура существует лишь в осязании, черты лица – в воображении, лишь голос слышишь наяву».
Стихотворица тоже отпадала.
Разумеется, нельзя сбрасывать со счётов таинственную и тайную связь, законспирированную настолько, что инициалы на рукописи – единственные оставленные следы.
Но о чём бы ни думал, какие бы предположения ни выдвигал Антон, в голове его постоянно пульсировала та страшная мысль, ради опровержения которой в большей степени, чем для научного поиска, затеял он настоящее шерлокохолмовское расследование.
Неужели и вправду все дороги ведут в Рим?
Первое свидание с Ириной произошло в театре, куда она пригласила его сама. Вернее, пригласила общая знакомая, делавшая сценографию к спектаклю, а Ирина лишь передала приглашение.
Антону такой предлог для встречи показался вполне подходящим. Во время фуршета в театральном фойе он отвёл свою подругу в сторонку, за массивную колонну в полутёмном углу, и спросил в лоб:
– У тебя нет случайно рукописей отцовских стихов?
Ирина, жевавшая бутерброд, сделала убийственную гримасу и пожала плечами.
– А писем? Пойми, мне по горячим следам нужно собрать всё.
Бутерброд уже был проглочен, и на второй вопрос последовал вербальный ответ:
– Какой ты чудак! В наше время даже писатели не пишут жителям одного с ними города. Разве что по электронной почте. Но твой папа вроде бы ей не пользовался.
И ни тени смущения, лишь снисходительная ирония на грани допустимого в т а ко е время.
Спросить про шесть стихотворений с посвящениями Антон в тот день не решился. Но ему стало совершенно ясно, что без прямого вопроса истину не установить. Нужно только продумать где, когда и как задать этот мучающий его вопрос.
Между тем пятнадцатилетие первых объятий миновало. Грехопадение случилось тёплым сентябрьским днём в год окончания школы. Антон почему-то считал, что старшеклассникам позволено только целоваться взасос да запускать руку под блузку и лёгким прикосновением подушечек пальцев заставлять твердеть оконечность груди. Всё остальное, с его точки зрения, разрешалось лишь студентам.
Разумеется, Ирине кодекс поведения возлюбленного известен не был. И она, ничего не подозревая, откликнулась на приглашение заехать на дачу проститься перед отправкой Антона на картошку.
Поставил автор точку и понял, что без пространного комментария тут не обойтись. Уже сейчас найдётся немало читателей, не привыкших к такому странному словосочетанию: отправка на картошку. А следующим поколениям, надеюсь, и спросить будет не у кого. Так вот: поездка на картошку – это и есть квинтэссенция политэкономии социализма. Именно политэкономии, поскольку бессмысленное с позиции экономики действие диктовалось исключительно политикой. Политика была такой. Во-первых, человек – это раб, его можно произвольно, не спрашивая разрешения, послать куда угодно. Обидно, конечно, что сейчас нас тоже посылают. Но адрес стандартен и неконкретен. Тогда же места отсылки разнились, но были схожи в одном: грязная деревня или село, жильё без удобств, в тесноте, в антисанитарной обстановке.
Второй постулат политики – временная ссылка не являлась наказанием, а рассматривалась как необходимый вклад в общенародное дело заготовок овощей на зиму. Авралы случались и у представителей других профессий, но они должны были обходиться собственными силами. Лишь крестьянам принадлежала исключительная привилегия использовать в трудную минуту посторонних помощников.
Третьей составляющей частью этой политики считалась родившаяся в чьей-то безумной голове уверенность, будто без наплыва армады дилетантов профессионалы не смогут вовремя выкопать из земли корнеплоды. Они этого, естественно, и не делали, строя на чужой глупости собственную вполне разумную политэкономию: горожанин выгоден не как работник (какая в этом корысть), а как потребитель излишков их продукции, в основном, самогона, официально торговать которым категорически запрещалось, а неофициально продать можно только соседу. Но соседу и свой девать некуда. Поэтому урожай умышленно гноился до критического момента, когда вытаскивать его нужно было из вязкой и холодной жижи, уже недоступной никакой технике, собственными руками.
Четвёртая ножка, на которой твёрдо стояла государственная политика – классовая избирательность. Ковыряться в осенней грязи посылали не всякого. На эту участь обрекали лишь студенчество, аспирантов да научных сотрудников. Чиновникам, торговцам, милиционерам, заводским рабочим и представителям иных профессий, не требовавших повышенного интеллекта, физические упражнения на свежем воздухе не прописывались.
В результате почтенный доктор наук и даже академик, состоявший директором научного института, в один и тот же день мог быть награждён правительством за внедрение важных для народного (другого не существовало) хозяйства разработок и тут же руган на бюро райкома партии (уточнять её название тогда считалось излишним) за неотправку требуемого по разнарядке числа работников для отбывания сельскохозяйственной повинности. Платить отсутствовавшему две-три недели сотруднику причитающуюся ему зарплату обязано было родное учреждение, а не колхоз или совхоз, где тот реально трудился.
Венцом такой политэкономии на протяжении всех долгих лет социализма оставались пустые прилавки продуктовых магазинов. Вся научнотехническая мощь страны, опередившая остальной мир в космическом соперничестве и наделавшая оружия, способного в считанные минуты многократно убить каждого жителя Земли, хронически не справлялась с задачей накормить хотя бы каждого второго соотечественника овощами от Покрова до Пасхи. Конечно, при той системе хозяйствования самое разумное – давать покупателю в магазине лопату и план местности: он платит в кассу, едет с чеком в колхоз и обеспечивает свою потребность сам. Правда, тогда марать руки придётся и чиновнику, и милиционеру.
Политика подкреплялась идеологией. Правящие нами и сейчас райкомовцы да обкомовцы разных калибров разъясняли несознательным кандидатам и докторам наук, как это правильно и хорошо, а деятели социалистической культуры, ныне дружно хающие всю историю страны скопом, – как это ещё к тому же весело и интересно.
Теперь картошку копает только тот, кому это положено. Однако – странное дело – хватает её всем и круглый год.
Ещё раз простите за отступление. Но очень уж забывчивы стали некоторые граждане, ностальгирующие по тем временам. А кому напоминать, как не писателю: профессия у нас такая.
Итак, Антону предстояло внести свою лепту в общенародную бессмыслицу. Ему повезло: колхоз располагался в полутора часах ходьбы или двух часах езды на велосипеде (таковы у нас дороги) от его дачи. При желании можно было каждый день, не ставя в известность родителей, ночевать в собственной постели, а не в вонючем хлеву. (Отдадим должное тогдашним мудрецам: интеллектуалов-грязекопателей в промежутках между отправлением ежедневной нормы трудовой повинности на ключ не запирали.)
Уехав якобы на картошку, Антон прямиком направился на дачу, где назначил свидание Ирине (её курс отбывал на принудительные работы позже).
Описывать дальнейшее – значит уподобляться современной пишущей братии, отбивающей хлеб у авторов телепрограммы «За стеклом». Писатели девятнадцатого века в замочные скважины не заглядывали и, надо же, до сих пор читаются с интересом.
Через неделю влюблённых разлучила ублюдочная политэкономия (а ведь в некоторых вузах первокурсников в колхоз не посылали). Изучив карту, они невольно вспомнили надрывную песню времён гражданской войны из школьной программы по пению: «Дан приказ: ему на запад, ей – в другую сторонy…» (Ох, уж, к слову, эта гражданская! Все войны кончаются заключением мира, а у нас его до сих пор не предвидится: побеждённой стороне не возвращается ни доброе имя, ни экспроприированное имущество. Адмиралу Колчаку снова отказано в реабилитации, а земли, навечно отданные лучшим российским фамилиям за самоотверженную службу Отечеству, мелкие чиновники раздают за взятки «новым русским».)
После возвращения с картошки Антон и Ирина продолжили встречаться на даче до тех пор, пока отец не объявил, что переедет туда на Новый год и все святки. Конец сахаровской ссылки знаменовал смену вех и вдохновил его на завершение нового сборника. А в загородном уединении кому не работалось лучше! Мать, разумеется, последовала за мужем, оставив сына на бабушку.
Когда же могли познакомиться отец и Ирина? Ага, она приехала к ним на Рождество. Тогда оно ещё не считалось за праздник (и это в России!), седьмого января всем полагалось ходить на работу, но в доме у Анненковых всегда в сочельник собирались гости. Большинство неверующие, но как хотелось хоть в чём-то выразить протест! Всю ночь пили, ели, танцевали, гуляли в лесу, слушали по ветхому ламповому радиоприёмнику, не реагировавшему на гебистские глушители, трансляцию всенощной из Лондона. Разъезжались под утро. Многие прямо на службу, так и не прикорнув ни минуты. Каждое поколение привозило на дачу своих знакомых, и за бабушкиными приятельницами ухаживали за столом папины коллеги, а мамины подруги опекали Антоновых друзей, как собственных сыновей.
Ирина предстала перед родителями впервые. Для камуфляжа сколотили компанию, где смешались малознакомые между собой старые школьные и новые студенческие однокашники разного пола. Новоиспечённые любовники старались себя не выдавать даже сверстникам, не говоря уже о хозяевах дома. Поэтому вполне возможно, что Ирина могла и пококетничать с вальяжным поэтом, выглядевшим гораздо моложе своих сорока пяти, пока Антон притворно увивался за какой-нибудь первокурсницей.
В ту ночь ударил первый сильный мороз. Легкомысленно нарядившиеся гости увезли на себе кучу старого хлама, коего едва наскреблось для всех желающих, к вящей радости мамы: рука на старые вещи у неё не поднималась. И правильно – кому-то пригодились. Уехал и Антон: его ждал экзамен по высшей математике. Через два дня не выдержал и отец. Температура на улице упала до сорока двух градусов, по дому нужно было ходить в валенках, а каретка у пишущей машинки не поспевала за его быстрыми пальцами: стыло масло.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе