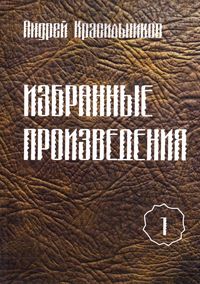Читать книгу: «Избранные произведения. Том 1», страница 4
Хранить вечно
Нестор Григорьевич Ревякин собирался на пенсию. Собственно говоря, само денежное пособие он уже оформил много лет назад, но продолжал работать или, как говаривал сам, служить в редакции уважаемого толстого журнала, поднявшего свои тиражи на недосягаемую высоту – несколько миллионов экземпляров. Нестора Григорьевича никто не гнал, не подсиживал, ему даже не намекали на возраст – просто он осмыслил на досуге необратимый ход исторических событий и понял, что скоро его должность сократят за ненадобностью, и тогда его уход примет другие очертания: из триумфального события (шутка сказать, пятьдесят лет на одном месте) превратится в малозаметный окружающим факт биографии обычного пенсионера.
Да, Нестор Григорьевич действительно отсидел в своём кресле целых полвека, и даже такое эпохальное событие, как война, не смогло заставить его покинуть это причудливое приспособление с прямоугольными подлокотниками и бархатистым сидением со спинкой. Сей элемент обстановки остался в редакции от прежних владельцев дома, уплотнённых в восемнадцатом и сгинувших в тридцать восьмом. Именно тогда и поступил Ревякин на службу, казавшуюся необыкновенно важной не только ему самому, но и государству, уберегавшему столь ценный кадр даже от воинской повинности в критический для страны момент.
Нестор Григорьевич защищал родину от другого врага, более опасного, более изощрённого и коварного, метившего прямо в лоб.
Он служил цензором.
Конечно, так его должность не называлась. В эпоху, когда послы стали полпредами, министры – наркомами, а генералы – комдивами и комкорами, цензоров начали официально именовать уполномоченными Главлита, то есть органа, призванного охранять государственные тайны и имевшего право для защиты этих тайн не разрешать к печати рассказы или стихотворения. Разумеется, никаких тайн произведения изящной словесности не раскрывали, но в них частенько водились опасные мысли и нежелательные образы. Вот с ними и боролись бойцы настолько невидимого фронта, что кроме них самих вряд ли кто мог его разглядеть. Были здесь свои банальности, если автор, скажем, открыто называл по имени Троцкого или Бухарина. Однако иные ловкачи позволяли себе более изуверские вылазки, воспевая в подтексте такие буржуазные извращения, как милосердие и почитание старших. Сразу в глаза и не бросается вся враждебность замысла. Например, пожалел мальчик бездомного котёнка и приютил у себя. Казалось, ничего плохого: животных надо любить. Но, воссозданная в художественной форме, такая история поднималась до опасного обобщения. Почему котёнок беспризорный? Где его родители? Уж не призыв ли это заботиться о детях врагов народа? Или такой сюжет: молодая женщина начинает добровольно опекать престарелую одинокую соседку. Да, немощным нужно помогать. Но по какой причине старуха осталась одна? Наверняка, мужа расстреляли, сына сослали на Соловки, а дочь эмигрировала вместе с зятем-белогвардейцем. Добивать бы этих бабок, а не обхаживать.
Бдительность Ревякина всегда оказывалась сильнее писательских хитростей, и ни разу не случалось ему обмишуриться и пропустить на журнальные страницы сомнительный опус, который потом попал бы в передовицу «Правды» как пример тщательно продуманной идейной диверсии. Поэтому и продержался он так долго на нелёгкой работе, с которой можно не только слететь, но и угодить в очень дальние края.
В редакции Нестора Григорьевича ненавидели все и всегда. Однако ему это казалось даже естественным и приятным: за любовь надо платить, а всеобщая ненависть превращает из вечного должника в постоянного кредитора, что значительно лучше. Сотрудником журнала Ревякин не числился, поскольку проходил по другому ведомству, на партийном учёте в редакционной первичке не состоял и старался даже не соприкасаться с сослуживцами. Кабинет его находился в самом углу, слева от входной двери. Коридор, который вёл в приёмную, шёл направо, и все остальные комнаты выходили на эту оживлённую магистраль, наполненную и штатниками, и внештатниками, и авторами, и разными посетителями: ходатаями, жалобщиками, восторженными читателями, а цензорская – Переделкино, как её прозвали острословы – оставалась в стороне, соседствуя только с туалетом. Но даже это заведение, общее для всех, кроме главного редактора (у того был персональный унитаз), Нестор Григорьевич не посещал. Дело в том, что его апартаменты располагались в бывшей кухне, имели собственный вход с чёрной лестницы и свой санузел. Общим оставался лишь канализационный стояк.
Любить не любили, но уважать уважали. За возраст, солидность, эрудицию – чего не отнимешь, того не отнимешь, – вежливое обращение: в других редакциях на подобном месте сидели выскочки и хамы. Ревякина всегда приглашали на редакционные посиделки в свободное от работы время, где он невольно оказывался в центре внимания, ибо помнил всех сотрудников и авторов с довоенных времён, включая культовых персон, и позволял себе высказывать вслух такие подробности их жизни, какие ни за что бы не пропустил в печать в виде письменных мемуаров. Большинство уже переселилось в лучший из миров, и молодёжь могла узнать об их манерах, гардеробе, вкусах, пристрастии к спиртному и противоположному полу только из уст непосредственных свидетелей, коих оставалось – по пальцам пересчитать. Ревякин не был ханжой, и «тайны», которые он ревниво охранял от масс, легко предавал гласности в узком кругу, полагая своим долгом не допускать их обнародования только на бумаге. Естественно, такие вольности он стал себе позволять исключительно в последние тридцать лет, но самый старший редакционный старожил не проработал в журнале и четверти века, поэтому иным старого цензора никто и не знал.
Получив год назад указание строго придерживаться инструкции и отбраковывать лишь то, что фактически разглашает государственную тайну и подрывает обороноспособность страны, Нестор Григорьевич почувствовал своим профессиональным чутьём: это первый звонок. Теперь он не мог помешать публикации даже тех слов, которые издревле именовались нецензурными: не объявишь же державным секретом, что кто-то надругался над чьей-то родительницей, если это расхожее непечатное выражение воспринимать буквально. Спасибо, новый главный попался из породистых и опусы, пестревшие матерщиной, отвергал сам. А то у соседей этажом ниже (в доме работала не одна редакция) самыми частыми словечками стали вульгаризмы, означающие разные гениталии.
Вторым звонком прозвучала резолюция всесоюзной партконференции об альтернативных выборах какого-то странного вече: съезда депутатов, и от территорий и от корпоративных сообществ. Кого выберут таким способом, Ревякин знал заранее. Какие законы они напринимают – тоже не составляло особого труда догадаться. Он понимал, что третий звонок будет уже на выход, и решил его не дожидаться – уйти красиво и добровольно.
Чтобы всё выглядело в лучшем виде, требовалось дотянуть до пятидесятилетия, то есть до октября. Нестор Григорьевич заранее написал заявление, обсудил и со своим начальством, и с главным редактором как формальные, так побочные детали и впервые в жизни расслабился. Несмотря на необычность, даже трагичность ситуации, он чувствовал удовлетворение. Ему устраивали пышные проводы, готовили разные подарки-сюрпризы, а один сделали авансом: пообещали отдать старое кресло.
Знали бы, кто на нём сидел – вряд ли бы выпустили из рук. Ревякин вынес его из кабинета главного после полного разгрома всей редакции за отклонение от генеральной линии. Теперь на бывшего руководителя журнала, давно почившего в бозе, вся страна молится, как на святого. Мемориальную квартиру недавно открыли, переселив престарелого отпрыска с семьёй в какую-то новостройку. Туда бы креслице – в самый раз. Так ведь кто же помнит!
И вот на столе – материалы последнего номера, который ему осталось залитовать. Да чёрт с ними, с этими тайнами не поймёшь уже какого государства! Нет больше ни сил, ни желания всё это читать. Так и хочется шлёпнуть штампы, подписать, а там – была ни была.
Нестор Григорьевич решил так и сделать. Старого всё равно не отнимут, а нового больше не дадут. Он пробежал глазами содержание и в разделе «Литературное наследие» наткнулся на одно знакомое имя. Теперь это знаменитость, классик, инсценирован, экранизирован, в школе изучается, а тогда ходил в потёртом пальтишке и нервно ломал поля огромной шляпы, стоя перед цензором.
«Ладно, – решил матёрый волк, – для очистки совести его посмотрю, а остальное – подмахну не глядя».
Причина крылась не в очистке совести, которую Ревякин, как он считал, никогда не марал, а в простом читательском интересе. (Речь шла о первой публикации неизвестного рассказа, чудом уцелевшего в пору гонений на автора.) Но в такой слабости он не мог признаться даже себе самому.
Первая же страница мгновенно отбросила его назад, на целых полвека, в молодость, его прекрасную молодость с её бесконечными радостями, желаниями, надеждами. Нет, не сюжет, не совершенная изобразительная палитра большого мастера пробудили в нём воспоминания. Он понял, что уже однажды работал с этой рукописью.
Дело было в тридцать девятом, весной. Автор ещё числился в анналах союза писателей, ещё свободно ходил по земле и даже имел наглость предлагать свои творения солидным изданиям. Но становилось ясно, что он обречён – слишком уж хорошо писал и слишком мало уделял внимания главным темам: индустриализации, борьбе с врагами народа, строительству социализма. Точнее говоря, вообще не уделял, всё глубже завязая в болоте мелкотемья и черня советскую действительность анекдотичными персонажами в образе официальных лиц, всегда выглядящими хуже бравых героев из круга недобитой интеллигенции. Имя товарища Сталина нигде не упомянул ни разу. Пятьдесят восьмая давно плакала по нему, и было непонятно, почему так долго тянут.
Вот и новый рассказ – яркий пример. Абсолютно враждебен! Врач подбирает на лестничной площадке своего подъезда замёрзшую, умирающую от голода девицу. У него отдельная квартира, и он, пользуясь своими связями и благодарностью пациентов, умудряется спрятать её от облавы, сиречь проверки документов, которых у неё, понятное дело, нет. Выясняется, что девушка – дочь бывшего вожака сельской партячейки, физически уничтожившего в семнадцатом всю семью местного помещика. Сбежать удалось лишь старшему сыну. Изменив фамилию, он осел в городе, окончил институт, стал известным врачом. И теперь спасает скрывающуюся от возмездия кулачку, незаконно сбежавшую из поезда, увозившего отца, мать и братьев в сибирские дали. Брак с ней фиктивный регистрирует, невесту из-за этого теряет. Она в него влюбляется, а он с ней жить по-настоящему не может: мешает груз прошлого. Разум, мол, одно: требует всепрощения и помощи врагу аки ближнему своему, а чувства – совсем другое. В результате все живы, но несчастливы.
Тогда Ревякин читал рукопись с нескрываемым негодованием: что ни строчка – контрреволюционная пропаганда, о публикации не может идти и речи. Одни коррумпированные совслужащие чего стоят – за взятку злейшего врага в упор не замечают. Но чертовски хороший рассказ! Прямо за душу берёт. И девушка такая чистая, просто прелесть. Он даже отложил копию в особый ящик письменного стола, где лежали наиболее понравившиеся ему вещи в первозданном, до знакомства с цензорским карандашом, виде.
Нестор Григорьевич недолго рылся в бумагах и вскоре извлёк из папки с грифом «Хранит вечно» порыжевшие страницы.
Перечитал он их и невольно заулыбался.
Во время их единственного свидания, которого писатель добился вопреки всем тогдашним правилам, молодой уполномоченный позволил себе иезуитскую выходку. Он любезно принял просителя и обнадёжил невинными замечаниями, не ломавшими сюжета, не разрушавшими психологические хитросплетения и не менявшими характеров персонажей. Попросил смягчить некоторые второстепенные детали, убрать кое-какие тропы, местами приглушить пафос. Ревякин знал, что это их первый и последний разговор, ни к чему его не обязывающий. Ему приятно было играть в кошки-мышки, притом что он, современный Акакий Акакиевич – хищник, а новоиспечённый Гоголь – жертва.
И что бы вы думали: все его пожелания оказались тщательно исполненными. Первоначальный список слегка поблёк, сюжет местами начал провисать, гротеск ушёл, шаржированные герои второго плана превратились в ходульных. Нет, рассказ оставался отменным. Но во многом потерял от переделок.
Не чаял Нестор Григорьевич оставить такой след в отечественной литературе. Да и автор никак не походил на послушного агнца. Распетушился тогда, взбеленился, ногой топнул, поля шляпы распрямил, дверью хлопнул, но, поди ж ты, сделал всё точь-в-точь, как ему сказали. Знать, надеялся на что-то, чудак. Наверное, все они такие наивные, когда в воздухе пахнет типографской краской. Как мать готова на любой подвиг ради своего дитяти, так и они – на любую глупость и подлость во имя публикации.
Это была кульминация полувековой службы. Такой подарок в самом её конце! Нет, не Акакий Акакиевич он, а вершитель судеб. Даже посмертных. Гений давно в могиле, а Ревякин решает, какой вариант текста станет каноническим.
Впрочем, что тут решать! И так всё ясно. Правленая редакция уже набрана. Нужно только соблюсти формальности. А изначальная покинет этот кабинет вместе с креслом. Должно же у него остаться что-нибудь на память о великих писателях.
1989
Две смерти
Михеич был простым мужиком. Из тех, кого имел в виду поэт в знаменитых строчках: «Мы до смерти работаем, до полусмерти пьём». Трудился он и вправду изрядно. Из котельной приходил усталым, но тут же, поужинав, шёл наниматься к кому-нибудь из дачников.
Дачниками здесь называли не горьковских лодырей, томившихся от безделья и бессмысленного существования. Это недоброе прозвище приклеилось к людям, имевшим собственный загородный дом, но жившим преимущественно в Москве. Впрочем, жить они могли и в посёлке, хоть круглый год, но владение столичной квартирой всё равно превращало их в презираемых местной публикой чужаков.
Пример подавала власть бесконечными запретами и ограничениями. Телефон постоянно проживающим можно, а дачникам нельзя. Воду – одним под землёй, чтобы зимой труба не замёрзла, другим – из того же водопровода, но только по поверхности или, в лучшем случае, не глубже, чем на штык: мучайтесь в заморозки, окаянные. Второй этаж «чистым» позволялось отапливать, а «нечистым» – нет: даже летнюю светёлку не смей там устраивать. Заметят в окне шторы парадные или люстру красивую – жди беды: нагрянут с проверкой и заставят превратить опрятное жильё в грязное. Шторы и люстра – это плохо, а паутина, плесень и мрак – как бальзам на душу. Что поделать, коль времена мрачные, а правители сами заплесневелые!
Однако водились среди «неприкасаемых» и «почётные арийцы». Что до народа, то он их особенно не выделял, хотя внешние знаки уважения выказывал. Власть же, к каковой они сами и принадлежали, не просто делала для них (или для себя) исключения – позволяла гораздо большее, чем коренным жителям. К их домам и кабель тянули для трёхфазного тока, и телефон с прямым московским номером устанавливали (лишнюю цифру набирать не надо), и к местной канализации подключали, чтобы не заглядывали ближе к весне с опаской в сливной колодец и не ждали как манны небесной заезжего золотаря.
Одним из таких привилегированных москвичей считался Харитон Евдокимович Рубакин, работавший в самом главном учреждении страны. Кем он там числился, в посёлке не знал никто, но это и не важно: внутри такого учреждения случались иногда перемещения, а важные персоны, все как один, именовались весьма загадочно: ответственный работник. Иногда добавлялось словечко, заставлявшее трепетать ещё сильнее: ответственный работник аппарата. Само же учреждение, известное по аббревиатуре из двух согласных, сведущие люди предпочитали называть таинственным эвфемизмом и н с т а н ц и я.
Итак, Харитон Евдокимович Рубакин служил ответственным работником аппарата в инстанции, а Михеич тянул лямку в обычной котельной. Но жили они в одном посёлке, и пути их пересеклись. И не просто пересеклись – теснейшим образом переплелись.
Харитон Евдокимович, хоть чин имел немалый, в высшую сановную когорту не попал, казённая дача с обслугой (новые хозяева России словчили и здесь, слегка подновив привычное название с помощью другой приставки) ему не полагалась, и коротал он своё свободное от визитов в присутствие время в старом домишке, доставшемся от покойных родителей. Вместе с ним обитали там вторая его жена Розалия Ефимовна да верный пёс Тайфун, такой же беспородный, как и хозяева. Изредка наведывалось единственное дитя от первого брака по имени Нонна. Жила она отдельно с мужем и дочерью.
Харитон Евдокимович делать не умел ровным счётом ничего: ни электропроводку починить, ни кран подкапывающий подвинтить, ни забор подлатать. А за то немногое, что мог, например, закопать под старой сосной ведро с мусором или почистить дорожки от снега, браться никогда не желал. Но никого это не огорчало, а Михеича – так очень даже радовало. Постучит он к Рубакиным:
– Хозяин, не нужно ли чего?
– Нужно, очень нужно: дверь на кухне скрипит.
Пойдёт Михеич на кухню, снимет дверь с петель, капнет туда чуть-чуть из маслёнки и назад поставит. Можно, конечно, и не снимать, но тогда просить червонец неудобно. А так – красная цена.
Проходит день. Снова на пороге Михеич:
– Помощь не требуется?
– Требуется, ой как требуется: похоже, раковина засорилась.
Возьмёт Михеич вантуз, качнёт разок-другой, а то и сифон развинтит, вынет слипшуюся смрадную массу. Кому, как не мужику, этим заниматься? За такую работу и четвертного не жаль.
Ну уж реконструкция или ремонт у Рубакиных без Михеича никогда не обходились. С ним даже советовались, прежде чем что-нибудь начать:
– Не повесить ли нам ещё одну батарею в гостиной? В прошлый Новый год гости разоделись в лёгкие платья и ёжились от холода.
Приняв многозначительный вид, покряхтев, поводив глазами во все стороны несколько раз, выдержав долгую паузу, Михеич отвечал:
– Разводку менять придётся. И обратку заново делать.
Слова-то вроде простые, а как их произнести! Другой протараторит, что на пятак с трудом потянут. У Михеича всё звучит чётко, убедительно – на целковый.
И, не дождавшись возражений:
– Ладно, как потеплеет – сделаю. Но рублей сто возьму.
Боже, какое счастье! Всего-то сто. И не нужно водить в ресторан знакомого начальника треста, а потом выветривать три дня дачу за его рабочими, которые обязательно ещё вазу какую-нибудь разобьют или обои испачкают.
Да, Михеич рвачом не был. Конечно, в других домах о таких суммах он и не заикался. Брал с каждого по чину. А на круг выходила вторая зарплата. Первой ему явно не хватало: четверо детей, мать-старуха – прокорми-ка семь ртов (жена мыла полы в местной школе и пополняла семейный бюджет лишь символически). Ну а что пил – так кто ж не пьёт?
Выйдут в погожий воскресный денёк Харитон Евдокимович с Розалией Ефимовной прогуляться под ручку, а на соседней улице хмельной Михеич под гармошку песню жалостливую под нос себе напевает. Скажет, бывало, Рубакин:
– Какой всё-таки пустой человек этот Михеич! После смерти и следа никакого на земле от него не останется.
И пойдёт домой материалы к предстоящему совещанию изучать. Заботы у Харитона Евдокимовича государственные – целая отрасль на него замыкается. Министра запросто вызвать может и даже слегка пожурить. Важная персона Харитон Евдокимович – номенклатура! Его даже высшее политическое руководство по имени-отчеству знает.
А как зовут Михеича – все давно забыли: Михеич и Михеич. То ли сам он Михей, то ли отца так величали. Не исключено, что один из них – Михаил. Да кто ж теперь упомнит! В паспорт к нему только на выборах заглядывают, а он на них давно и не ходит.
Рубакина за версту видно. Рослый, стройный, выправка уверенного в себе человека. Шея длинная, худая, голова немного грушевидная, зато причёска всегда отменная: волосы, хоть и с проседью, уложены ровно, как у молодого щёголя – любо-дорого смотреть. Взгляд у Харитона Евдокимовича с прищуром. Если долго на ком остановится – оторопь того берёт, какой властный взгляд. Нос с маленькой горбинкой. Губы бантиком. Разжимает их Харитон Евдокимович редко, даже смеётся уголком рта. Всегда чисто выбрит. Хоть и неброско, но опрятно одет, даже на прогулке по собственному саду.
Михеич же маленький, как говорят про таких в посёлке – метр с кепкой. Плешь в полголовы, а сами голова ушла в плечи, поэтому на угрозы соседа Митрича дать по шее неизменно отвечает, улыбаясь своей широкой беззубой улыбкой:
– Смотри не промахнись.
Глазки у него маленькие, вечно слезящиеся и не способные ни секунды стоять на месте: так и бегают, так и бегают. В хозяина пошли. Ходит Михеич вечно замызганный, что хоть и гармонирует с его плюгавой внешностью, но приязни особой вызывать не может.
В общем, были они с Харитоном Евдокимовичем совершенно разными, но жить друг без друга не могли. Второй без первого лампочку перегоревшую не поменяет, а первый без второго с голоду помрёт.
Сжалился Господь: призвал их одновременно. Рубакина хватил инсульт после очередного зигзага перестройки. Отчего сыграл в ящик Михеич, так никто не узнал: перебрал малость, завалился в холодных сенях да больше не проснулся.
И хоронили их в один день. Впрочем, по-настоящему это понятие применимо только к Михеичу. Понабежала родня. Отпели в соседнем селе. Свезли гроб на кладбище в райцентр и предали земле. Оттуда вернулись на поминки: с кутьёй, киселём, блинами, ящиком водки, купленном по справке в сельпо, и закуской, какую Бог послал (скромную, конечно, но тогда и в столице прилавки пустовали). Человек двадцать собралось. Еле за столом уместились, а ложки-вилки у соседей занимали.
По Харитону Евдокимовичу устроили гражданскую панихиду в ЦКБ. Съехались сотни людей со всей страны: директора заводов, замминистры, даже сам заведующий отделом пожаловал. Потом кремировали. И не в каком-нибудь Митине или Николо-Архангельском, а в Донском монастыре. Сжигали, разумеется, в другом месте, но церемонию устроили в старом московском крематории. Поминальный стол накрыли в «Праге», где снова звучали речи о существенном вкладе покойного в укрепление народного хозяйства.
На девятый день группа сослуживцев приехала домой к Розалии Ефимовне, и душа Харитона Евдокимовича покинула сей мир под хор соболезнований.
Родные Михеича зашли в этот день в церковь, поставили свечку, потом выпили на свежей могилке, закусили прямо там же и разошлись.
В сорок дней у Рубакиных прошёл скромный ужин при трёх гостях с работы. Когда те удалились, Розалия Ефимовна и Нонна принялись обсуждать проблему наследства: завещания покойный не оставил, дочь и вдова имели равные права на машину, дачу и кооперативную квартиру, нажитые усопшим до заключения второго брака, а разную утварь делить, по нашим законам, надо либо полюбовно, либо по принципу – кто смел, тот и съел: государство в это не вмешивается.
Дружное семейство Михеича с родственниками и свойственниками снова заказало панихиду, посетило кладбище и завершило траурный цикл за домашним столом с обильными возлияниями (справка из загса сработала ещё раз) и сытной грубой пищей.
Прошёл год.
Следом за Харитоном Евдокимовичем почила и его инстанция.
Коллеги Рубакина, трусливо разбежавшиеся дождливым августовским днём, не желали больше видеть друг друга: любое напоминание о бессмысленно проведённых последних годах службы вызывало у них нервное расстройство. Кому-то удалось пристроиться в приличные фирмы, кто-то ударился в политику по разные стороны её баррикад, некоторых видели даже в районных биржах труда.
Наследницы разругались окончательно. Недвижимость вроде бы поделили по-справедливому: вдове – квартиру (всё равно ей там жить), дочери – дачу. Машину решили продать и деньги распределить в пропорции три к одному в пользу Нонны, потому что домашнее имущество оставалось у Розалии Ефимовны. Но вырученные средства в одночасье скукожились до смешного, и на них нельзя стало купить даже детский велосипед для внучки на память о дедушке. Конечно, в том нет вины Розалии Ефимовны, но на неё почему-то посыпались упрёки в нечестности. К годовщине смерти Харитона Евдокимовича женщины уже не разговаривали друг с другом и помянули покойного врозь, каждая у себя дома. А урна с его прахом валялась на даче, подброшенная вдовой падчерице в отместку за недобрые слова. Мол, раз так, то сама и хлопочи о месте в колумбарии (смертельно больная и лишённая всех привилегий инстанция похоронить останки своего сотрудника, увы, не успела).
Родня Михеича собралась в храме. Потом пошли на погост, где к тому времени появился скромный деревянный крест с металлической табличкой. Выгравировали на нём всего три слова и восемь цифр: Михаил Михайлович Михеев, 1942–1991. (Вот как его, оказывается, полагалось величать!) Дома снова приготовили кутью, кисель, блины. Водка уже продавалась свободно. Закусывали разной импортной снедью, сетуя на судьбу, что покойник не дожил до такого изобилия.
Ко второй годовщине у Рубакиных произошли новые изменения. Розалия Ефимовна встретила на курорте моложавого пенсионера из военных, и тот согласился переехать из своего холостяцкого уголка на Южном Урале в её столичные апартаменты. Личные вещи предыдущего супруга она предусмотрительно отволокла на помойку, где их словно поджидали трое бывших жильцов соседнего дома, уже продавших и благополучно пропивших свои квартиры, а также выставленный за дверь после смерти хозяина Тайфун. Все фотокарточки Харитона Евдокимовича, аккуратно разорванные на четыре части каждая, навечно остались в засоре мусоропровода.
Дачу Нонна внесла в уставный фонд товарищества с ограниченной ответственностью, где ей посулили жизнь рантье. Но фирма прогорела, и родительский дом достался ловкому дельцу, скупившему долги и спасшему незадачливых коммерсантов от «стрелки» с непредсказуемыми последствиями. Тот, не церемонясь, заказал бульдозер, и прах Харитона Евдокимовича, перемешавшись со всякой рухлядью, упокоился наконец в земле. Правда, неосвящённой, но ведь и сам Рубакин ни разу не исповедался, не причастился, да и был ли крещён – никто не ведал. Теперь там возвышается настоящий дворец. Видно его и со двора Михеевых. Соберутся раз в год родственники, помянут своего Михеича и, выйдя на участок, посмотрят вдаль да невольно Харитона Евдокимовича вспомнят.
1993
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе