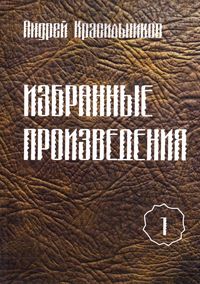Читать книгу: «Избранные произведения. Том 1», страница 3
Зато Оля хорошеет с каждым годом. Целых пять лет. Или это ему одному кажется? Пусть так: значит, он её всё-таки любит. Похождения на стороне не в счёт – у кого их не бывает!
Не надо, наверное, ждать защиты. Вдруг отец успеет внука увидеть. Не настолько он сейчас плох. Глядишь, годочек протянет, наперекор мнению врачей. Здешний воздух целебный поможет. Однако и самому нужно торопиться. Можно ведь эту чёртову диссертацию до Нового года закончить. К весне защитить. Правда, несколько месяцев на утверждение уйдёт, но и Ольге первое время декретные полагаются. Раньше, чем через год, на мель они не сядут. Тут и диплом из ВАКа подоспеет.
Конечно, рвать цветы с чужой клумбы запрещено. Тем более когда есть свои. Но иногда очень хочется, руки так и чешутся.
Да и она желала не меньше. Что ж в том дурного: никто никого не обидел, никто ни у кого ничего не украл.
Почему же тогда таким нестерпимо противным, ядовитым кажется запах этой предательской мяты?
Вечером отец с сыном снова уединились.
– Я начал рассказывать тебе вчера про фамильное колье. Большой ювелирной ценности оно не представляет, но служит талисманом уже многим поколениям. Ольга ведь ничего пока не знает о роде, который ей доведётся продлить. Как знать, вдруг прикосновение к истории сделает её взрослее, серьёзнее.
Павел Николаевич явно намекал на долгое отсутствие наследника.
– Между прочим, – поспешил пояснить Сева, – процесс продления рода мы отложили до моего кандидатства. Двести восемьдесят плюс Олина зарплата – четыреста чистыми: вопреки всем законам арифметики на три делится лучше, чем триста.
– Помимо законов математики есть ещё законы жизни. По ним в двадцать лет рожать и воспитывать легче, чем в тридцать.
– Ей всего двадцать пять.
– Вот и я о том: пять лет вы уже упустили.
Конечно, в отце говорила досада: пятилетний внук – вполне осмысленное живое существо, он бы запомнил деда.
– Хорошо, постараемся ускорить, – пообещал Всеволод тоном, означавшим нежелание обсуждать дальше эту тему.
– С другой стороны, вы правы, – неожиданно признал Павел Николаевич. – Проверили свои чувства. Если они не остыли, есть резон увеличивать семью. В противном случае не поздно подыскать другой вариант.
На что он намекает? Неужели, обо всём догадался?
Да, чувства их слегка притупились, как столовый нож, к которому давно не прикасался точильный камень. Но именно сегодня его особенно потянуло к Ольге, захотелось зарыть своё лицо в копну её распущенных ароматных волос, пахнущих фиалками, а совсем не этой навязчивой мятой. Нет, он не утолил вчера свои желания, он лишь растормошил их. Наверное, для этого и нужны разные искушения.
– Раз ты так настаиваешь на продолжении рода, – неожиданно для самого себя сорвалось с языка у Севы, – разреши на время тебя покинуть. Хочу навестить жену.
– Конечно, поезжай, – не без колебания вымолвил отец.
– Сначала позвоню по телефону. У меня есть её штабной номер. Услышать голос Ольги ему удалось лишь в половине двенадцатого.
– Я по тебе ужасно скучаю, – сказал он.
– Я тоже, – ответила она.
– Можешь на одну ночь вырваться из плена? Я бы за тобой заехал.
– Это очень сложно.
– Смотри: здесь столько соблазнов – могу и не устоять.
– Знаешь, у меня их не меньше.
– Вот и давай бороться с ними вместе.
– Попробую. Мне самой позарез надо хотя бы на минутку домой. Забыла взять один разговорник.
– У меня к тебе просьба: захвати, пожалуйста, один билет.
– На какой день?
– На любой. Лишь бы на гимнастику.
– Хорошо.
– Я тебя очень люблю.
– Я тебя тоже.
Сами слова могли показаться затёртыми, неискренними, но интонация, с которой они произносились, паузы и придыхания, их обрамлявшие, напомнили пору студенческой юности, когда они ещё не были мужем и женой, и Всеволод ощутил небывалое блаженство.
Он не стал рвать цветы, с любовью взлелеянные Эммой Леопольдовной, а взял с собой в Москву большой букет мяты.
С уснувшими, по обыкновению рано, отцом и мачехой Сева проститься не успел: оставил им записку, что вернётся следующим днём.
Зато в эту тёплую летнюю ночь он простился с бесшабашной юностью.
1982
Последняя корова
Июльское солнце в самом зените. Вовсю старается показать свою удаль. И всё в природе ему радо: стрекочут кузнечики, выползают из всех щелей маленькие жучки, порхают над налившейся соком зеленью бабочки и стрекозы, с ещё большим усердием снуют муравьи.
Любит Анфиса такие деньки. Сама, правда, прячется в тенёчке, но Бурёнку гонит на самое пекло: скотина не человек – ей нипочём. Зато, как верит хозяйка в магическую силу небесного светила, войдёт жар в худую плоть божьей твари, излечит её от хворей, зарядит энергией, и побежит из вымени струйка обильнее и жирнее.
В струйке этой надежда старухи на сытую зиму. Творожок, маслице, сметану себе припасёт, а пока полон посёлок всяким праздным людом, охочим до парного молока, можно и деньжат немалых выручить. Так и тянется каждый вечер вереница к Серафимину крыльцу из всей округи с крынками и бидонами. Куда ж им ещё идти, если в посёлке осталась одна корова, а в окруживших его садоводствах домашнего скота отродясь не держали!
Да что там коров – людей толком не осталось. Старики, что до войны здесь первыми поселились, поумирали, молодёжь повзрослела и разлетелась, как стайка пугливых воробьёв: одни в столицу подались, другие в райцентр, третьи осели поблизости в кирпичных домах радиоцентра. Центр этот построили вскоре после войны, чтобы ретранслировать правительственные голоса на все города и веси огромной страны. Мачты взметнули под небеса. И на каждой огоньки. Теперь в лесу не заблудишься: по огонькам этим легко можно домой из любой чащобы выйти. Только и пользы. В остальном – один вред. Сманили мужиков непьющих (тогда ещё водились такие) непыльной работой да жильём с удобствами. Хоть квартирка из двух-трёх комнатушек для большой семьи тесновата, зато на двор по нужде бегать не надо, мыться можно, не выходя за порог, и, самое главное, тепло в холодные дни само по трубам приходит – ни дровами не надо запасаться, ни углём: встаёшь утром, а «печка» сама натоплена, как в сказке про Емелю.
До конца пятидесятых посёлок ещё держался. Не всех прельстила лёгкая жизнь. Большинству всё же просторная хата, огород и палисадник казались уютней и роднее. Они напоминали кому Хамовники, кому Сыромятники, кому Калитники – места, откуда всех их переселили в тридцатые годы, когда ударными темпами реконструировали древнюю Белокаменную, превращая её в молодую краснокаменную. Да и живность в кирпичные многоэтажки не отпускала: не только корове – курице там не поместиться. А для многих уклад жизни без кудахтанья, кряканья и мычанья ближнего круга фауны казался немыслимым.
Но вскоре кремлёвские мудрецы крупный рогатый скот приказали у частника отобрать. Погоревал народ, обматерил в очередной раз неправедную власть, да и подчинился ей, как водится на Руси со времён Рюрика и Олега. И Анфиса вместе со всеми. Чуть сердце от тоски не разорвалось! Наверное, молодая ещё была, а в молодости на любое зло всегда утешение найдётся.
Лет пять возили в посёлок из соседней деревни молоко. Приезжала на рассвете баба на телеге, распродавала за считанные минуты две фляги и плелась не спеша назад, каждый раз удивляясь своей удаче.
Но промыслу её всё же пришёл конец.
Узнав, что на Покров власть в стране опять переменилась, Анфиса сделала свой вывод. Уже следующей весной на окраине посёлка, на пустыре, куда из-за межевых споров двух районов так и не продвинулось очередное садоводчество, нагуливала бока молоденькая тёлочка.
Бабы так и ахнули, застав Анфису за давно забытым занятием. Сами они уже не желали впрягаться в прежнее ярмо: вставать ни свет ни заря и жить по коровьему суровому режиму – от дойки до дойки. Но чудачку соседку осуждать не стали: пускай роется в навозе, если этот запах приятнее ей ставших для них свычливыми городских ароматов.
Знать, не всем город пришёлся по душе. Анфисе он очень даже не глянулся. Одно дело по магазинам в выходной проехаться, товару всякого накупить, совсем другое – жизнь собственную к его причудам прилаживать. Да и шумные скопища людей ей не в радость. Те несколько лет, что пришлось работать в райцентре, провела она не за станком в гудящем цехе, как многие её товарки, а в тихом местечке, приёмщицей в химчистке. Редко, кто туда и заходил.
Теперь же она снова при корове. Остальное хозяйство не в счёт. Хотя и оно разрослось: все двенадцать соток густо засажены разными овощами, а по забору – малина, смородина и крыжовник. Ограды, кроме внешней, по фасаду, давно сгнили, да и нужды в них особой нет, когда стоит живой стеной плодоносящий кустарник. И, само собой, яблони, вишни и сливы. С ними никаких хлопот: только стволы бели и сучья сухие вырезай.
Пришла пора пенсию оформлять, выяснилось, что недобрала Анфиса даже до самой махонькой и получила её только по милости государства. Но ей беда небольшая: на подачки властей никогда не надеялась – только на собственные руки. В крайнем случае – детки есть. Дочь Алёнка училище окончила, медсестрой в Москве устроилась, замуж удачно вышла. А Феденька, первенький её, в армии служить остался. Носит его по всей стране, но отовсюду шлёт он матери письма да гостинцы. Был бы сам жив, и вовсе ни к чему ей эта пенсия.
Лет десять бродила Анфиса по пустырям со своей любимицей. Добиралась и до лесной опушки. В общем, мест для выпаса хватало: корова-то на всю округу одна. Но потом всё резко переменилось.
Сначала беда пришла с юга. Через лес соседствовала с посёлком заброшенная деревушка. Уж совсем было с землёй сровнялась. Но передали её передовому колхозу, бравый председатель осмотрел новые владения и распорядился на краю леса возвести теплицы. Вскоре ранние тюльпаны да гвоздики стали самым прибыльным промыслом хозяйства. И лес кончался теперь не цветистой лужайкой, а сетчатым забором: не только корову не привести – самой накосить негде.
Потом районные Монтекки и Капулетти помирились, размежевались, выгодно запродали прирезанные участки, и вздыбился кирпичом любимый Серафимин пустырь. Закрылся для неё и путь на запад.
С севера – шоссе и железная дорога. Туда ход всегда заказан. Оставался восток, где светил в ночи огоньками мачт проклятый радиоцентр, что сколько душ загубил за тридцать лет! Взять, к примеру, Авдея Никитича. Первым парнем был на посёлке. Поговаривали, будто он кулацкий сын, сумел из ссылки сбежать, выправить документы и пристроиться к дальним родственникам. Но к настоящим или нет – никто не знал. Переселяли людей в лихорадочной спешке, дав три дня на сборы да копейки на строительство и обзаведение. В той суматохе мог и чужой затесаться.
Глянулась красавцу Авдею прыткая Анфиса. И он ей по сердцу пришёлся. Начали встречаться по вечерам. Анфиса всё о хозяйстве, о счастье жить вдали от городской суеты, а Авдей – о борьбе с врагами социализма. Девке про врагов слушать совсем не интересно, да и не видит она нигде этих врагов: кругом такие приятные люди. Но дружка своего послушает – везде только они, шпионы, диверсанты и вредители. Повылезали, как по весне одуванчики. Погуляли, погуляли, и пошёл Авдей в Красную Армию. Анфиса его дождалась, нового парня заводить не стала. Только вернулся он совсем другим человеком. Задор, улыбчивость – всё пропало. Замкнулся, хмурым стал, уткнулся в книжки, поступил на какие-то курсы и совсем перестал девками интересоваться. Бабы решили, что повредил себе на службе кое-какое место, от которого вся весёлость в мужике и зависит. А было всё не так: не тело, а душу искалечили парню вконец.
Не успел Авдей окончить свои курсы – война. Самая первая – финская. Забрали его на фронт, и тут Анфиса не выдержала: через месяц выскочила за долговязого и худющего Жорку и уже следующей осенью нянчила невероятно похожего на него с самого рождения мальчугана.
Если сына отец успел подержать на руках, то о дочке даже узнать не довелось. Сгинул на войне, второй, настоящей, в первые же дни отчаянной обороны русской столицы, не пожелавшей повторения хитрости одноглазого фельдмаршала пушкинских времён. Потому и побывала Анфиса в бабах лишь годочка полтора и даже не почувствовала всей сладости своего нового состояния: носила, кормила, опять носила.
А вот Авдей с обеих войн пришёл цел и невредим. Где его носило целых шесть лет, рассказывать не любил. По звону медалей можно было догадаться, что хлебнул он немало лиха. Ещё угрюмей стал. А когда понял, что мужиков в посёлке осталось раз-два и обчёлся, наглухо закрылся ото всех.
На первых же выборах порекомендовали его председателем. Кому же ещё такой важный пост доверить: не вдовам же, не старикам? Вроде бы грамотный, партийный, идейности на десятерых хватит.
Немного тогда от председателя зависело, но часть земли поселковой он всё же мог отстоять. Однако не стал: уступил всё радиоцентру. Соседи в душе его побранили, но вслух слова недоброго никто не сказал. Боялись грозного Авдея и втайне надеялись, что приветит он кого-нибудь из молодух, осчастливит своим выбором, там, глядишь, и помягчает его суровый нрав. Но годы шли, схоронил он последнюю родственницу, остался один-одинёшенек, а в дом к себе не только не брал никого – в гости на чай не приглашал.
Анфиса давно к нему остыла. Детей поднимала одна. Мужскую ласку вытравила из своей памяти: не судьба, видать, в суровое время в суровой стране целоваться да миловаться. Послал ей Бог годик-другой бабского счастья – и тому радоваться должна. Другие, что долго невестились, и женихов не дождались и даже дитя зачать от проезжего молодца не исхитрились, а ей-то на что жаловаться!
Ребятишки росли, иногда огорчали, но чаще радовали. Чем старше они становились, тем больше напоминали отца: дочка – статью, сын – лицом и повадками. Хоть небольшая, но оставалась с ней частичка мужа и после его гибели.
И вдруг всё как рухнуло в одночасье. Сына забрали в армию, а дочь вышла замуж. Человек ей попался неплохой, но в посёлок носа не казал, без него и Алёнка ездить перестала. Являлась только внучку подкинуть на несколько деньков, когда на аборты ложилась. Тут уж хочешь не хочешь, а к матери родной приползёшь: свекровь не поймёт и не одобрит. Анфисе тоже обидно было, что молодёжь в хороших условиях, при сытой жизни от долга своего природного увиливает. Но умом она понимала: старый уклад новому поколению глубоко ненавистен, не хотят они повторять путь своих родителей. Да и Жора её не за то в землю лёг, чтобы дети его нужду терпели, а внуки вповалку спали где-нибудь на десятом этаже и друг за дружкой одёжу донашивали. И всё же, наполнись дом ребятнёй, может, не потянуло бы её заводить такое хлопотное хозяйство.
Сыном она гордилась: остался в армии на сверхсрочную, освоил военную специальность, секретную, очень сложную и важную. Теперь кочует по российским просторам, охраняет мир. Женился, но ребёнка, как и сестра, только одного завёл. Но ему-то простительно: ни кола своего ни двора. Бедная девочка почти каждый год школы меняет, поэтому и учится неважно. Зато хорошенькая. Такая и без знаний не пропадёт: постарше станет – за офицерского сынка выскочит.
С одной стороны, одиноко Анфисе и тоскливо. С другой – забот полон рот. А всё благодаря Бурёнке. Она не просто кормилица, она – стержень её вдовьей жизни, её единственный свет в окошке, хотя и бессловесная скотина. Но разве ж дело в словах? Сосед Василий вон как речист, а прислушаться – мат-перемат, и ничего больше не понять.
То ли дело Бурёнушка. Вроде бы мычит себе и мычит. Но в каждом «му» слышится Анфисе либо вопрос, либо ответ, либо просьба. Не похожи эти «му» одно на другое. Интонация, модуляция коровьего голоса, продолжительность мычания, сопровождающие его жесты: то характерный поворот головы, то помахивание хвостом, то биение копытом – всё это особый язык, который понимать трудно лишь непосвящённому. Анфиса же за долгие годы все оттенки различных «му» различать научилась неплохо. У неё даже диалог с Бурёнкой получается. Та ей: «Му-у-у». Она: «Что, сыта уже?» В ответ короткое «му». Значит, можно домой шагать.
Вот и сейчас разговаривают они на отутюженной солнцем июльской лужайке. «Му-у, му-у», – жалуется Бурёнка. «Вижу: голодная ты», – отвечает Анфиса, а про себя думает: «Господи, такой чудесный день, такая замечательная погода, но всё не в радость: ничегошеньки здесь не осталось для скотины. А куда дальше идти? Некуда».
И действительно, всё сзади уже объедено и скошено. Впереди же только запретная зона. И охраняет её именно тот, кто имел глупость отдать поселковую землю ненавистному радиоцентру.
Это был зенит председательской славы Авдея Никитича. Посёлок страдал без воды. Четыре криницы, наспех вырытые в первый год освоения бывшего торфяника московскими переселенцами, иссякли почти одновременно. Да и воду они давали с душком: сырой эту жижу с привкусом прелости никто не пил. Но даже она выручала: и для стирки, и для умывания, и для полива. А тут: сколько ни скреби по дну – больше пол-литровой банки за один раз не достанешь. Пытались почистить колодцы, да ничего не получилось: ушла влага то ли вглубь, то ли в сторону. Народ к председателю, тот в райцентр: мол, пора бы настоящий водопровод в посёлок провести. Ему в ответ: вопрос может быть решён положительно в следующей пятилетке. Поди их пойми: отказывают, издеваются или мыслить по-другому не умеют. В следующей пятилетке! Нынешняя только началась, до новой целых четыре года, а там – не обязательно сразу сделают, могут на конец оставить. Значит, ждать лет девять. И тогда пришла Авдею в голову спасительная мысль. При планировке улиц после каждых трёх одну полагалось пропускать – противопожарный разрыв: если полыхнёт, то не весь посёлок от одной спички выгорит. Но для населённых пунктов, имеющих водопровод, это требование не применяется. Связался председатель с одной солидной организацией – там его дружок фронтовой начальствовал – и договорился: за прокладку труб расплатиться недостроенными улицами. Тогда в моду вошло давать за примерный труд дачные участки. Сделку однополчане утвердили в облисполкоме. Так за один сезон обрёл посёлок и колонки на каждом перекрёстке и сотни полторы новых застройщиков.
Если первому обрадовались, то второе приняли в штыки: за какие такие заслуги этим господам и в столице жильё и за городом! Но потом нашли в появлении непрактичных и таровитых горожан свою выгоду: есть к кому наняться, есть кому излишки с огорода сбыть, есть кого облапошить.
И зажил посёлок совсем другой жизнью. Для одних он – дом родной, для других – место отдыха. Первые в убогих лачугах с тёмными сенями ютятся, картошку сажают, вторые возвели причудливые сооружения с террасами на все четыре стороны и застеклёнными мансардами, вместо огородов сады развели с клумбами и клубникой. Ходят друг к другу, цветочной рассадой и усами разных сортов обмениваются, по вечерам в преферанс играют, бесконечных гостей из Москвы принимают. Местная молодёжь в футбол на пустыре гоняет, а дети новых домовладельцев два столба неподалёку врыли, сетку натянули и вечерами в волейбол режутся. Попробовали старожилы к ним сунуться, приняли их вежливо, но обыграли под ноль. Поселковые от позора и обиды больше там появляться не стали.
А ведь ещё недавно, лет пятнадцать назад, и те и другие жили в одном большом городе, вместе в школу ходили, встречались, влюблялись, женились. Теперь же – словно стена между ними выросла. Понятное дело, и без драк не обходилось.
Героические усилия Авдея Никитича по строительству водопровода аукнулись ему через год, когда вызвали его в райцентр и настоятельно попросили подписать акт о передаче земельного участка на востоке посёлка строящемуся радиоцентру. Председатель поначалу сопротивлялся: молодёжь без футбольного поля, без волейбольной площадки и вообще без места для активного отдыха останется. А чем это чревато: пьянками, хулиганством и грабежами. Ему напомнили о партийной дисциплине, которая для коммуниста важнее интересов избирателей, и буквально заставили черкнуть пером в нужном месте. В последний момент Авдей вспомнил фронтового товарища, его связи в высоких сферах и собрался было оттянуть время, но вдруг почувствовал в душе какую-то усталость, какое-то безразличие – махнул рукой и вывел предательскую закорючку.
Предал он, прежде всего, самого себя. Через три года ему объявили, что «есть мнение» слить поссоветскую партячейку из трёх человек с солидной организацией новых соседей. А дальше – дело техники: бюро первички произвело тихую кадровую рокировку. В результате председатель совета и завхоз радиоцентра поменялись местами. Но долго и там просидеть не дали: перевели сначала в руководители службы охраны, а потом и в рядового вохровца, дабы мог заслуженный работник получать и зарплату, и пенсию.
И вот сидит теперь Авдей возле покосившегося проволочного ограждения с множеством прорех, через которые снуёт ребятня. Летом за полевыми цветами, а осенью за серыми маслятами, выползающими целыми семейками: углядишь одну такую – и на суп хватит, и на второе. Между колен у него старенькое ружьецо, чтобы иногда палить в воздух, если уж пострелята совсем обнаглеют и на мачты полезут. Службу несёт он исправно, хотя толку в ней никакой: единственные объекты, интересующие нарушителей – грибы да цветы, а вовсе не железные махины, унизившие своими гигантскими размерами вековые сосны и ели.
В одном месте чугунные столбы подгнили у основания, и колючий забор лёг на землю. Детвора закидала его лапником, положила сверху деревянные ласты, и теперь можно въезжать в зону на велосипеде или на мопеде, дразня неуклюжего часового. Авдей, конечно же, подал рапорт, но руководству радиоцентра давно плевать на мачты-великаны. У административных корпусов своя проходная, свои дежурные, а их сторожить от кого? Разве что от диверсантов-взрывателей. Но в мирное время такие не водятся. И бдительному охраннику дали понять, что пост не снимают только ради его штатной единицы, в память о прошлых заслугах, понимая, как трудно жить на одну пенсию.
Тяжело в жары нести службу по всей форме. Поэтому Авдей не обходит территорию, как положено, а сидит в засаде, на пеньке, возле провала в ограде, и размышляет о жизни.
Нелепо она как-то повернулась. И вроде бы жаловаться не на что: хотел с врагами да шпионами бороться – до старости их и караулит. Можно сказать, сбылась мечта юности. Он начальство уважает, и оно его. И всё же не хватает ему чего-то. А чего, сам понять не может.
Раздумья прерывает странный звук. Словно леший костями хрустит. Авдей поднимает голову. Метрах в двадцати методично выстригает зелёный ковёр своей пастью тощая корова.
– Пош-ш-ш-ла! – шипит на неё грозный сторож.
Скотина никак не реагирует.
– Тебе что сказали?! – по-военному рявкая, кричит оскорблённый постовой.
В ответ – ноль внимания.
– Да успокойся ты, Авдеюшка, – слышит он из-за забора. – Бурёнка совсем оголодала, а выгонов больше не осталось. Поест маленько и назад. Она у меня послушная.
Разговаривать с посторонними, по инструкции, не положено, и воинственный цербер, хоть и узнаёт знакомый голос, уклоняется от диалога.
Корова тем временем продолжает жевать с видом завоевательницы. Мерное пощипывание выводит караульного из себя.
– Прекратишь ты или нет?!
Недвусмысленным жестом к зажатому между колен ружью тянется правая рука. Но это движение остаётся незамеченным нарушительницей. Зато его мгновенно перехватывает зоркий глаз хозяйки.
– Ты, Авдей, глупостей-то не делай. И так уж натворил их на всю жизнь вперёд.
Старик прикидывается, будто не слышит голоса по ту сторону колючей проволоки, и довершает не спеша свой манёвр.
Лучшего случая высказать всё сполна Анфисе не представится. Понимая это, она произносит вторую часть монолога:
– Всё-таки зачем-то Господь тебя умом наделил. Разве ж можно от дела настоящего в кустах отсиживаться? Воду провёл – молодец. Ну а дальше что? Какую пользу себе и людям принёс? Ведь чему-то ты учился.
Не нравятся Авдею такие речи. Хорошо бы отогнать сварливую бабу, но к ней не придерёшься: она порядок не нарушает. Зато корову её, медленно продвигающуюся к мачтам, нужно пугнуть.
– Стой, стрелять буду! – произносит вохровец заученную фразу и встаёт в полный рост. Бурёнка такой язык не понимает и дальше выедает лужайку, отмахиваясь хвостом от мух и слепней.
– Мало ты на двух войнах настрелял – ещё захотелось? – слышится укоризненный голос с той стороны. – Всё добро чужое оберегаешь. Не пора ли о себе подумать. Вдруг хворь какая скрутит. Кому ты будешь нужен?
Это уж чересчур! Он и сам иногда с ужасом думает о грядущей немощи. Снится ему даже страшный сон, будто один в доме, руками-ногами пошевелить не может, зовёт на помощь, но никто не отзывается. Неужели эта ведьма сны чужие подсматривает! Охватившую злобу он вкладывает в выстрел, будто не в воздух целит, а в неё.
Бурёнка останавливается, лениво поворачивает голову к стрелявшему, не удостаивает его даже коротким «му» и возвращается к прежнему занятию.
Анфиса решает сменить тон:
– Ещё не поздно жену себе найти. У нас полпосёлка вдовых, почти все моложе тебя. Разве что детей не родят, а в остальном вполне справные.
К такому повороту он явно не готов. Того гляди, себя сватать начнёт. Нет, надо поскорее избавиться от навязчивой старухи.
– Убирайся немедленно! Второй раз стреляю на поражение!
Угрозы адресованы скотине. Таковы законы службы. Даже не службы – театра, где много лет актёр повторяет одну и ту же роль. Он привык, что ему подыгрывают: обычные партнёры по воображаемой сцене – озорующие ребятишки – на этом месте с воплями о помощи и обещаниями больше никогда так не делать ретируются без оглядки. Если в голосе слышится лукавая издёвка или неискренность, вдогонку, поверх голов, летит девятиграммовая острастка.
Но скотина правил игры не знает. Для неё роль не написана. А хозяйка явно пользуется этим:
– Кого это на поражение? Последнюю корову посёлка. Единственную кормилицу нашу. Да после этого обе руки у тебя отсохнут.
Авдей Никитич привык грозить всем и всегда. Кроме начальства. Но чтобы грозили ему?.. Такой наглости он не потерпит. Оружие берётся на изготовку.
– Считаю до трёх!
Анфиса всё ещё не верит в серьёзность происходящего:
– Нервы свои пощади. Совсем никудышные стали. Небось, и ночью плохо спишь.
Попала, что называется, пальцем в небо. Но только себе во вред.
– Раз!
Нет, такого толстокожего лишь лестью проймёшь.
– Молодой-то совсем другим был. Умел слова красивые говорить.
Не хватало ещё сантиментов!
– Два!
Видно, пора ходить с козыря.
– Я ведь тебя любила.
Любила! Почему же с фронта не дождалась? Вернулся, а тут два приплода, мал мала меньше. Могла бы и потерпеть.
– Три!
Анфиса на мгновенье замерла, зажмурилась, но выстрела не последовало. Она перевела дыхание и запричитала:
– Да стань ты, наконец, человеком. Разве не могли б мы вместе денёчки коротать? Всё же не чужие друг другу. Как-нибудь прожили: одна Бурёнка даёт больше, чем служба твоя бесполезная.
Так, сначала предала, лишила смысла молодость, а теперь и на остальное покушается.
– Сама виновата!
Этих слов в роли нет, тут уж, как говорится, прорвалась импровизация. Но её заглушил громкий хлопок.
Пуля вошла прямо в бок. Корова сначала застыла на месте, потом стала медленно оседать, издавая утробные звуки. Анфиса в одно мгновенье оказалась рядом. Попыталась закрыть рану рукой, но где там: кровь так и хлещёт!
– Стреляй! Теперь в меня! Можешь сразу на поражение! Всё равно я отсюда никуда не уйду!
Такие реплики в пьесе не предусмотрены. Что отвечать, он не знает. И что ему делать – тоже. Стоит, ружья не опускает.
– Ирод ты! Как есть – Ирод! Чего уставился? Приканчивай бедняжку. Невмоготу ей мучиться.
Не сразу доходит до Авдея смысл сказанного. Получается, он должен уничтожить живое существо. Не просто выстрелить в его сторону, а сознательно лишить жизни.
– Не могу, – нарушает он обет молчания. – Я и на фронте за шесть лет никого не убил.
Как ни велико горе Анфисы, как ни полна она мыслей о Бурёнке, но такое признание вызывает невольный вопрос:
– А что же ты там делал?
– В политотделе служил.
Хрипы раненой коровы заставляют Анфису действовать решительно.
– Ничего ты не можешь. Родить не можешь, убить не можешь. Бессмысленный ты человек, Авдей.
Она властно тянется к ружью.
– Дай сюда!
По инструкции, не положено. Но какие сейчас инструкции! Авдей разжимает пальцы.
– Прости, Бурёнушка. Прости, моя радость. Прости, моё горюшко, – как молитву произносит Анфиса и спускает курок.
Июльское солнце по-прежнему в зените. Но не всё в природе теперь ему радо.
1985
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе