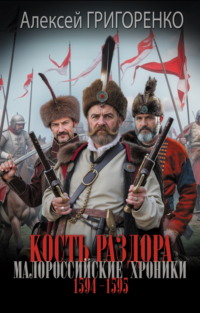Читать книгу: «Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы», страница 4
2. Суды и расправы. Чигирин, 1594
К полудню другого дня, когда Лобода с отрядом козаков повез ночное письмо королю, гневный, мятущийся Чигирин судил униатов, стаскиваемых с окрестных земель на местечковый майдан. Захваченных ночью в пуховых постелях комиссаров-папежников били батогами, валяли в пыли, купали в Тясмине до сопельных пузырей и выбрасывали за городские валы полуживых и растерзанных. Захаращенных и непотребных русского племени, принявших костел, убивали даже до смерти. Никто из них не умел объяснить почему согласился на унию. Люди пьянели от праведного суда, от первой взыскуемой крови. К вечеру подорожние рассказывали в Чигирине, что некто из православных духовных зарубил секирою прямо в храме наставленного попа-униата, обагрив кровью священный алтарь. Другой, то ли беглый монах, то ли в прещении, поправивший свои добра при помощи комиссаров, был спасен от смерти козаками и приведен в Чигирин для расследования. Его приковали железной цепью за горло к городской сигнальной гармате и обмазали дегтем.
– Какие вины его? – спросил Павло у генерального судьи Петра Тимошенка, прийдя на майдан.
Тот мрачно ответствовал:
– Вины известные… Нечего о них толковать… Присуждаю на страту…
– Смерть, Петро, его не минет стороной. Но хочу слышать о винах его…
– Богохульство, – сказал Тимошенко, – Самовольно захватил приход в Надточном-селе, а попа тамошнего Методия отдал на поругание и ганьбу комиссарам. Заложил за несколько злотых евреям-орендарям святые церковные чаши причастные. Разбойничал среди прихожан, склоняя на унию, несогласных же сек до крови…
– Да, смерти достоин, – сказал Павло, – но что скажешь в оправдание собственное? – спросил у прикованного.
– Яко пастырь соединенный, аз повинен непослушных и сопротивляючихся карать и до послушенства их приводить, сполняя доточно реченное Павлом-апостолом: «Невежду страхом спасати»…
– Будешь спасен и ты по-апостольски, – мрачно промолвил Павло. – Почему зрекся святейших патриархов восточных и принял папежа?
– Вещь мы давно утвержденную обновили и восстановили, – белькотал прикованный, – полутораста годов назад на Флорентийском соборе решенную Сидором-митрополитом со причтом, и наивысшему пастырю Христову послушенство отдали, а патриархов одбегли, яко тех, от коих нет утехи, науки, порядку и просвещения. Оне-бо токмо за шерстью и молоком до нас приезжали и вместо покоя меч между нами кидали, новые и неслыханные, канонам противные братства поразрешали, как ув Львови та Вильне, котри грозятся епископам поскидати тех со влады духовной… Что молвить за тех патриархов, коли поганин-турок ими владеет! Маемо бегать такого пастыря, коий и сам в неволе, и нас ничем рятовать не спроможен…
– Богомудрый есть ты на злое, – сказал Павло, – но чтобы разуметь доброе, не увидел ты истины, яко молвит пророк… Провинились пред тобой патриархи… Но разве школу греческую не патриарх ли нам заложил со греками же? И грамматику грецкую со славянским письмом не Арсентий ли, митополит еласонский и димонитский, во Львове, от патриарха приехавший, учил детлахов наших в школе целых два лета? Просветилась наша земля книгами грецкого и славянского писем, что размножились от друкарей – братчиков киевских, львовских, острожских и виленских. Было ли от крещения такое? Не учился народ наш – церкви токмо Божии муровали, спустошенные ныне от вас. Жить бы в мире и в согласии, но полезли несытые вы, от дьявола рождшиеся, на православие наше, – и справу церковную ныне разорвано и поневолено, люд даньми обложено и поспольство к уничтожению приведено, и убожество всюду намножилось!.. Что же сказал ты о недостойном митрополите Сидоре-отступнике давешнем, что убежал от кары после Флорентийской той унии до папежа вашего в самый Рим, покатоличился там, – сам знаешь это, – и возведен был в кардиналы за ревность костелу! Разве сей зрадца6 в пример был отцам нашим – и нам через них?..»
– Кому, брат Павло, все это говоришь и припоминаешь? – сказал Петро Тимошенко, – Сладко жрать да спать в перине пуховой – во что надобно этому пройдисвиту! Но да уснет!..
– Да-да!!! – плел, как пьяный, расстрига. – И буду сопричтен к мученическому чину небесному! Подай се, Боже, шоб мог я за Христа, за веру соединенную, за Церковь та за первенство папы жизню отдати!..
Сплюнув от омерзения на судный майдан, Павло отошел от сигнальной гарматы.
Миловать – этих?.. Распускать их по свету, как саранчу, народу на посмех и на позор, ибо и сей от корня его, готовых загрызть и матерь родную, чтобы только властвовать, властвовать – над душами и телами захаращенных блудливыми словесами, над землею, над реками и лесами?!. За что, Господи, ниспослана скверна на нас? За что орудие казни – былые блюстители душ и сердец?.. Да, избраны они – по достоинству нашему. Припомнил он: когда святейший патриарх антиохийский Иоаким, извергший прочь митрополита Онисифора-двоеженца, с говорящим фамильным прозвищем Девочка, и наставивший на его место по просьбам поспольства Михайлу Рагозу, сказал в Вильне при том: «Аще достоин есть, по вашему глаголу, будет достоин, аще же не достоин, а вы его за достойного удаете, аз чист есмь, вы узрите…», то как в воду глядел. Теперь и увидели Рагозу в отступлении… И выжечь крестным огнем этот гнойник должны мы сами, если здатны не только дудлить без края горилку и поставные меды, но и служить, как против поганых, силою Честнаго Креста. И кто-то в нем, скользкий и жалостный, с тоненьким голосишком, говорил, что они, коих считает он вражеством, – тоже ведь христиане, но толка иного, с некиим повреждением совести-веры, – и как это ты, вельми несовершенный духом своим, дерзаешь поднять на них вооруженную руку? Ты же пытаешься стяжать милосердие и любовь к ближним, дальним и даже к врагам – к миру всему. Вот и яви милосердие ныне, сейчас, – милуй мерзенного расстригу того и отпусти его на четыре ветра. Господь рассудит его по винам его. Зачем тебе напрасная кровь, гетмане?..
Сидел в одиночестве, в полутемной мещанской хате, ощущая засасывающую и звенящую пустоту. Старался не слышать криков и ругани, бессмысленных бормотаний, доносящихся с проезжей дороги, где властвовал человеческий суд и где торопливо спешил к завершению сегодняшний день. Ему хотелось заплющить глаза и оставить все это – забыть, отрешиться, исчезнуть – и вынырнуть в дне наступающем, в других уже временах. Тело наливалось каменной тяжестью, болью. Отстегнул дамасскую саблю, положил ее на столешницу, ближе к руке, и прилег на лежанку. Тихий матово-желтый свет струился сквозь пергаментный воловий пузырь, падая на желтый же глиняный пол, на кострубатые лавки вдоль стен, на стол, пропечатанный ночью нагаем. Уже погружаясь в неверный и обманчивый сон, ватно, скучливо и безнадежно подумал о Лободе, прямующем путь на Варшаву, – если он доберется до столицы Речи Посполитой чрез неспокойные ныне пространства земли, если примет его Сигизмунд, а не сразу же заточат его в замок тюремный, то в лучшем случае устроит король еще один шумный и галасливый сейм из панов, который ничего не решит. Война неизбежна, как неизбежна предначертанная история земли и народов, ее населяющих…
Нет совершенства и цельности в текущем сем мире… – и уже погрузился в серый морок, в ничто, и как бы очнулся в незнаемом месте, в каменном городе, где властвовал над застроенной хоромами впадиной древний большой монастырь. Обесцвеченная дождями затейливая колокольня, венчанная бескрестным ржавым, в пробоинах, куполом, подпирала высокое синее небо. Посреди обомшелых, отливающих зеленью стен высилась церковь, еще сохранившая следы былой красоты. Улицы, ведшие в гору, к полуобвалившейся монастырской браме, были пусты и безжизненны. Окрест, сколь хватало взглядом достичь, не было ни души, ни тела живого. Над каменной впадиной, над достигающей небес колокольней шли высокие белые облака. Сияло холодное осеннее солнце, заливая город призрачным и ртутноподобным светом, – камни, дома и деревья не имели в нем тени. Он подумал, что таким и должно оно быть – время печали и осени.
Шел в гору, спотыкаясь о камни, стертые тысячами подошв прежде прошедших, – знал, что идет туда, к отверстой всем ветрам браме запустелого монастыря, и не мог дойти и достичь, – путался в кривоколенных, заплывших грязевым месивом улочках, переулках и тупичках, заросших окаменевшим сорным бурьяном, стучал в пугливо зачиненные человечьи ворота, звал и кричал перехваченным судомой горлом хоть кого-то из сущих, но зовы его гасли в пространстве, как бы разбиваясь о невидимую стену отсутствия, небытия. От видимого в отдалении монастыря шли к нему волны горячего света, похожего на огонь, – они будто звали, манили его. Сиял съеденный ржой купол церковки – он видел, как сквозь дыры его вылетали черные и белые птицы. Безголосая колокольня качнула единственным уцелевшим от неведомого погрома колоколом, но тужливого одинокого звука так и не случилось над этим вымершим городом. Шел и шел, перебредая калюжи, – под сапогами давилось и чавкало едва ли не болотное багно, – тащился из последних сил в гору, и глаза, заливаемые едким потом, различали уже какие-то химерные тени, торчащие под монастырскими стенами. Когда приблизился, тени, прежде будто вырезанные из пергаментного куска, ожили, сказались людишками. Замахали ему ломкими ручками, забелькотали что-то, глотая оконечности слов. Трое из них так и не ожили – двое лежали прямо под брамой, одна, вроде женщины, прикрытая полуистлевшей хламидой, шевелилась под самой стеной, мостясь поудобнее на куче разновеликого мотлоха. Один из стоячих был преклонного к исчезновению века – полуслепые глаза отливали красным вином. Другой возраста не имел, – лицо его казалось ссохшимся и скукоженным. Старик уже булькал в граненую склянку чем-то коричневым из зелена стекла красоули; набулькав до половины, протянул склянку Павлу:
– Трудовой привет труженикам от искуства! – сказал он московским наречием.
Жидкость ледяной струей медленно стекла в низ живота. Павлу казалось теперь, что и солнце, и день какие-то ненастоящие, призрачные, – и из этого вразумилось муторно, но и с облегчением, что каким и быть солнцу, обливающему непокрытую голову его холодным, физически ощущаемым светом, и дню, в котором стоит перед облезлыми ярыгами под монастырской руиной, ежели все это сон, ложь и неправда, – и вот шевельни затерпнувшею правицей, сминая рядно на чуть теплой лежанке, и гнилая короста, где впечатаны сатанинские тени, спадет с матово-желтого, тихого света мещанской хаты, и снова прорежутся: Чигирин, застенные стуки и крики, привольная ширь могучих бескрайних степей его родины и любви, где прямует свой путь к златоверхой угрюмой Варшаве миргородский полковник Григорий Лобода, везущий грамоту королю Сигизмунду, – и не мог разлепить тяжелых повек, видя землистые лица и слыша химерное бормотание:
– Так ты в самодеятельщиках главный по гопаку?.. А ну – врежь, шоб земля застонала!..
– Та не, он, видно, поет… А ну, народную, козачок, заведи! А мы подпоем, как сумеем… Ой, на горi та й женцi жнуть…
– Где люди? – едва слышно сказал им Павло, – и что это за кляштор?..
– А мы шо тебе – не люди? – скукоженный осклабил гнилые пеньки на месте зубов. – Мы, може, остатние люди и есть! Верно, дед?
Старик в поспешности затрусил головой.
– А шо то есть кляштор, шо он сказал?»
– Кажись, монастырь так по-польскому называется… Еще полска не згинела! – глумливо прогнусавил старик. – Так шо, пан есть поляк?..
Павло не ответил.
– Та русский, – сказал скукоженный за него, – токо со странным акцентом. Щас все уже русские… Даже жиды… Ты доклад ему про монастырь прочитай – ты ж экскурсии водил тут када-то, – може, даст на бутылку?..
– Момент! – сказал дедуган и судорожно выпил из склянки. Закашлял, ломаясь бескостно напополам, прокашлявшись и вытерев вылезшую соплю, долго нюхал кусочек хлебца. – Так шо пана интересует? История данного монастырища? Так?
– И где люди? – добавил скукоженный.
– Люди все на работе, – сказал дед, – строят красивую жизнь. Про политический момент распостраняться не стану…»
– Та не надо, – одобрил сморщенный. – Он и так газеты читает.
– Про данный монастырище я в детстве золотом еще книжку читал, – вел далее дед, – монастырь этот для паломников, када их было до черта, брошюры тада выпускал, – с историей, значит. Так от, такую брошюру я и читал. Про чудеса умолчу, бо наукой они опровергнуты, а факты, значит, такие: запорожцы монастырь этот фундовали – ще за царя Гороха, нихто не знает – када… И наименовали его громко и видно: Самарский Святониколаевский пустынножительный, – о так от…
– Нет такого монастыря на Запорожье… – тихо сказал Павло.
– Та как нет! – рассмеялся дед. – А это шо? – ткнул дрожащим скрюченным пальцем в облезлую стену, – а само Запорожье – он там! – махнул рукой в глухое, оплывающее влажным туманом пространство. – Тут недалёко…
– Та давай уже выпьем! – не терпелось скукоженному.
– Та подожди-зачекай… Товарищ интересуется, шо было дальше. После известного переворота, вошедшего безвозвратно в историю, монахов тех толстопузых, шо книжки печатали и распостраняли, как опиум, для народа, всех разогнали – кого послали на север отечества грехи замаливать прежние, а кого и на юг, но в основном – под земную кору отдыхать, а кто выжил, тот уже как мог приспосабливался к новой жизни и новому счастью: кто канал на севере родины ломом долбал, на папиросах увековеченный, кто желтое, кто белое, кто черное золоты добывал, а кто лес выводил в Магадане, шоб больше не рос никада, – короче, заставили пустынников наших принимать участие в общественной жизни, строить совместно со всеми, кто не хотел, светлое будущее. Монастырь же сам разорили – золото-серебро запорожское на голод в Поволжье ушло, та все едино – было оно за царя Гороха награбленное у трудового народа из Турции… Ободранные же образа люди растаскивали: у кого скотина тягловая была, тот и телегой возил… Вот мужик у нас был тут очень хозяйственный – так у него стена в хлеву вроде иконостаса гляделась – всю сколотил из икон… Прошлым летом преставился, бедолага, – и не пил, не курил, а червь в нем какой-то завелся, да и выел ему все кишки… Криком кричал…
– Ото надо было пить и курить – червь бы тот и не выдержал, – сказал сморщенный.
– Ото ж и я говорю… Так от… После того, как кресты поскидали, устроили тут тюрьму для народных врагов. А потом как-то сами собой враги перевелись подчистую, и учредили здесь больничку для дураков – ходили, помню, все по двору и цветочки разные нюхали. Потом и дураков почему-то не стало, перевезли их куда-то, чи може, все стали умными. В монастырище том тогда детей поселили – уродов и инвалидов, от которых родившие их отказались. Головки беленькие, – как сейчас вижу их, – оченята синенькие, смеются, бывало, и бегают друг за дружкой, – в квача, значит, играют, только не рукой пятнают, а ножкой, потому что вместо рук у них как бы малые крылышки за спинками были, – ну чистые ангелята!.. А теперь – нет уже здесь никого, кончается жизнь… Разве что мы вот еще… не допили пока что свое… – в винных глазках его отразилась тень сожаления, жалости – к детям ли ангелам, к пропащим врагам или к тем, что тихо бродили в вековых этих стенах, погрузившись в себя навсегда, то ли к себе и плывущим над ним, исчерпавшим себя без остатка временам?..
Павло качнулся на каблуках, преодолевая ледяное оцепенение, повел ладонью по своему сырому и как бы расползшемуся лицу, обернулся назад, но города уже не увидел – на его месте дымилась гигантских размеров воронка, засасывающая пространство и время. И тут мозг небесным трескучим разрядом разорвала даже не мысль, но скорботно немой вопль о спасении, и, обернувшись к своим совопросникам, он поднял руку прочь отодвинуть эти гноящиеся глаза, тухлую закваску дыханий, россыпь сгинувших безумных словес о неизвестной ему земле, выдаваемой за родную его, – и увидел, как человечьи фигурки, подрагивающими клочками еще не размытых сочлений, пожираются серой прорвой тумана, – в осязаемо ватном и влажном последней красной искрой зажглись и погасли винные глаза старика, и на месте, где толкся скукоженный, уже расплывалась мутная лужа, в коей мок затерханный папиросный окурок.
Павло, ослепленный туманом, протянул руку вперед и сделал прочь несколько торопливых шагов, пока пальцы его не уткнулись в шершавую монастырскую стену. Придерживаясь за нее, он пошел по направлению к браме. Кирпичи размокшим хлебом крошились под его скользящими пальцами. Вскоре плоскость заострилась углом, и Павло вошел внутрь стен. Здесь тоже господствовал туман, и только с большего приближения были различимы купы рослой крапивы и битого камня. Шел по направлению к храму – воздух здесь скис, словно старое молоко, и его приходилось разгребать пред лицом ладонями, – и, если думал о чем, то только достичь крепких храмовых стен и сотворить в них едва ли не последнюю в этом мире молитву. И, может быть, умереть с ней, застыть навсегда, достигнув заветной домовины для усталой души. Ступни его ощущали уже заплывшую многолетним слоем земли церковную паперть.
Меж пальцев вытянутой десницы что-то высверкнуло теплым свечным огоньком, когда он дотронулся до холодной металлической двери, разошедшейся надвое от прикосновения. И тут грянул протяжно и одиноко колокол в небе, и развернулось отовсюду, будто веером, божественное песнопение, наполнив пространство, – удивленными немало глазами Павло увидел внутри рассыпчатый свет многих возженных свечей на медных почернелых шандалах и паникадилах и множество молящихся в храме, – перед отверстыми Царскими вратами рослый диакон, облаченный в золотые одежды, возглашал великую ектению, а по узорчатому чугунному полу, едва касаясь его босыми ступнями, двигались дети в белых рубахах до пят, – и у них как бы не было рук, или, может быть, они были просто неприметны в свободных складках рубах, но на спинках у них ткань оттопыривалась так, как если бы под ней были спрятаны малые крылышки. Тихо и счастливо Павло ощутил, как неземной благодатный свет отогревает душу его, заполняет объем ее, – и больше не вспоминаются оставленные где-то там, в далекой дали, Чигирин, вчерашняя черная рада, выкрикнувшая его гетманом Украины-Руси, и насилие этого дня, когда пролилась первая кровь; и не думается, не страдается над тем, как повернуть ветрила начальной войны козачества и поспольства и как среди этого стяжать, воплотить милосердие вживе, – и тем более не думается над блудливыми словесами тех пьяных химер, что остались в тумане. Может, и не было их, как не было ничего до этого тепла и любви, исполняющих душу.
Он наложил на грудь размашистый крест и опустил руку в кишеню, чтобы добыть оттоль полгроша на свечку. Нащупал монету и, зажав ее в кулаке, вынул на свет. Может быть, улыбался, потому что слишком отчетливо зрело в нем то, что называемо счастьем. Стоящий рядом обернулся лицом и посмотрел прямо в Павловы глаза. Был он высок, седовлас, стрижен не по-козацки. Помедлив, тихо сказал:
– Не тревожься нами напрасно, гетмане, – и ничего не страшись в священном деле своем…
Павло смотрел в его незнакомое худое лицо – на крупный нос, в светло-серые и неотмирные глаза, сидящие глубоко под бровями, – он не знал этого человека, но вместе с тем в лице его было что-то очень знакомое, степное и воинское, и был он Павлом почти позабыт в громокипящих днинах войны, и имя его, имя… И вспомнил, сказал ему:
– Знаю тебя и помню, старый товарищ мой: ты… распят под Пятком, после Острожской войны гетмана Криштофа-Федора, – распят жолнерами на манер Первозванного Христова апостола святого Андрея… Знаю и помню тебя, славный брат мой Опанасе! Радуюсь, что ныне спасен!..
– Нет, гетмане, – сказал на это ему человек, – не Опанас я Криштофа-Федора, но от плоти и крови его в двадцатом колене, смертью умученный здесь…
– В двадцатом колене… – оторопел Павло, – так значит, тебя еще, получается… нет?..
– Нет. При тебе – нет. И потом еще долго – после тебя… И вместе с тем – есть, – и мука уже принята.
– За что же муки приял?
– А за что приял их незнаемый тот Опанас? Или ты, гетмане?..
– Тебе ведомо и обо мне?..
Седой Опанасенко ничего не ответил на это, будто не слышал, и говорил все свое:
– За что принимали от века здесь муки мужчины, которые пытались исполнить то, что ты заложил, как священный завет?
– Я? – тут Павло еще более удивился. – Бог с тобой, человече, ничего-то я не закладывал, – жил и был, как прочие все.
Опанасенко снова молчал, глядя на него испытующе, и сказал:
– Ты – просто жил?
– Да, – ответил Павло, – просто жил. Так жили все до меня, и так будут жить, когда я умру.
– Всегда ли?
– Нет, не всегда. Но не мне тебе объяснять.
– Да, – сказал Опанасенко тихо, – теперь ты видишь – все завершилось.
– И – исполнены времена?..
– Ты сказал, – так же тихо ответил тот, оборачиваясь лицом к алтарю.
Неслышно, как бы по воздуху, шли дети мимо него, иногда прикасаясь к рукам его складками белых одежд, словно дыханием света; низкий глубокий глас диакона числил уже ряд заупокойных имен: Тарас и Богдан, Иван и Ганна, Мария и Тимофей, Самойло и Опанас…
«Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй…»
И исчисленные сии тоже составляли единый и неделимый народ его родины и любви, – пусть он не знал здесь никого, пусть они даже еще не пришли, не увидели блеска и глубокой сини небес, не узнали на ощупь сужденной на жизнь и смерть им земли, распростершейся привольно там, за стенами, за туманами, за великими воздушными толщами, но он, стоящий средь них и ими забытый, гетман без имени, один из многих, из многих – один, ожидающий, когда придут они в мир для жизни, славы и смерти, несет их в безмерном памятовании сердца, в чреслах своих, в гуле струящейся в венах неупокоенной крови, хранит их малые души, как немая до веку земля хранит и несет в себе семя, из коего произрастет хлебный злак, или дерево, или зелена трава-мурава, будто несет на плечах своих неустанные их дороги, пути и тропины, их скорботные, не облегченные его жизнью судьбы, и в нем столько же будущего, сколько и прошлого. Он – средоточие мира, креста, как средоточие мира, креста эти малые дети с крыльями вместо рук, проходящие в тишине и молчании мимо него, как средоточие рода своего и этот двадцатый вверх, в немыслимую и непредставимую высоту глубины бытия Опанасенко, отразивший в лице своем (и судьбе, и судьбе…) распятого в давнине 1592 года Опанаса, в смуту-войну Криштофа-Федора, – и тоже принявший смертную муку уже по делам, Павлу неведомым. В белоснежных одеждах, омытые от кровавой пены и грязи, все они будто стоят на перекрестке миров и времен, – здесь и нигде, сейчас и никогда. И легче ли тебе в этом родном и чужом стало, гетмане?..
Так было спрошено как бы со стороны, и полуда спала с очей, – и увидел: синий вечер окрасил былой желтый свет, и в хате мещанской загустевают смерклые сумерки. Все по-прежнему – домаха без дела покоится на столешнице, чуть тепла лежанка под спиной у него, и за стенами – Чигирин, родные пределы. С радостью, с облегчением и чуть ли не со слезами он снова услышал человеческие родные слова, голоса, ржание и пофыркивание лошадей, бряцание оружия, тусклое и пока прикровенное, – извечные звуки войны. Все было по-прежнему, словно в мире не существовало ни смерти, ни бранной погибели, ни ответа на Страшном судилище, не существовало ни самое истории, ни той бездны, куда он заглянул, но длился и плавился все тот же сегодняшний день, коему конца не предвиделось, да и быть не могло. Потому что иное – превыше сил человеческих.
Встал, не вспоминая уже о химерах, посетивших его, – да и было ли то, что увидел?.. Поднял правицу, вытирая лицо от испарины, – на пол с тихим звоном упала монета.
Медный литовский полгрош на свечи.
* * *
Что-то странное, неизвестное прежде, зрело в нем, когда стоял в густой и пряной остатними летними запахами чигиринской ночи и пытался пугливой и слабой мыслью своей, перемежаемой молитвой Иисусовой, как бы залепить воском уши свои и не слышать треск и лязг в глубоких колдобинах череды смертных возов, наваленных застылыми мертвецами прошедшего дня, которые плыли мимо него один за другим. Единое слово билось в нем подраненной птицей, не спроможной взлететь в небесную глубь и обреченной на муку гнетущей земли, – жизнь, жизнь, жизнь – не знаю, что это, не знаю даже что есть та малая вереница дней, которые прожил сам есть на свете, – вспомнить, что было: стычки, битвы, война и расправа; и было: убийство купцов и мерзенных орендарей, и ограбление коронных обозов, походы в Угры и Валахию, чадящие дымной копотью маетности иноязыких панов, и когда удачливо все получалось, переметные сумы, набитые чужестранной монетой и серебряной утварью, – что знаю еще о себе, кроме этого? И было еще кратким солнечным сном: как жил на хуторе с Ганной, с малыми детлахами своими, как возился на пасеке с колодами в медвяном и мирном гуле роев вечных тружениц-пчел, пахал черноземлю, – да только бросить семя в раскрытую борозду не всегда успевал, уходя к Запорожью, и оттуда – к синему морю разорять тогобочные пределы османские, резать и жечь сорную погань, бурьяном нарастающую в прибрежных аулах, – и снова надбанки: бочонки с ароматными винами грецкими и груды персидских шелков, кармазинов, парчи, снова бряцание навоеванных червонных дукатов… Виновен ли? Турки, татары, единокровные ляхи, угры и волохи, с коими воевал, – мир весь, лежащий в кордоне с землей его родины, товарищество его тоже не миловал. Это и есть наша жизнь, наш удел, наша жестокая судьбина-беда: убийство, добыча и смерть… Но – ради чего?..
Возы со скрипом проезжали мимо него, уходя нескончаемой чередой в черную предосеннюю степь. Возницы, сидя на стылых телах под горящими дымными смолоскипами7, освещающими неверным и миготливым светом дорогу, переговаривались о своем, обычном и страшном.
– Тройко детлахов у меня… – донеслось тяжким вздохом.
– Та у тебя ж чотыры по лавкам сидят! – откликнулся тот, что двигался сзади за ним.
– Та на возу – вбыти лежат, пойняв теперь?..
– Та пойняв, – хай йому грець, тому гетману! – и помолчав, снова сказал: – Чи есть в тебе зелья – хоч люльку од жаха того запалю?..
– Самому треба – не дам!
– Шоб ты здох, чортыло таке! – взъярился просивший, – Хай бы оте детлахи униатськи воскресли та й задавили б тебе!..
– Эгеж! За зелье те на яки прокльоны ты ще здатен?..
Голоса в ругани затихали, отдаляясь, и из темноты прорезался свет нового смолоскипа, новый говор: погоныч клял тещу свою за то, что борщ пересолила в обед, а сотоварищ его посмеивался и покрикивал «цоб-цобе!» на серых печальных волов.
Третий, раскинув рогожку на трупах, лежал, глядя в звездное небо. То ли думал о чем, то ли мыслью витал, то ли дремал в мерном ступе волов. Грохотали, трещали, скрипели возы, груженные смертной добычей, – и Павло снова думал о них, – что убитые эти, растерзанные и изувеченные в злобе слепо-ответной жили в стрежне судеб своих на этой земле, в трудах, радостях и печалях, были людьми – живыми и разными. Но убиты. Мертвы навсегда. А что – с душами их? Куда определил их Суд Божий – за грех отступления от святоотеческого закона церковного? Может быть, то, что претерпели они ныне, это сущее мученичество, омыло сей грех, оправдало их как-то неведомым образом?..
Подошел к проплывающему третьим мимо возу, тронул погоныча за грубый дерюжный рукав – тот оторвался от созерцания звездного неба, сел и равнодушно посмотрел на Павла.
– Как их имена?
– Яки имена? – не понял погоныч.
– Этих… Как звались они? – Павло положил ладонь на рогожу, еще теплую от тела возницы.
– Та хто их знает? – погоныч с хрустом за ушами зевнул. – Може, и были у них имена. Може, и прозвища были. Теперь как ни назови, не откликнутся…
– Есть ли дети средь них?
– Та были вроде, если по дороге не выпали.
– Их-то – за что?
– А я – знаю? Тимошенко казав, шоб род поганский вывести навсегда, шо-то такое, не розумиюся я в тех мудрых словах по письму, шо учена старшина говорит… А тебе шо – по пути, человече? Так присажуйся, подвезу, – и добавил: – Путь прямуем в самое сердце земли…
– Да, – ответил Павло, – да, поедем. Поедем…
Как был – в полотняной белой рубахе, заправленной в шаровары, перетянутый в поясе широким шелковым кушаком, без домахи, оставленной на столешнице в хате, без шапчины своей с оксамитовым верхом, сел рядом с погонычем на рогожку, под которой лежали враги. Полно, подумалось, гетмане, враги ли те, у кого уже отнято дыхание жизни по войсковому суду? И если был какой-то особливый настрой в пропавших их душах, если и было некое несуразное и немыслимое вражество к общей крестной судьбине народа, то где они ныне, как осязать их и как не простить?..
Откинул закраину полога, заглянул в запрокинутое, отливающее голубым от звездного света лицо: стылые, пустые глазницы, глядящие в запредельное, куда не проникнуть взгляду живому, обострившийся нос, впалые щеки, вздернутый подбородок, крупно-острое адамово яблоко горла, в спутанных волосах – ком запекшейся крови и черная впадина раны-дыры. Крест по недостоинству сорван с груди.
Никто. Словно не жил никогда. Ни следа, ни могилы, ни памятливого теплого слова вслед отлетевшей душе. Будто и не был зачат в давней горячечной ночи любви, не возрастал в чреве безвестной степнячки, не выходил в ее муках в белый сей свет, не рос среди подкозачат, не шел в борозде, ступая в отцов след в теплой и мягкой родимой земле, не любил никого и никого по себе не оставил.
Никто. Без имени и без жизни. Как понять его дни, изжитые до сегодняшней кары? Верно, тлел без талантов, без нажитых надбанков и добр и безоглядной удачи – серяком и голотой, тяжко в наймах работал на разворотистого господаря, – на Запорожье не близко и боязно было уйти, да и страшился, что век невзначай укоротит – так бы и дотлел, дочадил до конца своего, до сивины и хворобы, за коей ушел бы как жил, как бы и не было вовсе, – или попал бы в лихую годину в татарский ясырь – довели бы в путах его до синего моря, продали бы тогобочным купчинам в ханской столице, – хоть и рабом, но увидел бы свет за околицей господарского хутора, – умер бы там, но достойно и мученически, по-христиански, – и безмолвное тление и ничтожество изглажено было бы из небесных скрижалей.
Да и если размыслить, то не всем воевать на четыре стороны ветра, не всем добычливо уходить от наступающей на пяты погибели, не всем обладать гетманскою булавою, – хотя, как воин, не однажды прошедший огонь, Павло не мог оправдать затхлой, бесцветной, бессмысленной жизни, прожитой как бы в бессильно-злобной насмешке над здравым смыслом и смятением бесконечной войны. Но, – еще раз сказал он себе, – не всем дано дело стояния за Отечество вооруженной рукой, но ведь можно иначе, как киевские подвижники… С переметными сумами и проржавевшей от крови домахой, в реве чуждого и враждебного мира, в пищальном дыму, в осажденных, вымирающих от жажды и голода, но не сдающихся таборах, мы как бы неразумные дети, безрассудно играющие судьбой, промысленной свыше, – в сравнении с совершенными ними, укрепляющими не только себя, но и нас глубокой и высокой беспрестанной молитвой в пещерных церквах… Да, или это, – немыслимое по тяжести совершенства и духовного устроения. Но тление – серединный ли путь для немощных духом и телом?.. И может быть, требовалось немного: не творить зла.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе