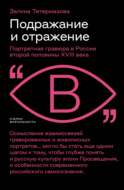Читать книгу: «Жены Матюшина. Документальный роман», страница 2
Ученик и учителя
В названии «Школа общества поощрения художеств» смущает слово «школа». Сразу возникает мысль о начальных классах и буквах алфавита. Тем более странным казался новый студент.
У сокурсников Матюшина едва пробиваются усы, а к нему обращаются по имени-отчеству. Одни иронизировали по этому поводу, а другие относились с почтением и одалживали деньги на обед.
Наверное, правильнее было бы одеваться попроще, но Михаил Васильевич решил выделиться. Завел брутальные усы, золотой перстень и трость. Поведение тоже было не рядовое. Обычно в студентах ценят послушание, но он не хотел быть, как другие.
Сперва Матюшин ходил на занятия к Крачковскому, а затем стал заглядывать к Ционглинскому. Менять учителя, правда, не спешил. Если однажды тебя назовут перебежчиком, то ты так и останешься с этим клеймом.
Кстати, Мария Ивановна тоже просила не торопиться. Все же это она нашла Крачковского, а он отнесся к ней внимательно. Долго смотрел работы, – то издалека, то приближая к глазам, – а затем сказал: беру!
Да и можно ли изменять своему первому учителю? Это же все равно, что неверность в браке.
О том, чтобы изменить семье, он пока не думает, а предпочтения у него меняются. Если позволено выбирать между музыкой и живописью, то и учителей у него может быть несколько. Правда, объявлять об этом необязательно. Лучше пойти не прямо, а в обход.
На Литейном Ционглинский вел частную студию. В начале дня он подчинялся руководству Школы, а в конце был первым лицом. Бывало, выслушает то, что от него требуют утром, а про себя думает: вечером все сделаю наоборот.
Ян Францевич хотя и преподавал, но разговаривать не любил. Зачем что-то декларировать, если за тебя это делает искусство? Любая его работа подтверждала, что он видел себя импрессионистом. Те, кто еще не привык к этому слову, называли его «впечатлистом».
Вот достойная цель. Воспитывать новое поколение – и учиться самому. Не только запечатлевать интересные виды, но стараться смотреть больше. Где только ему не довелось побывать! Даже там, где не ступала нога русского художника.
Вернется, к примеру, из Африки, соберет друзей. Они рассказывают, сколько продали картин и в каких пирушках поучаствовали, а он – о том, как охотился на львов и совершал восхождения на гору.
При этом никакого «делай, как я». Зачем домоседа звать в дорогу, а кубиста агитировать за импрессионизм? Не лучше ли учить не готовым приемам, а собственно творчеству – умению делать что-то свое?
Ционглинский такой же перебежчик, как Матюшин. До Петербурга он учился в Варшаве на медицинском, а потом на физико-математическом факультетах. За этой переменой последовала еще одна. Преподаватели в Академии утверждали, что нам не по пути с французами, а он их не послушал.
Еще учителя сближает с учеником то, что они оба музыканты. Правда, Ян Францевич не метил ни в первые скрипки, ни даже в последние пианисты. Устанет от того, что его не слышат, и садится за фортепиано. Шопен возвращал его в тот город, в котором он начинал рисовать, но еще не думал преподавать.
Так жил Ционглинский. Путешествовал и музицировал. В живописи тоже открывал что-то вроде музыки и новых путей. Так что в любом своем качестве он делал примерно одно.
Если живопись – это музыка и дорога, то главное не сюжет, а все то же впечатление. Даже чистый лист заставляет тебя трепетать. На нем еще ничего нет, но ты уже что-то предчувствуешь. «Поймите, какая красота – белая поверхность, – говорил он. – Вы должны сделать так, чтобы она стала еще красивее».
Умер Ционглинский так, как и надлежит серьезному живописцу. Защищая то, что он считал самым важным в искусстве.
Среди его воспитанников был один сезаннист. В честь своего кумира молодой человек даже отрастил бороду. Как-то Ян Францевич заговорил с ним о кубизме. Сначала ученик возражал, но вскоре аргументы у него закончились. Тогда он взял первый попавшийся холст и надел учителю на голову.
Студийца увезли в лечебницу, а Ционглинский слег в постель и через несколько месяцев умер. Больно серьезной была обида. Пострадавшая картина была импрессионистической, а это обижало не только его, но и любимых мастеров.
Гуро, Матюшин и выбор пути
Тепло… холодно… горячо… Так и будем двигаться. Начнем с того, что среди студийцев только Матюшин и Гуро чувствовали себя независимо. Один состоял на службе в оркестре, а у другой отец был генералом.
Генерал Гуро был настолько нужен начальству, что квартиру ему предоставили в Генеральном штабе. Путь из дома до кабинета занимал минут десять. Тут его ожидала никогда не уменьшавшаяся гора бумаг. На каждой следовало написать: «Отказать» или «Разрешить».
На службе Генрих Степанович был строг и требователен, а дома добр и снисходителен. Возможность исполнять прихоти дочерей он считал своей привилегией.
Можно вспомнить и других родственников Елены. Никто не нажил богатств, но жизнь у всех была насыщенная. Жаль, никто о себе не написал. Слишком много у каждого было дел.
Дед со стороны отца, Этьен Гуро, был сержантом наполеоновской армии. В отличие от своего императора он не бежал из России, а поселился в ней навсегда. Назвался Степаном Андреевичем, но остался французом – преподавал язык своей родины и составлял французские словари.
Второй дед, Михаил Борисович Чистяков, редактировал «Журнал для детей», сочинял сказки и стихи. Не чуждалась литературы и его жена Софья Афанасьевна. Так что первые книги, прочитанные внучкой, написали самые близкие ей люди.
У всех были свои занятия, но каждый имел в виду высшую цель. Степан Андреевич не изменил родному языку, а Михаил Борисович – детям. Генрих Степанович визировал рапорты и донесения и этим способствовал порядку в армии.
Предки Гуро известны до четвертого колена, а у Матюшина близкие наперечет. Какой может быть род, если его мать начинала в крепостном звании? Правда, род был у отца, но отца он почти не знал. Существовал кто-то сильно пьющий – принесет сласти, а потом пропадает надолго.
Причастность родственников к литературе еще до рождения определила участь Гуро. Матюшину приходилось рассчитывать только на себя. Вот почему его путь – словно в подтверждение теории о кривой линии – оказался непоследовательным.
Ранние годы прошли в Нижнем Новгороде. Если бы тогда ему сказали, что где-то есть искусство, он бы пожал плечами. В жизни хватало разного, но музыки и рисования в ней не было совсем.
Рядом недоедал и подворовывал Алеша Пешков. Вряд ли будущий писатель пересекался с будущим художником, но среда у них была одна. Улица научила их не сдаваться. Лупят тебя, а ты так же сильно бьешь в ответ.
В детстве Михаила подстерегал первый выбор. Избери он неправильную дорогу, не было бы в его жизни скрипки с мольбертом.
Как положено «типам Горького», Матюшины пьянствовали. Лет в семь Михаил почувствовал себя взрослым, и тоже стал прикладываться. Делал он это не без расчета на впечатление. Особый шик заключался в том, что пил он не дома, а в кабаке.
Кабатчик почти плакал, но наливал. Во-первых, заплачено, а во-вторых, это не Общество трезвости, и не ему перевоспитывать граждан.
Как удалось бросить? Скорее всего, градус искусства оказался сильнее. К тому же к этому времени у него появилось чувство пути. Он знал, что, если оно что-то подсказывает, ему не надо перечить.
Сестра отца, актриса Сабурова, звала в Петербург, но мать воспротивилась. Уж как непросто ей было бегать с работы на работу, да еще приглядывать за шестью детьми, но она не хотела торопить события.
Через многие годы Михаил Васильевич признал, что все было правильно. Не хорошо и не плохо, а так, как должно быть. «…Я радуюсь… решению моей матери, – писал он. – Я бы ни за что на свете не поменялся ни с кем жизнью».
Окажись он в Петербурге раньше, все сложилось бы иначе. Без Придворного оркестра, женитьбы на Марии Ивановне и встречи с Гуро. Звали бы его так же, но это была бы другая судьба.
Цветаева писала, что есть художники с историей и художники без истории: «Первых можно представить, как круг, а вторых, как пущенную стрелу». Иначе говоря, одни самодостаточны, замкнуты на себе, а другие открыты всем ветрам.
Матюшин был «художником с историей». До знакомства с Гуро он уже многое пережил. В отличие от него Елена обошлась без «истории». Главные для нее события происходили на глубине, у мольберта и за письменным столом.
Неслучайно Михаил Васильевич стал не солистом, а музыкантом в оркестре. Он любил шум и разноголосицу. Елена была тишайшая. Представьте, что в большую компанию чудом попало небесное существо. Все перебивают друг друга, а она молчит. Сядет в дальний угол, и весь вечер его не покидает.
Как уже понятно, до поры до времени в жизни Матюшина шума было немного. Если не считать вечно кричащих детей. Казалось, теперь все так и будет: домашние заботы, походы семьей в гости, радость от того, что Коля подрос, а Маша стала вышивать.
Интересно, как это тогда называлось? А что, если тоже текучкой? Мелкие события проходили, как рябь по поверхности, но, по сути, ничего не менялось. Все ограничивалось оркестром, в котором он играл на скрипке, и домом, где он играл с детьми.
Живешь спокойно, хорошо ешь, много спишь, как вдруг все переворачивается. Как говорится, «бес в ребро». Сам себе удивляешься: странно в его возрасте стать художником, но еще рискованней влюбиться в Елену Гуро.
Что-то такое он чувствовал у мольберта. Все вроде получилось, но не хватает акцента. Хотя бы красной капельки в центре холста. Долго не понимаешь, зачем она нужна, а потом смотришь: а ведь это точка! Не в том смысле, в котором запятая, а в том, в котором незаконченное становится целым.
О свойствах зрения
Есть практики, а есть теоретики. В Матюшине это соединялось. По крайней мере, его теории были не бесплодны. Каждый раз это был повод для новых картин.
Для Серебряного века в этом нет ничего необычного. Сколько раз в эту эпоху сперва возникало предположение, а затем все происходило как по писаному.
Рассказывая о разговоре Гуро с Блоком, Михаил Васильевич написал, что поэт «не мог долго оторваться от Лены». Такая же мера внимания и погружения, с его точки зрения, отличала других гениев. Бетховен «сливался… с воздухом, ветром», а Лермонтов «напитывается… пространством».
Если ты отдаешь себя кому-то или чему-то другому, то какое может быть ячество? Вот чем Матюшин отличался от друзей-футуристов. Художник для него – это тот, кто способен отречься от себя.
Хорошо, что великие с ним заодно. Смотрят в оба, впитывают, проникают… Как бы он радовался, если бы его позиции разделяли не только люди с портретов, но и кто-то близкий.
Наконец это произошло. Матюшин открыл дверь в учебную мастерскую и увидел маленькую тихую барышню. Он бы прошел мимо, если бы не ее глаза. Она не просто смотрела, а превращалась в предмет своего интереса. Присваивала его своим зрением.
Вспоминаю, как я впервые ее увидел, «нашел» ее, – рассказывает Матюшин. – В тот день работающих было мало, и вдруг я увидел маленькое существо самой скромной внешности. Лицо ее было незабываемо. Елена Гуро рисовала «гения» (с гипса). Я еще никогда не видел такого соединения творящего с изображаемым. В ее лице был вихрь напряжения, оно сияло чистотой отданности искусству. Закрывая дверь, я мысленно порицал себя за то, что не сразу обратил на нее внимание. С тех пор я постоянно наблюдал за ней и всегда поражался напряжению ее ищущих глаз.
Что это было? Наверное, «любовь с первого взгляда». На сей раз это не преувеличение и метафора, а ровно то, что случилось. Она смотрела – и этот взгляд решил все.
Матюшин тоже глядел во все глаза. Гуро поглощала «гения», а он не отводил взгляд от незнакомой девушки. В эту минуту они уже были вместе. Все, что случится после, к этому ощущению прилагалось.
Помните, как в знаменитом романе? «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» С этого момента для него закончилась спокойная жизнь. Только что он не строил никаких планов, а вдруг понял, что выхода у него нет.
Случившемуся Матюшин дважды подвел итог. В дневнике он написал, что ее дар проникаться увиденным имеет отношение не только к искусству. «Это было золото моей жизни, мой сладкий сон, мои единые мечты всей моей жизни, и я этого не знал еще тогда. Эту прелестную мечту сменила чувственная». Последняя фраза в этой записи подчеркнута жирной чертой.
Второе объяснение более сложное. Чтобы это событие стало понятней, ему пришлось придумать новую меру времени:
В моей биографии лежит совершенно новое понятие о встрече художника с чем-либо, впервые поражающем его воображение, – писал он. – Эти моменты, останавливающие целиком на себе внимание художника, я называю «шоками».
Значит, судьба движется невидимыми посторонним событиями? О том, что с ним произошло, пока не знала даже Елена. Ведь он с ней еще не познакомился. Да и потом долго наблюдал издалека.
Позже Матюшин увидит ее рисунки и прочтет рассказы. Впрочем, это было уже не так важно. Та, кто так смотрит, непременно создаст что-то значительное. Возможно, она сравнится с теми, кому дано «сливаться… с воздухом» и «напитываться… пространством».
Сейчас самое время перевести взгляд от Елены на Марию. Как сказано, первая жена была добрая и хозяйственная, но зрение имела обычное. Чрезмерная пристальность хорошей хозяйке вредна. Если она будет вглядываться, то ничего не успеет.
Михаил Васильевич уважал Марию за преданность и корил за то, что, кроме дома, ее ничто не интересует. Представьте, она не знает о четвертом измерении! Впрочем, зачем ей четвертое, когда столько сил уходит на первые три?
Со временем его теория оформилась. В ее основании лежали «взгляд» и «шок». С помощью этих понятий объяснялись не только любовь и обретение, но суть нового искусства.
От мыслей о взгляде – прямой путь к «расширенному смотрению». Эта идея предполагала, что художник видит все. То, что впереди, сзади, слева и справа. На его холстах мир предстает разъятым – и собирающимся воедино. Что-то такое делает «шок» в судьбе человека. Он приводит к разрушениям – и просветлениям, переворачивает жизнь – и вносит в нее смысл.
Сосредоточенность и рассеянность, поражение и победа
Матюшин столько размышлял на эти темы, – и вдруг читает, что «видимый мир… представляет собой нечто весьма малое, быть может, даже несуществующее по сравнению с огромным невидимым миром». Выходит, незнакомый ему Петр Успенский прочел его мысли? Скорее, похожие идеи приходят в голову сразу нескольким людям.
Наверное, кто-то из них был первым, но это не так важно. Главное, что теперь каждый не сам по себе.
Представляешь, как московский философ Петр Успенский едет из Москвы в Петербург. За чаем с пирогами они спорят о том, чего вроде нет, а на самом деле есть. Пытаются навести мосты между «четвертым измерением» и «расширенным смотрением».
К этим терминам мы еще вернемся, а пока упомянем, что у художника есть преимущество перед философом. То, о чем один догадывается, другой может увидеть и нарисовать. Для большей ясности Матюшин придумал термин «метапредмет». Так именуется «сверхтело, растущее в пространстве другого измерения».
Как говорится – два пишем, три в уме. Рисуем относящееся к трем измерениям, но подразумеваем четвертое. Так что не обманемся сходством. Предмет может быть похож на настоящий, но он уже принадлежит искусству, а значит, в реальности его нет.
Матюшин был куда ближе к материальному, чем Гуро. Он ездил на мотоцикле, умел столярничать. При этом понимал, что не всякий вопрос должен иметь ответ. В этом отличие школьной задачки от того, что можно назвать метазагадкой.
Если есть «метапредмет» и «метазагадка», то есть и «метавзгляд». Одни смотрят, другие уясняют. Видят не первое, не второе, а последнее. Поэтому отношения Елены с бытом не складывались. Ведь для того чтобы понять главное, все прочее следует пропустить.
Особенно досаждало Гуро железное и стеклянное. Прямо никакой управы! Посуда предательски билась, часы терялись, а затем обнаруживались в самых неожиданных местах.
Почему-то вспоминаются лебеди. На земле они забавно переваливаются и вытягивают шеи. Взмах крыльев делает их красавцами и покорителями стихии.
Так, Елена за работой чувствовала себя уверенно, а в жизни терялась. Увлечется ползущим жуком и забудет, о чем думала. Или настолько уйдет в свои мысли, что ничто другое ее не будет интересовать.
Ее подруга Ольга не без пристрастности отмечала такие промахи. При этом не забывала сказать, что все могло закончиться совсем плохо, если бы ее не было рядом.
Подымаясь на дюну, я увидела под ветвистой сосной Елену Гуро, в белом платье и полотняном картузике с большим козырьком. Она то опускалась на колени, то вставала, медленно делала несколько шагов, стараясь разглядеть что-то.
«Что она тут колдует?» – подумала я.
Гуро направилась ко мне.
– Опять ключ потеряла. Вечно со мной так получается! Давно уже ищу и, должно быть, только глубже в песок заталкиваю. У тебя, Олли, глаза зоркие. Поищи, пожалуйста.
Гуро назвала подругу лучиком. Так и видишь, как лучик перескакивает с одного на другое и находит то, что искал. На сей раз это не понадобилось. Ключ висел у нее на шее, да еще подпрыгивал при каждом шаге, словно говорил: «Я здесь!»
Другой случай еще выразительней. Как-то Елена опрокинула чашку с кофе. Любая хозяйка пошла бы за тряпкой, а она замерла, как перед начатым холстом. Потом изменила пальцем контур лужицы. Всего несколько уточнений – и темное пятно превратилось в картину.
Посмотри, Мика, вот мостик, а здесь – цветущая яблоня, – передает ее слова Ольга. – А это длинноногий рыцарь, он собирается вскочить на коня!
Скатерть отправили в стирку, а значит, лужа недолго имела отношение к искусству. Вряд ли это огорчило Гуро. Даже на минуту заглянуть в вечность – это, согласитесь, немало.
Вообще к вещам она была снисходительна. Сейчас они валятся из рук, а потом проявят радушие. Чуть ли не поприветствуют того, кому они интересны. Именно так повел себя серебряный крестик. Его уже считали потерянным, как вдруг, по словам одной знакомой Елены, он «…спрыгивает с высоты гардеробного шкафа… и падает почти к моим ногам».
Громозова верила в причинно-следственные связи, в то, что называют петелькой-крючочком, а выходит, есть иная логика. Такие мысли она выбрасывала из головы. Если о чем-то не думать, может показаться, что этого нет.
Летом на природе вообще не до размышлений. Тяжелая одежда отправлена на антресоли и заменена на легкие сарафаны. Всякая серьезность вызывает смешки. Впрочем, один поступок был явно не по погоде. Казалось, бедная девушка из провинции что-то доказывает пресыщенной генеральской дочке.
Дело в том, что стирала Ольга. Сама вызвалась это сделать. Сперва хозяева не придали этому значения, а когда поняли, что это не просто так, скатерть сушилась во дворе.
Громозова хотела показать Елене, чем они отличаются друг от друга. В то время как одна придумывает и воображает, другая спасает от ее фантазий их семейный быт.
Другие черты Елены
Ко всему прочему прибавим ребячливость Гуро. Хотя она была на восемь лет старше Ольги, но в этом союзе чувствовала себя младшей.
Как Елена реагировала на поучения подруги? Казалось бы, ей следует посмотреть «словно с другого берега», но она терялась и опускала глаза.
Да и что ей было сказать? Вот на бумаге она могла быть откровенной. Особенно если писала от другого – да еще мужского – лица.
Я очень даже неловок, я – трус. Я вчера испугался человека, которого не уважаю. Я из трусости не могу выучиться на велосипеде… Я вчера доброй даме, которая дала мне молока и бисквитов, не решился признаться, что я – пишу декадентские стихи, из мучительного страха, – что она спросит меня, где меня печатают? И вот сказал, что главное призванье моей жизни с увлеченьем давать уроки. Сегодня я от стыда и раскаяния – колочу себя…
Примечателен список опасностей. От детских (боюсь учиться ездить на велосипеде) до еще более детских (стихи пишу, но не признаюсь, что их не печатают). Не случайно в этот ряд попали бисквиты. Если ребенку дать что-то вкусное, он забывает о своих страхах.
Елена всегда занимала сторону маленьких. Да и она сама, как уже сказано, не очень от них отличалась. Взрослые в ее рассказах – это те, кто сам не фантазирует и не советует это делать другим.
– Ах, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Дон Кихота не было никогда.
– А зачем же написали книжечку тогда? Мама, неужели в книжечке налгали?
– Ты мешаешь мне шить, пошла спать.
– Если книжка лжет, значит, книжка злая. Доброму Дон Кихоту худо в ней.
А он стал живой, он ко мне приходил вчера, сел на кроватку, повздыхал и ушел…
Был такой длинный, едва ногами плел…
– Леля, смотри, я тебя накажу, я не терплю бессвязную болтовню.
То, что Леля и есть Елена, подтверждает другой рассказ. В нем все это она повторила от своего имени. Различия незначительные. Тут – «ногами плел», а там – «дрыгал». Еще не пропустим слово «несомненно». Все, что говорит юная упрямица, оно вмещает в себя.
Несомненно, когда рыцарь печального образа летел с крыла мельницы – он очень обидно и унизительно дрыгал ногами в воздухе и когда упал и разбился, – был очень одинок.
Не зря «хитроумный идальго» стал героем Гуро. Оба не скрывали и даже демонстрировали свои странности. Легко представить, как рыцарь ищет ключи или разливает кофе. Не потому ли его – длинноногого, как журавль, – она увидела в луже на столе?
Вообще «журавль» и «Дон Кихот» – любимые герои Гуро и Матюшина. Возможно даже, это один персонаж. Так что издательство могло быть названо не в честь птицы, а в честь странствующего рыцаря.
Остается понять, почему «плел» она заменила на «дрыгал». Это объясняет сюита Матюшина «Дон Кихот». В ней нет плетения и ровной вязи, а есть синкопы и контрасты. Прямо-таки видишь рыцаря – он движется не плавно, а резко, не робко, а победительно.
Прежде говорилось, что между рассеянностью и сосредоточенностью нет противоречия. Затем мы увидели связь между странностью и вызовом, поражением и победой. Сделав эти выводы, перейдем к следующей главе.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе