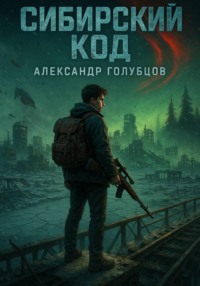Читать книгу: «Сибирский код», страница 2
«Спасибо, Денис», – прошептал я про себя и уже хотел сложить всё в рюкзак, как заметил на задней стенке шкафа клочок изоленты, под которым что-то было расчерчено маркером:
«42 → Δ t = 3 ч.
CRYO-S = 10 мин ↓ 90 %
ULTRA 40 кГц = шок 30-45 с.
На исходе – СЕВЕР».
Кто и когда оставил эту заметку, я не знал, но цифры быстро улеглись в голове: десять минут крио-спрея дают выигрыш; сорок килогерц – шанс на бегство.
Я успел только защёлкнуть пластиковые фиксаторы на крышке рюкзака, как где-то за стеллажами снова клацнул металл. На этот раз звук был слишком размеренным, чтобы списать на ветхие полки.
Выключив фонарь, я присел, стараясь дышать бесшумно. В проёме между рядами, сквозь стробящее свечение ламп, медленно проплыло чьё-то тело. Белый халат тянулся по полу, рука беспорядочно скребла по коробкам, будто ощупывала пространство.
Тот самый лаборант? Нет… Силуэт был выше, плечи шире.
Тень остановилась перед шкафом в трёх метрах. Шаг. Ещё шаг. Под вспышкой лампы стало видно лицо: кожа будто покрылась тонкой чёрной лаковой плёнкой, глаза расплавились в одно сплошное тёмное зеркало. Существо наклонило голову, втянуло воздух – и резко дёрнулось, заметив меня.
«Сейчас или никогда». Я вдавил большую красную кнопку на цилиндре.
Генератор «Сапсан» взвыл тонко, как комар у самого уха. Пространство содрогнулось невидимой волной; лампы над головой начали трещать, одна вспыхнула и погасла. Тварь выгнула спину дугой, как кукла на сломанных шарнирах, а затем рухнула на колени. Изо рта потекла густая чёрная слюна.
Тридцать… сорок пять секунд, если верить записям и наступит шок. Я отступал к запасному выходу, не убирая палец с кнопки. На сорок первой секунде тварь сорвалась в истеричный скрип, поднялась, мечась, – тогда решил хлестнуть по ней крио-спреем. Достав второй аппарат из коробки, я немедленно нажал на спусковой механизм и белый поток окутал тварь. Иней мгновенно затянул плечо, шея покрылась белым слоем реагента, чернота потрескалась, как охлажденное стекло под кипятком.
Мутант беззвучно открыл рот – и упал, как тяжёлый мешок на бетон.
Я не стал ждать. Моментально рванул к запасному выходу, выскочил на промозглый двор. Воздух здесь, казалось, уже был другим: холоднее, резче. Падал мелкий ледяной дождь, подсвеченный отблесками пожара у главного корпуса. В небе кружили вертолёты МЧС, надрезая тучи прожекторами. На горизонте, где-то в районе МКАД, клубился широкий оранжевый пояс – будто город пытались обхватить пламенем, чтобы отсечь от остальной страны.
Склонившись под тяжестью рюкзака, я проскользнул к стоянке служебных авто. К моему удивлению, старенький «Патриот» академической группы стоял с открытым багажником, фары моргали в режиме «аварийной остановки».
Я быстро закрыл багажник и сел за руль.
Двигатель завёлся с первого раза. Выезжая со стоянки, я шарахнулся, когда в зеркале заднего вида мелькнула поросшая инеем фигура – та, что ещё секунду назад лежала, как мне казалось, мёртвой у склада.
Двигатель «Патриота» ревел, как загнанный зверь, когда я выруливал на пустынную трассу. В зеркале лабораторный корпус превращался в черный силуэт на фоне багрового заката. Там, где еще час назад кипела жизнь, теперь полыхали пожары.
Я нажал на газ, и колеса взвыли по мокрому асфальту. В голове стучало: «Екатеринбург. 1800 километров. Дядя Игорь. Незабудки из Ботанического сада»
Радио молчало – только шипение пустых частот. Я выдернул антенну и поймал обрывок передачи:
«…всем гражданским транспортным средствам… немедленно… карантинная зона…»
Голос диктора заглушил резкий скрежет. Я рванул руль влево – мимо пронеслась «скорая» с разбитым лобовым стеклом. Она не остановилась, не замедлилась, будто водитель не видел меня. Или не хотел видеть.
Заправка «Газпромнефть» светилась в темноте, как последний островок цивилизации. Я подкатил к свободной колонке, вылез из машины.
Заправился на полный бак. Внутри магазина горел свет, но никого не было видно.
Я зашел внутрь – теплый воздух, запах кофе и чипсов. На кассе сидел мужчина лет сорока в фирменной жилетке.
– Добрый вечер, – сказал я.
Он медленно поднял голову.
– Вечер… – ответил он, растягивая слова.
Я кивнул на пустые полки.
– Народ скупил все?
Он улыбнулся. Слишком широко.
– Нет… просто… не завозят.
Я взял бутылку воды и шоколадку.
– А вы не боитесь? – спросил я, кивая в сторону города, где на горизонте полыхали зарева.
Он задумался, будто вопрос был сложным.
– Бояться? Нет… – он покачал головой. – Все будет… хорошо.
Его глаза блестели странно – слишком влажно, слишком…неестественно
Я протянул деньги. Он взял их, но пальцы его были… холодными.
– Вам сдачи? – спросил он, и в его голосе было что-то… неправильное.
– Нет, спасибо.
Я повернулся к выходу.
– Вы… торопитесь? – его голос остановил меня.
Я обернулся.
Он стоял за кассой, улыбаясь.
– В городе… сейчас интересно. – Он наклонил голову. – Вы не хотите… остаться?
Я почувствовал, как по спине побежали мурашки.
–Нет, мне нужно ехать.
Он кивнул.
–Как скажете…
Я вышел на улицу. За спиной раздался звук – будто что-то упало.
Я обернулся.
Он стоял у витрины, смотрел на меня. И не моргал. Совсем.
Я сел в машину, завел двигатель.
В зеркале заднего вида он все еще стоял там, у витрины. Смотрел. И улыбался.
«Ну и жуть…» – подумал я и нажал на педаль газа. Отправишься в путь до Екатеринбурга.
Блокпост возник внезапно – сначала просто свет фар вдалеке, потом резкие тени бетонных блоков, перекрывающих два ряда из трех. «Патриот» замедлился, колеса зашуршали по разлитому на асфальте антисептику. В воздухе стоял едкий запах хлорки, смешанный с чем-то сладковатым – как в морге.
Три солдата в защитных костюмах ОЗК, больше похожих на скафандры, подняли автоматы. Четвертый, с рацией на плече, сделал жест «стоп». Его противогаз был забрызган чем-то темным.
Я опустил стекло на пять сантиметров – ровно настолько, чтобы слышать друг друга.
– Документы! – голос из-под противогаза звучал хрипло. – Быстро!
Рука в резиновой перчатке схватила мой паспорт. Солдат повернул его к ультрафиолетовому фонарю – проверяли на подлинность. За его спиной двое других обходили машину, тыкая щупами в колесные арки, заглядывая в багажник через стекло.
– Из Москвы? – спросил командир, тыкая пальцем в прописку. – Почему не в карантинной зоне?
– Командировка. В НИИ вирусологии в Екатеринбурге.
Он что-то пробормотал в рацию. Из будки вышел еще один военный – без противогаза, но с красной повязкой «Врач» на рукаве. Его лицо было серым от усталости.
– Температуру мерили? – спросил он, доставая бесконтактный термометр.
– Нет симптомов?
Термометр пискнул. Врач посмотрел показания, кивнул командиру. Тот недоверчиво скосил глаза:
– Почему один? По приказу все перемещения группами.
– Коллеги… – я сделал паузу, – не прошли медконтроль вчера.
Врач вдруг резко закашлял, отвернулся. Когда он вытер рот, на рукаве осталось темное пятно. Командир нервно дернул плечом.
– Ладно… – он протянул мне документы, – но вас отметили. Через 200 км будет еще один пост – скажите, что с КПП-43 все чисто.
В этот момент сзади раздался душераздирающий крик. Один из проверяющих солдат упал на асфальт, и стал биться в судорогах. Из-под его противогаза появилась черная пена.
– Тревога! Карантин! – заорал командир, хватая автомат.
Я ударил по газу, пока они не опомнились. «Патриот» рванул вперед, сбивая пластиковую стойку. В зеркале осталась сюрреалистичная картина – солдаты в ОЗК бегут кто куда, один стреляет в воздух, врач стоит на коленях, держась за горло…
Трасса пуста. Только иногда попадаются брошенные машины с открытыми дверями. В одной, метрах в ста впереди, мигает аварийка. Когда проезжаю мимо – вижу: женщина сидит за рулем, склонившись на подушку. Кажется, спит. Но потом замечаю – ее шея вывернута под невозможным углом.
Навигатор молчит – все вышки связи отключены. Только бумажная карта на пассажирском сиденье, испещренная пометками Кристины. Она всегда смеялась над моей привычкой к бумажным носителям…
Где-то за поворотом вспыхнуло зарево. Еще один горящий населенный пункт. Я прибавил скорость. В голове стучит: «1800 километров до Екатеринбурга. А дальше что-нибудь придумаю»
Бензина хватит до следующей заправки. Если она еще будет работать. Если там еще будут люди. Настоящие люди.
А пока «Патриот» катился вперед по пустой трассе, увозя меня от ада, в котором, возможно, уже нет ничего человеческого.
Глава 2 : Пробуждение
Термостат издал резкий сигнал тревоги. Я оторвалась от микроскопа, мгновенно ощутив липкий холодный пот на спине. Дисплей показывал -10°C, хотя система должна была поддерживать стабильные -18°C. Восьмиградусное отклонение за несколько минут – такого не случалось за все три года работы станции.
– Семён, ты что-то менял? – голос звучал резче, чем я планировала.
Он резко поднял голову от спектрометра, его пальцы замерли над клавиатурой:
– Нет. Но посмотри на это.
Монитор демонстрировал пугающую картину. Образец XM-42, извлеченный из керна возрастом 28 000 лет, вел себя как живой организм после электрошока. Микроорганизмы выстраивались в геометрически точные структуры, их движения напоминали не хаотичное броуновское движение, а слаженный танец.
Моя рука автоматически потянулась к телефону. Марк, со своим инженерным складом ума, сразу бы заметил неестественную упорядоченность этих образований. Они удивительным образом повторяли паттерны его последних работ по биосенсорам.
Но экран телефона оставался черным. Спутниковая связь не работала уже 48 часов – «плановые технические работы», как объяснили нам утром. Слишком удобное совпадение.
Мои пальцы сжали холодный корпус телефона так же, как тогда, полгода назад, когда я впервые показала Марку аномалии в поведении XM-42. Он сидел на своем любимом диване, том самом с вытертой обивкой, и строил смешные гипотезы:
«– Давай представим, что твои археи – это древние биокомпьютеры, – его глаза весело блестели. – Они запрограммированы на: «ЕСЛИ температура> -10°C, ТО начать сборку нано механизмов апокалипсиса». Простейший алгоритм.
– Очень научно, – фыркнула я, швыряя в него диванной подушкой. – А если без шуток?
Марк неожиданно стал серьезным, по-медвежьи переваливаясь ко мне:
– Без шуток? Если это действительно запрограммированное поведение, то кто-то оставил нам послание в вечной мерзлоте. Вроде «вскрыть в случае глобального потепления».
Мы тогда долго смеялись над этой абсурдной идеей…»
Смех застрял у меня в горле, когда Семён переключил экран на спектрограмму.
– Крис, смотри, – его голос дрожал. – Частотный отклик – 42 кГц. Точь-в-точь как в твоих первых экспериментах, но…
Спектрограмма пульсировала на экране, демонстрируя четкий резонансный пик на частоте 42 кГц. Мои пальцы автоматически потянулись к лабораторному журналу, где год назад я записала: «Резонансная частота XM-42 – 42±0.5 кГц. Возможен пьезоэлектрический эффект в клеточных мембранах».
– Это не просто совпадение, – прошептала я. – Они настроены именно на эту частоту. Как кварцевый резонатор.
Семён нервно провел рукой по лицу:
– Но археи не могут обладать пьезоэлектрическими свойствами. Это противоречит всем известным…
– Всем известным нам биологическим принципам, – перебила я. – Но если предположить, что их мембраны содержат упорядоченные структуры из биоминералов…
Внезапно все приборы в лаборатории одновременно завибрировали. На экране микроскопа изображение дрогнуло, и я увидела нечто невозможное – микроорганизмы начали выстраиваться в сложные фрактальные узоры.
Фрактальные узоры росли на глазах, словно кто-то крутил ручку ускоренной съёмки. Я поймала себя на том же чувстве, которое испытываешь, когда длинная-длинная теория вдруг складывается в идеальное уравнение: восторг, перемешанный с первобытным страхом.
Семён тяжело сглотнул.
– Крис, они синхронизируются. Видишь? Каждые семь секунд – вспышка пика и полное повторение рисунка, будто…
– …будто тактовый импульс, – закончила я. В ушах звенел собственный пульс. – Значит, они не просто реагируют на среду, они обмениваются данными.
Термостат пискнул снова. Температура уже минус 8. Я ударила ладонью по аварийной кнопке охлаждения – компрессор заурчал, но через пару секунд захрипел и замолк. На дисплее промелькнуло «ОШИБКА 42».
– Как вовремя, – процедила я сквозь зубы и полезла под стол к резервной системе хладагента. Шланги дрожали в такт тому же семисекундному ритму, будто сами стали частью их танца.
В коридоре хлопнула дверь, и кто-то закричал. Глухо, как из подвала. Мой мозг услужливо подкинул картинку: лаборатория Петрова в Москве, чёрная жидкость на полу. Я встряхнула головой – не время.
Пока я ругалась, из коридора донёсся кашель – мокрый, рваный. Рыжий техник Лёша шагал, держась за стену, на шее расползалось чёрно-бордовое пятно. Улыбка у него получалась кривой, будто мышцы не слушались. Вторая стадия заражения – шесть часов после контакта, всё подтверждается.
Лёша шагнул в лабораторию, и дверь захлопнулась за ним с глухим стуком. Его глаза – обычно веселые, чуть косящие от постоянного вглядывания в приборы – теперь казались стеклянными, слишком влажными.
– Вы… не ответили на вызов, – его голос звучал хрипло, будто горло было забито песком.
Семён инстинктивно отступил к стене, задев спектрометр. Прибор пискнул в ответ, и на экране замерцали цифры – 42.0 кГц.
– Лёш, тебе нужно в медблок— я сделала шаг вперед, стараясь держать голос ровным. Ты выглядишь… нехорошо.
Он покачал головой, и в этот момент свет в лаборатории мигнул. На долю секунды я увидела его шею – черные прожилки под кожей пульсировали в такт тем же семисекундным импульсам, что показывал наш спектрометр.
– Они… зовут, – прошептал он и вдруг резко кашлянул. На ладонь брызнула черная жидкость.
Семён схватил со стола пробирку с образцом и швырнул её в Лёшу. Стекло разбилось о его грудь, и на мгновение он замер, как будто удивленный.
– Бежим! – Семён рванул меня к запасному выходу.
План станции «Вега» висел на стене в коридоре – красным кружком было отмечено наше местоположение, синей линией – путь к выходу. Но синяя линия вела через центральный зал, где обычно собиралась вся смена, выяснять кто заразился или нет, мы точно не хотели.Мы выскочили в коридор, и тут же за спиной раздался звук – не крик, не рык, а что-то среднее, словно рвется металл. Я не обернулась.
– Через склад, – прошептал Семён, тыча пальцем в черный ход, обозначенный пунктиром. Там аварийный шлюз.
Мы побежали по узкому коридору, мимо дверей с табличками «ОПАСНО – РАДИАЦИЯ» и «ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ – ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА». Где-то сзади, в темноте, что-то тяжело дышало.
Склад встретил нас холодом. Металлические стеллажи, заставленные ящиками с пробами, уходили в темноту. В углу стоял аварийный шкаф с противогазами и скафандрами.
– Надо взять хотя бы маски, – я потянулась к шкафу.
– Нет времени! – Семён уже дергал ручку аварийного выхода.
Дверь не поддавалась.
– Заело…– он ударил по металлу кулаком.
В этот момент сзади раздался скрежет. Я медленно обернулась.
Лёша стоял в проеме двери. Но это был уже не Лёша.
Его шея неестественно вытянулась, пальцы скрючились, будто кости внутри стали мягкими. Изо рта капала черная жидкость.
– Они… хотят… вас… понять, – его голос звучал так, словно кто-то настраивал радио, ловя нужную частоту.
Семён рванул ручку аварийного выхода снова, дверь с скрипом поддалась. Ледяной ветер ворвался в помещение, завывая в узком коридоре.
– Беги! – крикнул он, толкая меня вперёд.
Мы вывалились наружу, в слепящую метель. Температура за бортом – минус сорок. Но сейчас это было нашим спасением.
Лёша не последовал за нами. Он замер в дверном проёме, его пальцы судорожно сжимали косяк, словно невидимая сила не пускала его дальше. Холод останавливал заражение.
– Они… не отпустят…– его голос оборвался, когда Семён захлопнул дверь.
Мы побежали по снежной целине, ноги проваливались в сугробы. Станция «Вега» оставалась позади, её огни мерцали сквозь снежную пелену.
– Куда?! – крикнула я, едва переводя дыхание.
– К ангару! Там рация!
Но мы не успели.
Над нами с рёвом пронёсся вертолёт, осветив прожекторами снежное поле. Через секунду ещё один. Военные.
Мы застыли, ослеплённые лучами прожекторов. Вертолёты – тяжёлые «Ми-8» с опознавательными знаками МО РФ – зависли над нами, снежная пыль взметалась в воздух, обжигая лицо. Вертолеты начали снижаться, по спусковым канатам отправились вниз первые солдаты.
– Не двигаться! – раздался голос через громкоговоритель.
Семён схватил меня за руку, но было уже поздно. По снегу бежали люди в защитных костюмах, с автоматами наизготовку. Их движения были чёткими, профессиональными – не то, что у заражённых.
– Доктор Кристина Валерьевна Львова? – один из военных, судя по погонам, офицер, шагнул вперёд. Его голос звучал сквозь противогаз механически.
Я кивнула, слишком ошеломлённая, чтобы говорить.
– Семён Игоревич Гуров?
– Да, – прохрипел Семён, всё ещё сжимая мою руку.
Офицер что-то сказал в рацию, затем резко махнул рукой:
– С вами будут разбираться на месте. Быстро в вертолёт.
Нас буквально втолкнули внутрь. В салоне пахло топливом и металлом. Двое солдат в полной экипировке – не просто противогазы, а герметичные костюмы с системой фильтрации – пристально наблюдали за нами.
– Что происходит? – спросила я, но мои слова потонули в рёве двигателей.
Вертолёт резко рванул вверх. Через иллюминатор я увидела, как станция «Вега» – наш дом последние полгода – уменьшалась, превращаясь в крошечную точку среди бескрайней снежной пустыни. В это время мы заметили еще две вертушки, предположительно Ка-52, пронесшихся мимо нас, а затем над тем местом, где пару секунд назад еще был наш исследовательский центр, возник огромный взрыв.
Через 40 минут полёта. Семён дремал, склонив голову на грудь. Я же не могла оторвать глаз от карты, которую один из военных разложил на коленях.
Маршрут: Красноярский край → Чукотка.
Почему Чукотка? Что там такого, что нас нужно было вывозить именно туда?
Офицер, сидевший напротив, заметил мой взгляд.
– Вы что-то хотели спросить? – его голос сквозь противогаз звучал глухо.
– Да. Почему именно нас эвакуируют? И причем здесь Чукотка?
Он обменялся взглядом с сослуживцем, затем медленно снял противогаз.
Лицо у него было жёстким, с глубокими морщинами вокруг глаз – человек, который слишком многое видел.
– Пришел приказ, эвакуировать докторов Львову К. В. и Гурова С.И. в связи с их работой над «ХМ-42». А Чукотка, потому что там холодно, доктор.
– Что?
– Температура ниже -30°C. Там оно не выживает.
– Оно, вы имеете ввиду «ХМ-42»?
Он не ответил. Вместо этого достал планшет, включил экран и протянул мне.
На видео – кадры с камер наблюдения. Лаборатория в Красноярске. Люди в белых халатах, затем… что-то пошло не так.
– Это было три дня назад, – сказал офицер. – Первая вспышка.
Я смотрела, как люди на экране начинали дергаться, их движения становились неестественно плавными. Один из лаборантов упал, его тело скрючилось, а затем… выпрямилось. Слишком плавно. Слишком правильно.
– Они меняются, – прошептал офицер. – Им нужно всего шесть часов.
– Но почему Чукотка, разве мало мест, где есть стабильная отрицательная температура? – настаивала я.
– Потому что там есть объект «Мороз». Подземный комплекс, построенный ещё в СССР. Там есть все необходимое оборудование и система полного цикла фильтрации, так же там есть определенные активы, которые хранятся там уже довольно давно.
– Какой еще объект «Мороз», какие активы?
Он снова замолчал, но его взгляд говорил сам за себя.
Они знали. Они знали об этом давно.
Гул двигателей заглушал мысли, но они всё равно лезли в голову, как те самые чёрные прожилки под кожей Лёши.
Зачем они уничтожили «Вегу»?
Я видела это через иллюминатор – яркую вспышку, затем чёрный дым, поднимающийся из-под купола главного корпуса. Никакой эвакуации остальных. Никаких попыток спасти хоть кого-то. Просто стереть с лица земли.
Значит, мы – исключение. Значит, мы им нужны.
Я сжала кулаки, стараясь не думать о Лёше. О его глазах. О том, как он сказал: «Они хотят вас понять».
Что, если это не просто заражение? Что, если это что-то большее?
Семён дремал рядом, его дыхание было неровным. Он тоже видел это. Видел, как Лёша изменился за секунды.
А ещё… Я посмотрела на свои руки. Чистые. Пока.
Но если XM-42 действительно способен перестраивать ДНК… Сколько времени у меня есть?
Вертолёт тряхнуло, и я вздрогнула. Впереди, сквозь снежную пелену, начали проступать очертания земли.
Я прильнула к заиндевевшему иллюминатору, протерла его рукавом. Сначала ничего не было видно – только белая мгла полярной ночи, прорезаемая редкими сполохами северного сияния. Затем проступили очертания земли: зубчатые скалы, покрытые ледяной коркой, и бескрайняя тундра, укутанная в снежные дюны.
Но самое жуткое было впереди.
Из снежной пелены медленно вырастал силуэт объекта «Мороз» – гигантская бетонная плита, вросшая в склон сопки. Десятки антенн и радаров торчали под неестественными углами, как мёртвые ветви. По периметру – двойной ряд колючей проволоки с красными табличками «ОПАСНАЯ ЗОНА».
– Готовьтесь к посадке, – рявкнул офицер, снова надевая противогаз.
Вертолёт резко накренился, и я увидела её – огромную шахту лифта, уходящую прямо в толщу горы. Стальные двери с гидравлическими замками были раскрыты, изнутри лился ядовито-зелёный свет. Возле входа стояли фигуры в защитных костюмах – невообразимо громоздких, с системами шлангов и фильтров.
Как в тех старых фильмах про биологические войны…
Мы приземлились с глухим ударом. Лопасти ещё не остановились, когда к вертолёту уже бежали люди с дозиметрами и прожекторами.
– Выходите! Быстро!
Холод ударил в лицо, как нож. Минус пятьдесят, если не больше. Дыхание мгновенно превращалось в ледяную пыль. Я автоматически подняла воротник, но это не помогло – мороз пробирал до костей.
– Двигайтесь к шахте! – рявкнул откуда-то строгий голос.
Спуск занял порядка 5 минут, глубоко же мы забрались. Не успели двери лифта полностью открыться, как нас встретили двое в арктических комбинезонах.Нас подхватили под руки и почти понесли по ледяной тропе. Под ногами хрустел не снег – какая-то странная крупа, похожая на гранулы сухого льда.
– Доктор Львова? – произнес один из них. Я кивнула. – Следуйте за мной!
База выглядела… обычной. Слишком обычной для сверхсекретного объекта. Те же серые бетонные стены, те же плафоны с жёлтым светом, что и на «Веге». Только везде висели таблички «Зона А – только для персонала 1 категории».
Нас провели по длинному коридору в медицинский блок. Белая комната с кварцевой лампой, столом для осмотра и различными типами оборудования, признаюсь, некоторые я видела в первый раз.
– Раздевайтесь до белья, – сказала женщина в халате. – Полный медосмотр.
Она работала быстро и профессионально: взяла кровь, проверила зрачки, прослушала лёгкие. Особенно тщательно осмотрела шею – видимо, искала те самые чёрные прожилки.
– Чисто, – наконец сказала она. – Но на карантин всё равно отправитесь.
– Сколько продлится наблюдение? – спросила я, застёгивая молнию комбинезона.
– Двое суток минимум. Затем как решит Научный комитет объекта, – пожала она плечами. – А теперь, доктора, пройдёмте.
Коридор вёл к прозрачному туннелю-галерее. Под ногами скрипел толстый акрил, а под ним – ещё один ярус станции: ряд цилиндрических крио камер, каждая величиной с железнодорожный цистерновоз. Внутри мерцал голубоватый иней, будто под нами спал целый ледяной город.
– Это «холодный чердак», – пояснил сопровождающий офицер. – Резервные бункеры с жидким азотом и сектором хранения образца «Ноль».
– У XM-42 есть ещё и «Ноль»? – подался вперёд Семён.
– «Ноль» – материнская колония из керна глубиной 762 метра, – вмешалась женский голос. Из бокового шлюза вышла невысокая женщина лет пятидесяти в очках с толстыми линзами. – Профессор Зорина, заведую научным блоком. Радиационно-изотопное датирование дало возраст 34 310 лет. Всё, что гуляет сейчас по материковому поясу, – лишь осколки исходного штамма.
Мы перешли в конференц-зал. На экране вращалась 3-D модель XM-42: окаменелая клеточная оболочка, внутри которой беспорядочно мигали цепочки РНК.
– Классическую классификацию «живое / неживое» придётся выбросить, – начала Зорина, щёлкнув лазерной указкой. – Эта штука ведёт себя как вирус, думает, как колония бактерий и конструирует белки с точностью промышленного 3-D принтера. Самое пугающее – наличие «триггера-обратки»: когда концентрация носителей растёт выше критической, возбудитель запускает экспоненциальную рекомбинацию и … втягивает новые организмы в единый мета симбиоз.
– Коллективный разум, – прошептал Семён.
– Если угодно, да. Мы прозвали его «Рой».
Свет погас, и на стене загорелась карта России. Красные круги сияли над Красноярском, Томском, Иркутском, столицей. Один из кругов подпрыгнул и стал пульсировать.
– Это Москва… – выдохнула я.
– Именно. После сегодняшнего вечера рост очагов ускорился втрое. Мы перестали успевать с кордонами. Потому объект «Мороз» переводят в режим «Синхронизация»: здесь концентрируют команды, которые дадут стране время.
На столе автоматически поднялся планшет: «Проект “Снежный Щит”«.
– Нам нужны вы, доктор Львова, – Зорина сняла очки и устремила на меня усталый, но отчаянно живой взгляд. – Ваши ранние записи о пьеза-эффекте и 42 килогерцах – единственная зацепка. Мы строим ультразвуковой «колокол», способный оглушать Рой, пока авиация распыляет крио-аэрозоль. Но модели не сходятся, мы теряем часы.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе