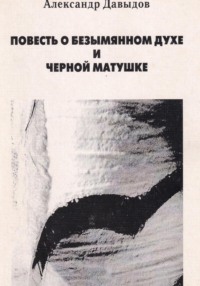Читать книгу: «Повесть о безымянном духе и черной матушке», страница 4
Заглянул я туда как-то. А там, будто котельная – трубы, трубы. Надо земляным червем стать, чтобы втиснуться в жизнь, в нее ввинтиться. Немы мои небеса, не раздастся оттуда голос: встань и иди встреч жизни. А может, ввысь устремлена моя долина, может, она словно карта-черва. Вот ведь кипарис мой верхушкой своей указывает вверх, и устремлены туда же стрельчатые окна моего дворца, а он ведь и есть все мое пространство. Может, мне туда и надо идти – вверх, чтобы выйти встреч жизни?
Спящая дева роняет из рога по капле в глиняную чашу. Что тут значит время? Оно тут – неделимая частица вечности. Но ведь тут вызревает чего-то. Что тут зреет? В долине моей, моем Лимбе?
Ты спрашиваешь меня, кто я, белый ангел. Я – вечность, заключенная в вечность, вмурованная в каждый миг. Я – вечность, заключенная в сердцевину мельчайших частиц пространства. Скажи, кто я, мой белый ангел?
Здесь конец главы двадцать первой. Началась двадцать вторая глава.
Глава 22
Ветер поддувал в днище моего гроба, поскрипывал он на золотых цепочках. Был он тайной мира. Был он от меня тайной. Слову он не поддавался, не был ему подвластен. Только в ритм его качков можно было войти. Ритмом заворожив, приручить тайну.
А тот человек на глазах становился бесплотен. Тот, кто и в своей смерти был телесен, вдруг стал истаивать, как льдинка. Пар от него шел, тянулся к потолку, как сигаретный дымок. И он становился все прозрачней и прозрачней.
И я подумал: а тот, был ли вовсе? Был ли наш странный разговор? Или от своей тоски я его придумал? Ведь как легка грань между бывшим и небывшим! Попробуй отдели то от этого в моей долине, где время стало камнем.
Растаял тот человек, словно льдинка. И я опять стал волен и безымянен.
Тут начала иссякать глава двадцать вторая, но замешкалась и пока не иссякла.
А человек тот истлел, выпал из его руки посох, опала его власяница и легла на землю. Приподнял я ее, а под ней одни кости лежат – нет того человека. Хочу я радости, а вечно вляпываюсь в мертвечину. Хочу так распахнуть веки, чтоб все звездное небо ссыпалось в мои глазницы, но только пустые глазницы черепа распахнуты всегда, только в них обживается природа, только в них живут небеса. Свищут ветры в пустых глазницах черепа, выдувают оттуда время.
Тут конец главе двадцать второй. Началась двадцать третья.
Глава 23
А все-таки скажи мне, ангел, чей сон я приманил? Какого демона или духа растревожил? Ведь тяжела мне моя долина, чужой для меня этот сон. Слова мои для меня невнятны. Фу, какой дрянной сон!
Я знаю, как выпутаться из земного сна, хоть и тяжелого и занудного, но своего. Надо изогнуть свое тело и из него вывинтиться. Разорвать его паутину, как это делает муха. И тогда погибнет надорванный сон. Унесет его вдаль, как облако. Ведь без тебя он беспомощен и хил. Только бы из него вывернуться, как змея выворачивается из своей шкуры.
Но тот сон, о котором я говорю, называется смертью. Он вечен, этот сон и плотен, как камень. Вымышлен он каким-то древним демоном. Он из тех снов, что правят жизнью. Тут уронила спящая дева в фонтан еще капельку.
И я отчего-то позабыл все слова. Одно только слово выпорхнуло из моей груди, как птица. То было слово “грусть”. Вырвалось оно из моей груди, как вздох облегчения.
Сочится грустью моя долина, исходит из нее тоска по смерти и сумеркам. Исходит из нее вожделение к жизни, невесте моей, с которой мы повенчаны.
Распахнуты в моем дворце форточки во все миры. Все их я познал, но не действием, а как запахи. Мне знакомы запахи всех миров. Не пора ли мне прийти в жизнь, в ее оскудевшие вконец пространства, хотя жизнь и стала лупоглазой дурой, а люди все попрятались под могильные холмики.
Если нет уже жизни, то пускай хоть смерть властвует на ее опустевших просторах.
Тут бы и конец двадцать третьей главе. Но нет, я еще сказал: пусть же затеряюсь в пространствах жизни, словно пустоглазый череп в траве. Пусть незабудки прорастут в моих пустых глазницах. Пусть поселится там молчаливое время. Пусть омоет весь мир мои глаза без зрачков. Века будет лежать мой череп, затерянный в разнотравье.
И сказав это, я замолчал, ибо закончилась глава двадцать третья. Началась двадцать четвертая глава.
Глава 24
Тысяча комнат в моем дворце. И все распахнуты. Обошел я все, но себя в них не нашел. Одна только, маленькая, замкнута на замок. Нет у меня от нее ключика. Унес его черный ворон, что сидит на кипарисе и разговаривает с тучами.
В ту комнату сцежены все ночи до единой. Самая их гуща, непроглядный мрак. И когда будет жизнь растрачена до полушки, двери той комнатки сами распахнутся. И все, что там, выйдет в мир сквозь узкие врата. И тогда весь мир станет ни от кого не укрываемый тайной.
Ох, и опостылели мне вечные сумерки. Здесь копится только тоска. Не растекается она – негде ей тут растечься. Все здесь становится плотным, как камень.
Тут белый кипарис снова обернулся ангелом. И он сказал мне: дурень, ты, дурень, вперился ты в свою смерть, вцепился в нее, как собака в кусок мяса. Далась она тебе, дурню. Сам ты сказал, что сны летучи. Так примани из стайки самый легкокрылый.
Выдумал ты, что скрываю я от тебя врата, а у меня их нет вовсе. Тут ангел раскрыл свои ладони и мне протянул. Чисты были ладони ангела, не было на них ранок. Затянулись кожей узкие врата.
И ангел сказал: нет вопроса без ответа. Ответ в нем, как золотая сердцевинка. И вот ты уже по ту сторону врат. Шагая по сумеркам, вышел ты встреч жизни. Сам ты уже стал ангелом. Распахнулся гроб, подвешенный к небу на золотых цепочках. И душа из него выпорхнула, как белая голубка.
Итак, словом “голубка”, закончилась двадцать четвертая глава. Началась двадцать пятая.
Глава 25
И тогда вонзил белый ангел свой меч в землю. А меч был огненный, потому запылала мелкая травка. Закурилась сперва дурящим дымком. А потом занялась, заполыхала.
От нее занялся и гнилой лесок шипел и потрескивал, фыркал еловыми иголками. Вышла из него подпаленная волчица, псиной воняя и паленым волосом. Бросилась она в реку, называемую Забвение, и там навсегда пропала.
Загорелся мой дворец о тысяче комнат. Ух, каким костром заполыхал! Пал красный свет на стены моего Лимба. По низкому его потолку заметалось пламя – то выгорали мои пространства, гроб мой полыхал.
Тут и рухнул дворец, рассыпавшись искрами. Белый кипарис горел к небесам. Ровно горел, без вспышек и сполохов. Вился над ним черный ворон, каркал жутко.
И закипела вода в реке, называемая Забвение. Поднимался пар к потолку, капельками оседал на потолочных балках. А потом капали те капельки наземь, исчезали с шипеньем.
Только фонтанная дева все дремала среди пожарища. Так и роняла воду из гипсового рога. А мое тело сгорело дотла, избавился я от его страстей. Чист стал, как тот ангел, прозрачен, как тот. Мое тело стало из какой-то легкой материи, совсем невесомое. И выросла у меня за спиной пара крыльев.
Не то, чтобы я стал ангелом. Но что-то летучее. Может быть, какой-то демон или дух.
Когда сгорел весь Лимб, превратился в пепелище, тогда воспарили мы с тем, прежним, ангелом, словно пара голубков. Разом обрели небо.
И тут закончилась двадцать пятая глава. Началась двадцать шестая.
Глава 26
В моем Лимбе не было небес. А тут неба-то вдоволь. Тяжел был мой камень – тело тел, куда устремлялась вся сила моя и мысль. А тут сразу стало много неба. И бытие стало легко, и податливы стали пространства.
Как мотыльки, вились мы вокруг пожарища. Пылал подвешенный к небесам кленовый гроб. Раскачивался он на тонких золотых цепочках. Ветер огонь раздувал. И виден тот пожар был отовсюду, изо всех миров.
Догорел гроб и вниз рухнул. Летел он, как огненная комета. Кувыркался он и сыпал искрами. Дрогнула земля, когда он пал на нее. И оказался я свободен, вышедший в узкие врата.
И не обрел я имени. По-прежнему был безымянен, но теперь я был легок. И был я среди податливых пространств. В свежем и необтрепанном мире я очутился. До всего тут было рукой подать, верней, взмахнуть пару раз крыльями. Любое место тут было рядом.
И еще тут витали дети воздуха, тоже легки и безымянны. Так их было много, что не дашь ведь каждому имени. Если и на острие иголки их поместятся мириады.
Так легка была их жизнь, так они все были прозрачны, что, казалось, все равно им – быть или не быть вовсе. Века и века быв камнем, сколько я скопил легкости. А теперь растрачивал ее весело и бездумно. И тут все не истекал единственный век. Но он не залег камнем, а был рассеян в воздухе. Мерцал золотой пыльцой.
Суетливые те существа – мои братцы – вечно двигались, туда-сюда перелетали. Не нашлось для каждого из них имени. Потому не были они пригвождены словом к единственному мигу. Так, летали, порхали, один в другого перетекали, менялись обликами и названиями. Названия ведь были не их суть, а что-то вроде накидки, не лик, а личина. То, что укрывает не раскрывая.
Когда давали имена, все они от дающего попрятались, стали играть с ним в прятки. Попрятались в деревьях, в реках и озерах, в камнях, как я. И потому они остались безымянны. Когда кончились все имена, оставили они убежища и все воспарили в небо. И вот я среди них парю.
И ангел мой рядом, но оставил он свой огненный меч и потому стал от других неотличим. Мы были в небе, а под нами была земля. Красивое такое место. Все там внизу зеленело и цвело. В необтрепанном том мире всегда была поздняя весна, на границе с летом.
И там, внизу, был камень, камень скал. Но скалы там были не суровы и не грозны, не одухотворены тайно угрюмой жизнью, всегда обращенной внутрь. Да тут и вообще-то ничто себя не таило. Все растрачивало себя легко и простодушно.
А скалы те были вроде оперных декораций. Изящные и как игрушечные. Таков был мой новый сон. Сон про ангела. И тот ангел был мной.
Тут закончилась двадцать шестая глава. Началась двадцать седьмая.
Глава 27
И не тоска здесь царила, как в том моем Лимбе. Разве что легкая такая, невесомая тревога. И она делала небесную жизнь еще слаще. Там внизу, среди трав, где-то таилось урочище слез небесных. Скопились небесные слезы в маленькое озерцо. От него и шла тревога, невидимо витала над здешним простором.
Было прозрачно соленое озеро до самого песчаного дна. Но вода солона до горечи, хоть и прозрачна.
Сладок был день наш, летучих сынов воздуха. А вечера были протяженны. Размазывали они по небосводу предзакатную печаль. Но это для того, чтобы другой день был еще слаще. А ночей тут почти и вовсе не было. Так, черная какая-то капелька, невидимая глазу граничка. Закат плотно прилегал к рассвету. А зазор был капельный – трещинка на асфальте.
В Лимбе моем, заветной долине, была одна смерть – едина, цельна и величава. Тут была одна жизнь, а смерти не было. Легка была жизнь, нами не выстраданная. Там-то одно страдание и было. Тем и тяжелей, что без мук.
А тут одно небо, как поместилище и знак нашей легкости, наших крыльев. И оно бездонно – лети ввысь и ввысь, все равно останешься в поднебесье. Там вопрос упирался в стены, здесь же воспарял ввысь и ниоткуда не отзывался эхом. К кому воззвать из бездны небесной? Кого возблагодарить за легкость и вечную жизнь? Но мы не знали ответа.
Там внизу, в прежнем моем жилище, тайна была, как камень. Здесь же сокровенна была прозрачность. Поглядишь на тех сынов воздуха – крылышки у них стрекозиные, тельце воздушное, все насквозь видны. Но и они сокровенны, и они тайна.
Как скапливал я легкость в тяжелом, как камень, своем мире, так они своей легкостью скапливали угрюмую тайну. Как тянуло меня ввысь встреч жизни, так тянуло их вниз – припасть к земле.
Что обрел я, обменяв свое подземелье на выси? Остался я при тайне сокровенной, слитной и единой. Ох, как томит эта единственность тайны, необходимость ее оглаживать и ласкать, как жемчужную бусинку. Обменял бы я ее, гладкую и мутную, на извилистый мир земли. Там тайн нет, хоть и целый ворох загадок. Там небо высоко, и туда не взлетишь полетом. Зато снизу вверх можно на него любоваться. Сам ты не проникнешь в небеса, но зато туда взлетит твоя молитва. Приникнет к Божьему Престолу, и капнет сверху вниз небесная слезинка. Прямо в озерцо небесных слез.
Тут конец главе двадцать седьмой. Началась двадцать восьмая глава.
Глава 28
Подумал я, витая в небе: стоило ли менять то на это, коль из ловушки вечной осени попал я в вечную весну? Если из западни вечных сумерек угодил в вечный день? Стоило ли менять то на это? Дробил я свой камень, холил и пестовал свое отчаянье. Проспал я архангельские трубы. И вот пала крышка гроба и взлетел в небеса мой вольный дух. Затерялся в голубиной стае.
Что мне в этом? Не все ли равно, вечная ли тоска или безысходный расцвет, бесплодная надежда? Так думал я и произносил слова вслух. Но был их смысл для меня темен.
И подумал я: здесь небеса всегда. Здесь я приобрел привычку к небу. Там привык я к смерти. Тут привык к небесам. К их вечной незамутненности. Нет тут ни единой грозовой тучки, клочка напряженной мути, что вот-вот разрешиться свежим ливнем. Там – единое тело тел, тут – единая душа душ. А я где? Обшарил я все здешние пространства, обошел новый мой дворец. И вновь не нашел себя ни в единой комнате. Ну что ты будешь делать?
Там главы кончались вдруг. Здесь вытекали медленно и плавно. И так же неторопливо являлись следующие. Я уж услышал плавный шаг главы двадцать девятой. Но она не торопилась, хотя и не медлила. И вот что я увидел, взглянув с небес своих на землю: стоит в травах золотой трон. Сидит на нем человек, зовущийся Адамом. Тот, что давал имена ангелам, но ускользнули от него ангелы.
Сидит он, поигрывает скипетром. Там сияет алмаз чистейший. И сам он, как драгоценность, сложен из сверкающих камешков.
Глядел я с небес на Адама. Оттого глава двадцать девятая замешкалась и пока не дошла до меня.
Так вот, Адам. Как изделье ювелира, сложен он из разных камешков. И все они сверкают на солнце. Сам он неподвижен, словно и не жив. Но плещутся в ограненных камнях лучики. И кажется, будто живет он. Живет буйно, весь сверкает и переливается.
Но стоит ведь встать Адаму со своего трона, как разрушится его искусная цельность. Рассыплется он кучей стекляшек. Его тело было не телесно, а как драгоценность и роскошь. Если встанет он со своего трона, то так он высок, что достанет небо макушкой. Но то будет миг один. Так, в ожидании другой главы, смотрел я на Адама. Но не дождавшись, крылья свои раскинул и полетел по пространствам. А кишели те пространства не только ангелами, а еще и снами их, и видениями. Те перелетали от одного к другому, как стаи голубков. Что было таить прозрачным ангелам, да и как утаишь? Тельце-то их – один воздух, все видны насквозь.
Слетались их видения в стайки, друг с другом переговаривались. Но не словами, а птичьим пересвистом. У самих-то ангелов нужды в друг друге не было, но, встречаясь в полете, мы приветствовали друг друга. А привет наш был всегда тот же: что, брат мой, спрашивали, хорош ли мир? И отвечал другой: дивно хорош, мой братец. А тот спрашивал: как спалось тебе, братец? А в ответ: вольно спалось и просторно. Витал я в высях, и мечта моя вилась со мной рядом. Так и летали мы с ней наперегонки. И первый говорил: ну, тогда прощай, братец. И улетал от него.
Но ангелы, надо сказать, не все были, как один, и не все, как люди. Иные были с птичьими суетливыми головками. Были, как крылатый лев, или, как бык с крыльями.
Хотел я еще сказать нечто, но закончилась эта глава. Началась другая.
Глава 29
И я сказал: я умер из смерти и взамен получил воздушную жизнь. Мой камень был сер и внутри, как снаружи. Тут же все многоцветно. Синь неба густа, трава зелена до боли в глазах, а цветы роскошны.
Только вечер тут – протяженный и вязкий, только он делал краски мягче. Затуманивались немного игрушечные горные лики – там у нас были гнездовья. Как орлы, мы рассаживались на каждом выступе, прикрывали своими крыльями голову, задумывались о чем-то. И тогда почти невидимая в сумерках грусть от одного к другому перепархивала серой птахой, перелетала по изъеденному сумерками пространству.
Тревожились дети воздуха, вскрикивали, всплескивали крыльями. Им различим становился шепот, доносящийся из занебесья. Невнятный и нежный, прост он был, тот голос, но тревожил простодушных детей воздуха невозможной своей глубиной. И ласкал он, и к чему-то звал – к тому, что и не происходит в легковесных наших просторах.
Ах вы, ласковые сумерки, тревога по иному! Нам бы так всю жизнь прожить в податливой сини, где до всего рукой подать – пару раз взмахнуть крыльями. А тут небеса зовут, наднебесье. И голос-то их каков – арфа, нежнейшие колокольца. Но тревога на самом их дне, ведь небо – твердь, а не одно пространство полета.
А нам бы всю жизнь, бесконечную, где нет смерти, прожить в том густо-синем просторе, ничего не ведая, ни о чем не заботясь. Синь его простирается из конца в конец, в глубь всех времен. Вон там вон исток, теряется он в голубой дымке. А вон, в другую сторону, там исход. И он тоже утоплен в синеве.
О чем же думали сыны света в волшебных тех сумерках, когда одна звезда всходила на небе?
О том в другой главе. А эта уж истекла до капли.
Глава 30
Так вот: только в сумерках они думали. Днем же их мысли рассыпались из их нехватких горстей. О слезном ли озерце, где вода горька, но на ней отражены небеса превыше их полета?
Слушал я слово занебесья. И не различал я в нем тоски, там грусть одна, но нет там отчаянья. О том ли мы думали, что напрасен наш полет и бессмысленна наша радость? Может, и о том, но не удерживали ни единую мысль наши полупрозрачные тела. Все тут было легко. И все было тяжело в прежнем моем склепе. Окаменела там страсть, залегла камнем. Здесь же любую мы отвевали своими крылышками.
И наутро подлетел я к своим братьям со все тем же вопросом. Что, спрашивал, не хорош ли мир? И кто-то отвечал, всплеснув крылышками: дивно хорош, братец мой. И я говорил ему: ну, братец, лети дальше. И сам улетал.
Так витали мы не одну вечность, пахтая воздух своими крыльями. Но и ангел не совсем прозрачен. И он – не один воздух, а жизнь, хотя и невесомая. Нечто мы утаивали все ж и от небес, и один от другого. И вот накопилось укрытое. И хватило его, чтоб из зародыша вызрел зачаток времени.
То было, как снесенное нами яйцо. Высиживали мы его, присев на уступы в сумерках. Крупное было яичко, как страусиное. И билась жизнь в белом яйце, жило там время. Время трагедий и сладкой боли. Жили там все времена. Ведь смахивали мы с небес пылинку тяжести каждым махом своих крыльев. Вот и скопилась жизнь во времени, а небеса остались вовсе чисты.
Проклюнулось время из яйца острым своим клювиком. И вышел оттуда темный туман. Поднялась пыльная буря. Солнце стало красным, жарким стало, так что обжигало перья. А потом осела пыль. Глядь, уж нет внизу ни цветов, ни трав. Стала внизу пустыня. И Божий гнев над ней витал. И тут уж конец главе тридцатой. Началась тридцать первая глава.
Глава 31
А птенец тот совсем уж расколупал скорлупку. Вышел он из яйца, не нелеп и страшен. Когти у него остры, а клюв железный. Разлетелись от него уж дети воздуха кто куда. Одни упорхнули в дальние выси. Это из самых легкокрылых, любимейших мной. Другие далеко не улетали, отпорхнув в сторонку, подальше, и уселись на гребне бархана. И я был среди тех.
И сказал я: невесть где рождается зыбь прошлого, и маленькие волны все накатывают на то, что сейчас. Битва прошлого и настоящего – она и есть музыка мира. И сказав так, я сам своих слов не понял.
А пока вот что, было: сиял над пустыней Божий гнев. Усохли мы все от жара и почернели. Стали носиться над песками с тревожным визгом, как летучие мыши.
И руки наши окрепли, и ноги. Напали мы на птенца. Тот отбивался своим железным клювом. Но мы все равно его до конца расковыряли. А затем унесли каждый свою частицу и зарыли в песок. Зарыл и я. А место пометили крестом из прутиков. И потом полил из слезного пруда. Того, к кому слетались мы прежними сынами воздуха, перед долгими здешними сумерками, чтоб напиться горечи. Потом зацвел тот крест.
И тут капнула глава тридцать первая последней слезинкой. Началась тридцать вторая глава.
Глава 32
И я сказал: потом разбрелись по пустыне сыны воздуха. Разбрелись они ногами, не на крыльях улетели. Ведь одолела их бескрылость. Но даже была и приятна обретенная тяжесть. Только, случалось, во сне мы вверх взмывали. Ведь в пустыне нашей ночей было вдоволь.
Избрали мы для жизни пустыню – горький плод нашей утаенной тоски. Она мала была на земле, та пустыня, горстка песка. А вокруг нее простиралась наша тоска разнообразно и красиво. Торжественно даже. В горы и океаны, в равнины и степи она обратилась. Но ветер налетел на пустыню. Песок разносил повсюду. И ко всему была примешена частица пустынной горечи. А морях вода была горька, как небесная слеза.
Я ж носился над пустыней, как дух ее. Упивался я новой своей свободой и торжествующим отчаяньем. Смерть познав и воздушную вечную жизнь, я обрел времена, и были они мне сладки. Я от каждого пустыню берег. И так прошли века.
И вот как-то увидел я человека, раскинувшего свои пестрые шатры прямо на границе моих просторов, моего победного одиночества. Вот явился он, сын века сего, а искони он враг детям воздуха. Посягнул он на горький плод моей пустыни, век длившейся моей смерти и жизни моей, длившейся век. Странно он был похож на собеседника моей смерти. И, как тот, лезет в самую сердцевину моего отчаянья.
И приступил я к нему. И тот отпрянул от меня в страхе. Видно, так дик был и неукрощен мой пустынный облик. Пал он на песок ниц и голову прикрыл шелковым покрывалом. И сказал я ему: зачем тебе, человек мира сего, моя пустыня – чаша, полная горьких моих страстей? Отцеженный мрак темной моей смерти и светлой жизни? Так спросил я его и сказал: мной, а не тобой она выстрадана. Сколько витал я в легких высях, сколько жил в угрюмом камне. Нахлебался я вдоволь свободы – и верха, и подземелья. И вот выстрадал я свободу.
Человек тот откинул свое покрывало. Глазом одним в меня вгляделся. Хотел сказать нечто. Но тут закончилась тридцать вторая глава. Началась другая.
Глава 33
И я сказал ему еще: нахлебался я высей и все пережег в горячую пустыню. Раздробил я свой единственный камень на эти вот самые песчинки. Плоско лежат пески. Но жар их – к небу. К самым вершинам и превыше их. И землю прокаляет Божий гнев до самого ее нутра. Так вбит, сказал я, кол в самую ее середку, пробивает он насквозь и небеса, и землю. То-то она – вертикаль, которой я и в помине не знал, витая в срединном небе. Туда она поднялась, куда не заносили меня мои слабые крылья.
И сказал я ему: опостылели мне мое среднее поднебесье, не выстраданная, оттого куцая свобода, и подземелье мое без страданий и мук. И вверху, и внизу была со мной не жгучая любовь, сродни ненависти, не жгучая ненависть, которая сродни любви, а так, негреющее некое чувство, неглубокие теплота и прохлада.
Если и не высказан срединный мир моих прежних высот, так уж весь обмерян моими крыльями сверху до низу. И мир низа я обмерил своим телом, как могильный червь.
Но тот, откинув шелковое покрывало, сказал мне: но ведь и мир земли моей укрощен повседневными трудами, затуманен серенькими буднями. Вот потому оба мы с тобой в пустыне, ты живешь в ней, а я к тебе пришел. Затем, что оба мы знаем: лишь тогда выдаст мир свою тайну, – она ж тайна и небесная, – лишь тогда выдаст тайну душа, когда подвергнешь ее и мир мучительной казни. Да, тогда лишь раскроет свои недра душа. А там ведь бездна – и небес, и муки. Когда казнишь ты ее, испепелишь в печке огненной пустыни, тогда, как пронзенный копьем воин, она кровавым сгустком выплюнет главное в себе.
И на этих словах конец тридцать третьей главе. Началась глава тридцать четвертая.
Глава 34
И я сказал: остановись же, ты, безумный. Зачем тебе пустыня – дивный сон моих невысоких взлетов. Я ведь, должно быть, и сам себе приснился, а ты – во плоти. Я, может быть, только легкий отблеск жизни, а ты входишь в мой сон весь целиком – не одной мыслью и страстью. Заплутаешься ты в пространствах чужого сна. Сгоришь на костре моей пустыни. И весь род твой. И упрямо как-то лежал путник, головы не поднимал, не снимал с нее шелкового покрывала.
И я сказал: привык я тут жить среди духов, которые были чисты, а сейчас почернели. Но сами они всегда безымянны и не дают имен. Не было у меня имени ни в смерти, ни в жизни, потому был я свободен. Не преградой для меня были самые узкие врата. То ведь – лишь ранка на ладонях ангела.
И я сказал: не затем ли пришел ты, чтоб дать мне имя? А значит, приговорить меня к истории, значит, обречь меня на смерть глубже моего Лимба? Развеять поле моих трагедий и сделать меня героем, пригвоздив к одному ускользающему мигу.
Заволновались, загулькали почерневшие мои братцы на гребне бархана. Стали крыльями размахивать, визжать и подпрыгивать.
И я сказал: для меня в имени всегда звучит отзвук последней ноты. Последний тот аккорд несется встреч мне из дальнего будущего. Того совершенного будущего, что укрыто покровом, который – погребальные пелены. Не достигнет его взгляд. Только ухо разве его различит, тень последнего звука. Того, что напитывает имя, делает его подлинным именем. И не именем просто, а именем имен. Так сказал я путнику.
Тут глава тридцать четвертая начала иссякать. Но я сказал еще: слушай, ты, странник горизонтали. Тебе ведь вся земля открыта. Изъезди города и страны на своих повозках, раскидывай свои шатры в благодатных долинах, среди простора степей и где хочешь. Сделай яркими и укрась свои будни, чтоб стали они также пестры, как твой расписной шатер. Помолись в кумирне всякого народа, который ты встретишь в пути. Пустыню же ты мне оставь, нахлебавшемуся до одури и смерти, и жизни. Некому тут молиться. Солнце тут жарит вовсю. Сожжет мигом деревянного болвана, а кумир золотой расплавится, словно в тигеле, оставив лужицу невыносимого блеска.
И слизал я последние капли тридцать четвертой главы. Сказал: здесь тот царит, кто без лица и без имени, без тела и сущности. Довериться здесь можно только самой пустынной пустоте. Солнцу, приклеенному к зениту.
Тут начинается глава тридцать пятая.
Глава 35
Лежал тот путник в горячем песке. Слушал меня с вниманием. А то и вовсе не слушал. Приполз тут в пустыню сфинкс. Своими лапами распушил пески. Поднял бурю. А потом лег и, как камень, замер недвижим. И врос он в песок. Не задал сфинкс вопроса, и я забыл о нем до поры.
И сказал я путнику: у тебя, говорю, города и веси, млечные у тебя реки с кисельными берегами, весь сладкий морок жизни день ото дня. Строй города и храмы. Разрушай их, если хочешь. Оставь же пустыню тому, чья душа подлинно запустела, кто ее выстрадал своим полетом и своей смертью. Не потревожь чужого одиночества, раскинувшегося вон до того горизонта. Ну, а уж коль хочешь ступить в пустыню, приди смиренным и один. А тащишь ты за собой повозки, полные чад и домочадцев. Их ли желаешь ты предать грозной судьбе детей воздуха? Весь народ твой метнуть в печь огненную?
Поднялся с земли путник, откинул рукой свое покрывало. Белое лежало оно на песке. Угрюмый он стоял, в песке ямку проковыривал босым пальцем. Стелились позади него долины и земли народов иных. Сам же он был пастух, кочевал он всегда. И вот, все пройдя, дошел он до самой пустыни. Впереди его – печь огненная. А там живут смуглые ангелы, и кругляши перекати-поля носятся туда-сюда, туда-сюда. И небо над пустыней. А к нему солнце приклеено навек. К самому зениту. А позади его – лежал путь назад.
Но взглянул тогда путник на ту пустыню, что вверху простиралась. Там, в небесной сини, вился оставшийся легкокрылым сын воздуха. Вился там ласточкой.
И пастух сказал слова. Но то – в главе тридцать шестой.
Глава 36
И теперь он мне сказал: уйди-ка с дороги моей, темный ангел, солнцем обожженный. Это он мне так сказал. Выстрадал ты пустыню своим полетом. Высидел ты ее, как яйцо, из сокровенного мига смерти. А мы к ней шли чередой будней. Шли мы к ней по дороге будней, мощенной булыжником. Гляди – ноги в кровь разбиты. Взглянул я на его ноги, а те были кровавы.
Он сказал мне: пережгли вы в себе сладость и небес, и смерти. И вот осталась одна пустыня – ровное место, где пылает Божий гнев. Приготовили вы нам питье рождения и смерти. Вспахтали свет дневной и темень ночную своими крыльями. И теперь сочится туман из чаши, напиток которой – горек. И хлебать из нее детям века сего.
Дурень ты, дурень. Опять меня дурнем зовут. А он сказал: дурень ты, не разглядевший в небесной выси, за глубокой той синевой, великого виночерпия. Из его чаши испить бы нам вина. Нам с тобой вместе – мне, сыну века сего, и тебе, глупому ангелу.
И слово того путника было верно. Так было ясно мое небо, что до темени. И не видел я в той прозрачности, в той мгле непроглядной, великого виночерпия, хоть и взлетал я до самого поднебесья. А в смерти своей столько думал обо всем, что успел измыслить тысячу тысяч миров. А о Том не знал и о Нем не думал. Странник же учуял Его, и к земле припав. В каждой былинке чуял благость и грозную силу. Туда он пришел, шагая по камешкам будней, куда не заводила меня моя праздничная жизнь в воздухе.
И он сказал: в смерти вы смерти не знали. А в жизни не знали вы жизни. Вольная ваша жизнь и безымянное чувство ни того, ни того не ведают. Вот вам и пустыня – юдоль гибели. Что еще могли вы придумать, летучие мудрецы. Мне ж в пустыне нужен не песок, а небо, что над ним. Останется тебе твоя пустыня. Позволь же забрать мне мою.
Вверх завернет горизонт, и туда я войду с чадами своими и домочадцами. И волы мои взойдут ввысь, шагая медленно, вытягивая за собой повозки со скарбом. И взойдут туда с блеяньем мои барашки. И тогда обживем мы небеса. Придешь ты к нам, черный ангел, туда придешь, в небо. И обмоют мои служанки ноги твои, смахнут пыль с твоих перышек. Отдохнешь ты от двух сошедшихся на горизонте вечностей. Обретешь будни вместо вечных твоих праздников, все равно – жизни или смерти.
Так говорил путник, и слово его было мне непонятно. Хихикали тоненько, попискивали усевшиеся на бархан мои чернокрылые братцы. Не чаяли они себе будней. Смеялись над путником. А сфинкс молча лежал. Олицетворял он загадку. Потому был лицом суров. Непроницаем был его женский лик, лапы недвижимы – в песок вросли.
А путник тот руками взмахивал. И снова он говорил: не дрогнет наше сердце, людей века сего, когда ступим мы в пустые твои пространства. Не вскрикнет в тоске ребенок, не испугается женщина. Ни единый барашек жалобно не заблеет.
Не вам одним, но и нам путь – к смерти. И ступим мы с вами в выстраданную пустыню, где до неба рукой подать. И будет царить в той пустыне, вымечтанной неукротимым вашим духом, век сей.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе