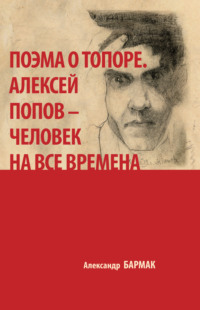Читать книгу: «Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена», страница 3
Летчик
О А.Д. Попове очень хорошо два раза написала Н.М. Зоркая. Две книги с интервалом в несколько лет одна от другой. Это жизнеописание А.Д. Попова. Конечно, с тех пор прошло много времени и многое, наверное, можно было бы добавить к этим книгам, найти какие-то новые факты биографии, новые штрихи к творческим работам, но все это дело театроведческое, дело ученое. Хотелось бы верить, что найдется театровед, историк театра, с горячим сердцем и благодарной памятью, который захочет вернуться к жизни и творчеству Алексея Попова на новом теперь уже этапе, когда все-таки многие факты стали доступнее для печати, особенно те, которые касаются эпохи или, скажем, даже эпох. Царская Россия, революция и Гражданская война, Красный Октябрь в искусстве, уничтожение нэпа, коллективизация и индустриализация, годы репрессий, накатывавшие волнами, Великая Отечественная война, послевоенные годы, смерть Сталина, Двадцатый съезд Коммунистической партии, наконец, начало «оттепели», – вот такие, мягко говоря, интересные периоды нашей истории, в которых жил и работал великий режиссер. Но наша задача иная.
Наша задача – защитить память о великом человеке театра от забывчивости и небрежения нашей эпохи; она забывчива и о, как небрежна к памяти прошлого. И еще наша задача – свое восхищение личностью художника и гражданина передать молодому читателю, будущему режиссеру.
Это все признаки старинного жанра, который когда-то назывался – апология. А чем, собственно, плох этот публицистический жанр? Не хуже, право, других. Конечно, говорить о художнике и времени, о театре во времени и о времени в театре невозможно, не соскальзывая в публицистику. В данном случае это соскальзывание, этот даже крен в сторону современности, как мы уже сказали, – умышленные.
Фигура А.Д. Попова, его жизнь, судьба, театральные свершения, педагогическая школа необходимы нашему времени, которое, несмотря на всевозможные громкие театральные события, происходящие вокруг, на подлинные свершения пока не имеет сил.
Автор назвал свой очерк – «Поэма о топоре», так назывался легендарный спектакль А.Д. Попова по пьесе Н. Погодина. Название, конечно, двусмысленное. Если угодно, это своего рода поэма о режиссере, над которым, как и над многими его сверстниками и соратниками в те времена, был занесен топор времени.
«Поэма о топоре» Н. Погодина был одним из самых знаменитых спектаклей А.Д. Попова. Этот спектакль стал и одним из самых значимых художественных символов времени.
В те годы кино стремительно завоевывало позиции в искусстве; на «Чапаева» братьев Васильевых, фильм вышел на экраны в 1934 году, на два года позже спектакля Попова, ходили демонстрациями – с красными флагами, лозунгами и пением революционных песен. И не надо думать, что эти демонстрации были все сплошь специально подготовленными акциями и люди шли смотреть «Чапаева» по указке начальства, нет, это было не так.
Конечно, театр сравниться с кинематографом по охвату массового зрителя никак не мог, но такие спектакли, как «Поэма о топоре», тоже делали погоду времени, которая никогда не была в ту эпоху штилем, погода была, скажем так, ветреная. Ветер надувал щеки вовсю, как на старинных картографических атласах, и никто не мог предполагать, какие несчастья он надует. Довольно скоро начались бури, а когда они не то, чтобы стихли, а стали привычны, – страна стала как великолепный парусный корабль, огромный, сильный, оснащенный, но бессильный справиться с мертвой зыбью, в которую превратилось время.
Пока же время подгоняли: «Время, вперед!» – так назвал свою книжку о строительстве Магнитогорского металлургического комбината В. Катаев. Такие игривые названия тогда нравились.
Через тридцать три года по этой книге был поставлен фильм «Время, вперед!», к нему написал музыку Г. Свиридов. Из музыки к фильму вышла сюита в шести частях – заключительная часть так и называлась: «Время, вперед!» С тех пор эта музыка, вернее маленький, на двадцать девять секунд фрагмент последней части, отдаленно напоминающий интонации Четвертой симфонии Шостаковича, звучала по радио, а потом и по телевидению – каждый день и несколько раз на дню, надоевши всем до боли. Но подгонять время было уже бесполезно – скоро оно, как его ни подгоняли, остановилось, превратившись в ту самую мертвую зыбь, последствия которой мы ощущаем и сегодня.
Со всем тем, и В. Катаев – прекрасный писатель, и музыка Г. Свиридова замечательная, стоит только послушать всю сюиту целиком. В этой музыке есть своя железная драматургия, и понять по-настоящему смысл последней части можно только прослушав и поняв все предыдущие музыкальные события сюиты, и уральский напев, и частушку, и маленький фокстрот, столь приятный красному маршалу Ворошилову, и зловещие интонации медных в просто феерическом марше, и предпоследнюю часть – ночь, и только тогда ту часть, то событие, которое так и называется – «Время, вперед!».
Музыка этого фантасмагорического марша, третья часть сюиты Свиридова, была бы совершенно невозможна в тридцатые годы прошлого века, как невозможной оказалась и Четвертая симфония Шостаковича, но, созданная композитором в период «оттепели», она полна нервов, страстей, сарказма, дыхания той трагически противоречивой эпохи, тех одиннадцати предвоенных лет. Отрезок очень условный, мы считаем от двадцать девятого года, года начала коллективизации и индустриализации страны, первого года первой пятилетки. Первый пятилетний план был утвержден на Пятом съезде Советов СССР в июле 1929 года – началась эпоха великих свершений, великих трудовых подвигов и великих потрясений, окончательно уничтожался весь старый уклад жизни. Стоило это – десятков миллионов жертв, впрочем, точно до сих пор количество погибших в те времена неизвестно.
«Поэму о топоре» А.Д. Попов поставил в Театре Революции.
Речь в пьесе шла о выплавке стали особого качества.
Прообразом пьесы стали действительные события на Златоустовском металлургическом заводе, пьеса была, в сущности, документальной, рождалась из производственных очерков драматурга. Но из этих очерков в театре родилась – поэма, на такую высоту поднял режиссер, казалось бы, производственную пьесу Погодина. В советском театре бытовала, время от времени становясь на первое место, так называемая производственная пьеса – странный, надуманный, идеологический жанр. Производственной теме посвящены были многие спектакли. Ни один из них не мог сравниться по духовной и художественной силе с такими «производственными» спектаклями Попова, как «Поэма о топоре», «Мой друг».
В семидесятых годах прошлого века, например, в начале того периода истории советской власти, который получил название – «застоя» и который привел к краху некогда великое советское государство, был поставлен на сцене Художественного театра спектакль о сталеварах, уральских сталеварах, то есть просто-напросто потомках героев пьесы Погодина и спектакля Попова, по пьесе Г. Бокарева «Сталевары». Но какая колоссальная разница между этими художественными фактами!
Пьеса Г. Бокарева читалась и обсуждалась на металлургическом заводе, артисты посещали цеха, беседовали с рабочими знаменитого московского завода «Серп и молот» (ныне этот завод прекратил существование, на его месте строится жилой комплекс), первыми зрителями были рабочие завода. И этот масштабный и, казалось бы, очень современный спектакль, с грандиозными декорациями, пылающими мартеновскими печами, с великолепными актерами, которые в нем играли, увы, очень плохо, не стал театральным свершением, хотя рассуждали о нем, и обсуждали его, и писали о нем много. Утверждали, что он подымает злободневные вопросы человеческих взаимоотношений на современном производстве, проблемы, связанные с ролью рабочего класса на данном этапе истории.
Да, все верно, все эти вопросы спектакль действительно подымал и делал это искренне, так же, как и спектакль А.Д. Попова сорокалетней давности. В этой постановке Художественный театр, в то время он еще назывался МХАТ им. А.М. Горького, осваивал, как тогда говорили и писали, тему труда и старался это сделать через живого человека на сцене. Этого не получилось, живой правды – не получилось.
Хуже того, спектакль о сталеварах 1973 года был по-настоящему современным не потому, что в нем отражалась фальшь времени в изломе человеческих судеб, а потому, что он, увы, сам невольно стал частью этой фальши времени, фальши, становящейся нестерпимой. Неверно было бы думать, что выдающийся режиссер второй половины двадцатого века Олег Ефремов, художник предельной честности, всегда в своих ролях и постановках подымавшийся до высот художественной правды (он, кстати, и был инициатором написания пьесы), и актеры театра, занятые в спектакле, а это, повторяю, были актеры замечательные, создавали заведомую фальшивку. Ни в коем случае, об этом даже и подумать невозможно, все они делали свое дело и делали его честно, все считали, что говорят правду о времени и правду нелицеприятную. За эту правду власть их похвалила – спектакль получил Государственную премию.
Но во времени были ощутимы уже процессы, которые стали по-настоящему определять трагическую подоплеку эпохи, болезнь начиналась, болезнь тяжелая, а предлагалось лечить ее паллиативами, в искусстве – вот такими, как этот спектакль.
Так самые искренние усилия режиссера, актеров и, конечно, драматурга, талантливого драматурга, все оказались втуне; при безусловном наличии частной правды вышла неправда общая. Время тогда повернулось таким боком, что никакие самые искренние производственные темы ничего уже поправить в нем не могли.
Был упадок сил времени, страна – уходила.
Но об этой трагедии, разворачивающейся на глазах, говорить со сцены впрямую не было возможности. Тогда стало популярным словечко – аллюзии, да, они стали тогда и, кажется, вновь становятся теперь, некой отсылкой, как сейчас пишут в Интернете, – перенаправлением к правде; иногда их искали сами зрители.
Казалось бы, такая далекая от современности пьеса Тургенева «Месяц в деревне», но в незабываемой постановке А. Эфроса в Театре на Малой Бронной в конце семидесятых годов удивительно воспринималась реплика доктора Шпигельского, в блестящем исполнении Л. Броневого, произносимая им на самом краю авансцены прямо в зрительный зал: «Авангард легко становится арьергардом – все дело в перемене дирекции». Как прикажете понимать слово – дирекция, как направление, а такое значение слова было бы естественным в контексте пьесы, или понимать надо впрямую, то есть именно как дирекцию, как руководство, начальство какого-нибудь учреждения или департамента. Что здесь имеет в виду коварный Шпигельский, на что намекают актер и режиссер в этой реплике – на перемену направления или все-таки на смену руководства, размышляла публика, конечно, внутренне склоняясь ко второму варианту, не отдавая себе отчета, что смена дирекции далеко не всегда означает смену направления. Очень скоро после этого спектакля страна действительно пережила одну за другой смену дирекций, но направление оставалось одно – в тупик. Аллюзия, да еще какая.
А бывало, в те времена, что аллюзия вообще не вызывала вопросов, она была уже даже и не аллюзией, так убийственно было ее впечатление на публику. Вот замечательный роман Ю. Трифонова о народовольцах – «Нетерпение» – начинался словами: «К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем ее лечить». В 1973 году, когда вышел в свет роман Трифонова, эта вполне толстовская по духу фраза могла восприниматься как угодно, но вот уж аллюзией ее называть не приходилось.
Сорок же лет назад от спектакля МХАТа, к середине тридцатых, к тридцать четвертому, многое решившему в эпохе году, семнадцатому году советской власти, эпоха была иная. Она была, может быть, трагичнее эпохи семидесятых. Наверняка она была трагичнее, если вообще есть какая-то мера измерения трагизма эпохи. Впрочем, есть, конечно, эта мера – оборванные жизни, тут с ней мало какая эпоха сможет сравниться. Но в том-то и сложность, и каверзность этой эпохи, что она была еще и временем, когда миллионы обманутых людей были охвачены, не будем произносить это надоевшее фальшивое слово – энтузиазм, скажем, радостью строительства новой жизни. Светлое будущее – казалось, вот оно, еще несколько усилий и вот-вот страна к нему придет. Радость была неистова, близка к истерике.
Эта неистовая радость миллионов трудящихся людей была реальностью, и она была огромной силой – это кажется сегодня невероятным, но это так было.
Вообще, нет какой-нибудь одной реальности эпохи – какая-то преобладает в то или иное время. Страна строилась, страна изменялась на глазах. «Человек меняет кожу» так назывался один из знаменитых романов эпохи, о «перековке» американского инженера на строительстве Ферганского канала, автор его Бруно Ясенский, имевший бурную революционную биографию, в своем предыдущем ультралевацком романе сжегший Париж дотла, сгинул в лагерях в тридцать восьмом году, где-то на каторжном этапе. Писатель был искусственный, искренним был, пожалуй, только в своей самой левацкой из самой левой подоплеки, читать его сейчас без чувства некоторой оторопи просто невозможно. Но какое невероятно точное название дал он своему роману – неважно, что там случилось с американцем, но важно, что человек в этом времени действительно как бы «менял кожу». О том, что это процесс болезненный, наверное, можно догадаться, как неизбежность его принимала эпоха, но восхищаться этим процессом трудно.
Выдающийся мастер документального кино Дзига Вертов создал «Симфонию Донбасса», «Три песни о Ленине», позже очень дорого ему стоившую и быстро снятую с экранов потрясающую «Колыбельную». Это фильм, который очень стоит посмотреть, чтобы точнее понять эпоху, это своего рода советский сюрреализм, и как это свойственно сюрреализму, отмеченный траурными тонами…
Шостакович написал веселую и жизнерадостную «Песню о встречном» на стихи Б. Корнилова: «Страна встает со славою навстречу дня… И радость поет, не скончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солнце поет…» Удивительные стихи, совершенно грамматически несуразные, но прекрасные своей абсолютной, едва ли не детской искренностью. Десятилетиями страна их пела, не догадываясь, что поэт спился и был расстрелян по стандартному обвинению в троцкистском заговоре…
Но все в его стихах правда – не вся правда об эпохе, но это была его правда и правда миллионов людей, от имени которых он писал, имел право писать, этот человек из народа, так и не сумевший прочно обосноваться во времени.
Легче всего сейчас сказать, что и Дзига Вертов, и Шостакович, и Борис Корнилов, и Алексей Попов, поставивший «Поэму о топоре», «После бала», «Мой друг», и Николай Охлопков, интереснейший и, увы, сегодня почти забытый режиссер с его «Святой дурой», выдающимся, но так и не состоявшимся спектаклем (автор перевода и советского варианта пьесы Бертольта Брехта поэт Сергей Третьяков был арестован, потом очень быстро расстрелян, спектакль закрыли), и Сергей Эйзенштейн, почти уже снявший свой легендарный «Бежин луг» («Мне, – говорил он, – оставалось всего одиннадцать съемочных дней до конца съемок»), фильм, посвященный известному Павлику Морозову, мальчишке-пионеру, донесшему властям о своем отце – кулаке, фильм, которого никогда не было и который считают шедевром, хоть от него осталось всего несколько кадров; сочиняли, писали, ставили, снимали, скрепя сердце, только чтобы попасть в ногу времени, а на самом деле испытывали неимоверные нравственные мучения, тайные сомнения и чуть было не занимались изготовлением художественных фальшивок и прочее, и прочее.
Сказать так – подлость, на которую сегодня очень охотно идут, не понимая, что так говорить – низко. Не понимая просто потому, что, как мы уже выше говорили, неладно сегодня с нравственным законом.
Да, эти великие без преувеличения художники испытывали сомнения, такие страшные и терзающие сердца, которые нынешнему художнику просто даже и не приснятся, но свершали свое дело ожесточенно и искренне. Потому и стали великими, потому мы до сих пор у них учимся и стараемся понять их подвиг в противоречиях эпох. А приспособленцев, причем – талантливых, хватало, всегда с избытком. Иногда, правда, они преобладают в сиюминутных буднях, но потом, – как только прояснится небо времени, редко в нашей истории так бывало, но бывало все же, – быстро забываются и тихо исчезают в его сумерках.
Но не о них речь.
Вот в этой атмосфере, которую, напомним, очень хорошо передает марш из сюиты Свиридова, родился спектакль А.Д. Попова. В начале тридцатых годов репрессии еще не развернулись с такой кошмарной силой, как это произошло в их конце, они еще как бы тонули в общем гуле революционной эпохи, в музыке, как восторженно когда-то писал Блок, революции, до тридцать четвертого, как мы уже говорили, очень важного года. Людям всегда свойственно мечтать о лучшем и стремиться к этому лучшему, это кем-то заложено в человеке, кем-то весьма ироничным; но человек не всегда догадывается о страшных последствиях увлечения утопией; когда же понимает это, если понимает – бывает уже поздно.
В ту эпоху лучшим, к чему стремились мысли миллионов людей, людей, как тогда казалось, навсегда освобожденных от подневольного труда, была коммунистическая идея. Совершенно, кстати сказать, неистребимая в человеческом сознании. А в русском сознании тем более; она у русского человека всегда прежде всего – идея справедливости. Для осуществления этой самой по себе прекрасной идеи нужно было идти на жертвы; и шли на жертвы и неслыханные жертвы; всех тех, кто не разделял эту идею, следовало всеми средствами перевоспитать и заставить эту идею принять. Не говорим о негодяях, которые всегда примазываются к интересным идеям и легко становятся палачами, но даже при всей искренней увлеченности коммунистической идеей средства перевоспитания, как всегда, выходили у нас самые обыкновенные и самые страшные – каторга и казнь.
Палачей нужно презирать, наказать их уже невозможно, но нельзя насмехаться над верой миллионов людей, оплевывать их жизнь и деяния. Как это сейчас ни кажется странным, совсем не мрачная сторона действительности была в начале тридцатых доминантой общественного сознания. В те годы страна превратилась в колоссальную стройку – выполнялся первый пятилетний план. В те годы страна превратилась в большую школу – люди стали получать образование, скажем прямо – неплохое. Студентов называли вузовки и вузовцы. Эти вузовцы были в основном дети рабочих, крестьянские дети. Созидательная энергия нации была неподдельной – это сегодня нам в нашем благополучии так легко анализировать прошлое нашей страны и, кромсая его на куски, черную его засохшую кровь делать основным цветовым тоном всей эпохи. Великолепно передает атмосферу времени картина К. Истомина «Вузовки», вглядитесь в нее; она многое может рассказать об эпохе внимательному взгляду. Живопись тридцатых годов долгое время была открыта для зрителей далеко не вся, какие шедевры были годами спрятаны от народа, шедевры, в которых отразилась эпоха во всем своем совершенно неожиданном разнообразии, да и сегодня сколько интереснейших картин замечательных художников пылятся в запасниках, между тем эта живопись дает потрясающее впечатление об эпохе, без нее оно неполное, недостоверное. Вообще великое советское искусство мы с вами, современники, знаем недостаточно; это большая потеря для нашего времени – отсутствие, так сказать, присутствия в наших днях советского искусства.
Спектакль «Поэма о топоре» А. Попова стал своего рода знаменьем эпохи; он остался в истории советского театра этапным спектаклем, то есть от него как бы начинался новый отсчет театрального времени. Хотя спектакль был поставлен в те годы, когда еще только в глубокой подоплеке времени, но уже висел топор, скоро начавший вовсю гулять по стране. Вполне возможно выкованный из стали – нержавеющей, кислотоупорной, того самого Златоустовского завода, о рабочих которого писал Погодин. В любой момент он мог сорваться и упасть на кого угодно.
Эта зловещая примета времени, конечно, видна нам четче, чем людям тех памятных лет нашей истории, историческое расстояние улучшает зрение, впритык мало что увидишь, находясь внутри события, как это ни странно, можно и не заметить его истинного значения, забывать об этих десятилетиях нельзя. Но так называемый Большой террор не замечать уже было невозможно. Жить начинали, поеживаясь; под топором, знаете ли, жить некрасиво и не очень удобно, прибегая к нынешнему отвратительному словечку – некомфортно. Но вот что интересно – чем больше ежились, тем сильнее возрастал, как тогда говорили, энтузиазм масс.
В те времена, и это тоже их примета, как-то незаметно исконное и очень дорогое для отечественной культуры, она вся на этом понятии и держалась, понятие – народ, понемножку стало заменяться понятием – массы. Потом уже после исторических катаклизмов, вновь стали говорить о народе, советском народе. Даже о русском народе – знаменитая речь Сталина по окончанию войны, его тост за русский народ. Так что «Поэма о топоре» выглядит двусмысленным названием; это эпическая поэма о героическом, в точном смысле этого слова, труде народа, нашедшая свое воплощение в пьесе Погодина и спектакле Попова; но это сегодня еще и напоминание о топоре в руках палачей.
Как и многие миллионы его соотечественников Алексей Попов был в плену у времени, он был пленником времени. Отдает штампом – «пленник времени», «плен времени», «у времени в плену» и тому подобное, в сущности, ходячий штамп, спасибо великому поэту. Это так, но только не для того, кто находится в плену у времени на самом деле. Впрочем, в плену у времени мы все, но вот острое ощущение этого плена, постоянные попытки вырваться из него и выковать свое время, как топор из златоустовской стали, – это все же привилегия художника.
Все это отсылает нас к известным строчкам Пастернака из стихотворения «Ночь», истертым от частого цитирования как старая медная монета от игры дворовых мальчишек пятидесятых годов, которая называлась игрой в «расшибалочку». Так часто и сильно, с ловкого размаха лупили биткой по медному пятаку, что уже бывало и не различишь, где у него аверс, где реверс, он уже больше не звенел и не подпрыгивал, падая на мостовую подобно знаменитому медному пятаку Достоевского, учившего Григоровича посредством этого пятака азам литературного мастерства. Не звенел, не подпрыгивал пятачок, а криво закатывался в какую-нибудь щель веселой булыжной мостовой.
«Не спи, не спи художник, не предавайся сну! Ты вечности заложник у времени в плену», – призывал поэт.
Но надо сказать, что спали в иные времена, например, в тридцатые, сороковые, начало пятидесятых вообще – мало. Особенно художники и особенно по ночам. Совсем не потому, что именно ночью их посещало вдохновение – нет, просто приходили за ними и арестовывали, как и других, не художников, инженеров, военных, учителей, рабочих, колхозников главным образом по ночам. Автомобиль протарахтел за окном – не спать; лифт загудел – не спать…. Так что в те годы призывать художника не спать было в принципе незачем; он и не спал, как мы уже поняли, по совершенно другим причинам, чем о том говорится в стихотворении Пастернака.
Все знали, что никогда не спит по ночам самый великий художник всех времен и народов – ни в Кремле, ни на своей так называемой «ближней даче».
Так что в достопамятные и страшные тридцатые годы, в годы, в которых А.Д. Попов создавал свои самые великие спектакли, особенно в конце их – этот призыв мог бы быть понят как изощренная ирония. Но знаменитое стихотворение Пастернака написано было в замечательный пятьдесят шестой год – год Двадцатого съезда Коммунистической партии, год стремительно наступавшей «оттепели», и продлилась-то она всего несколько лет, но сумела кардинально изменить художественное время эпохи. Так сильно изменить, что до сих пор мы поддерживаемы на плаву волнами, доходящими до нас из того времени. Они как свет далеких звезд, они давно уже погасли, а свет, рожденный ими, до сих пор пронизывает всю вселенную. Очень многим лучшим в нашем времени мы обязаны той далекой поре, которая вошла в историю под названием «оттепели», так называлась небольшая книжечка И. Эренбурга, вышедшая в начале той эпохи.
Герой стихотворения Пастернака – летчик.
Он ведет свой самолет на недосягаемой высоте, которая позволяет ему охватывать взглядом всю Землю, весь мир, причем в мельчайших деталях. Этот летчик – поэт. Это у него такое мировоззрение, такое миросозерцание, если угодно, позволяющее ему увидеть все мироздание разом, воспринять его целостно, позволяет ему как бы обнять всю Землю, – близкую и родную. В те времена это было неслыханным делом – обнимать всю землю разом, а не только ту ее часть, которую составлял тогда социалистический лагерь. Это был совершенно грандиозный прорыв – к общечеловеческим ценностям, из которых, конечно, мир на земле был одной из важнейших. Поэт как летчик на страшной высоте, он охватывает своим взглядом весь мир; мир становится родным ему; он чувствует ответственность за него, об этом писал летчик и поэт Сент-Экзюпери.
Это мировоззрение художника, позволяющее ему видеть такие горизонты, которые, конечно, не увидит никто другой. Пожалуй, кроме ученого – но ученый тоже всегда своего рода художник, между ним и поэтом много общего, оба они прикасаются к вечности. У физика-атомщика бесконечный минимум становится бесконечным максимумом – как и предвидел это Николай Кузанский; но ведь и у художника это так – одно слово, одна самая маленькая деталь открывают, часто, мироздание, являются ключом к нему. Горизонты событий и ведущие к ним радиусы бесконечны. Великий русский физик Илья Пригожин говорил о радиусе горизонта событий. У художника он – бесконечен. Летчик в те годы, когда Алексей Попов ставил свой знаменитый спектакль «Поэма о топоре», тоже был приметой времени – стать летчиком и подняться высоко в небо было заветной мечтой многих; летчики становились национальными героями. Все они были исключительно интересными людьми – Громов, Водопьянов, Коккинаки, Ляпидевский, Чкалов… они были самыми настоящими поэтами неба.
Стихотворение Пастернака написано в памятный, великий в истории нашей страны пятьдесят шестой год – год перелома в жизни советского общества, перелома, родившего новую «Могучую кучку» советских художников, писателей, поэтов, композиторов, деятелей кино и, конечно, театра. Родилось новое великое русское и советское театральное искусство, новое творчество театральных художников народов СССР. В театре многие из них были учениками А.Д. Попова, если формально не были его студентами, то по существу были его учениками – достаточно назвать хотя бы А. Гончарова, он не был среди студентов Попова, но в театре он был, безусловно, его учеником и последователем. А.Д. Попов успел застать это время – время, полное надежд, он был одним из тех, кто его подготовил. Всей своей жизнью и творчеством. Тогда многие, вернувшиеся, казалось бы, из небытия, могли сказать словами Окуджавы – «я вновь повстречался с надеждой…».
У А.Д. Попова был этот взгляд летчика, на невероятной высоте охватывающий все мироздание. Это мировоззрение выводит художника далеко за пределы данного времени, оно открывает ему невиданные просторы; нисколько не мешая ему быть пристально внимательным к сегодняшнему дню, к его можно сказать сору, вот и еще одна ассоциация – «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда»… Но как по какой-то мельчайшей детали, незаметной невооруженному взгляду в сегодняшнем дне увидеть, прозреть – завтра, большое завтра. Это мировоззрение, эта его способность прозревать во времени бывают и спасительны, и губительны для художника. А.Д. Попову они помогли, он благодаря этой способности, этому, скорее, дару – жил, а не выживал. Но они же и были причиной его художественных утрат; сколько замыслов так и остались замыслами, не получили воплощения его мечты о постановках многих классических произведений, например, он так и не поставил Чехова, пьесы Чехова должны были бы быть поставлены Поповым – это, наверное, изменило бы многое в сегодняшнем отношении к этому автору. Он нес на своих плечах колоссальный груз современной драматургии, а она редко соответствовала его творческому лицу, масштабу его дарования… Рядом с ним многие – не выжили. В пятьдесят же шестом году надежда была растворена в воздухе эпохи, была основной приметой эпохи; «надежды маленький оркестрик» из песенки Булата Окуджавы играл, стараясь изо всех сил, на улочках и переулках больших и малых городов и селений великой нашей страны. Удивительно, впрочем, что же тут удивительного, поэт есть поэт, он видит во времени то, что незаметно, может быть, еще другим, вот Пастернак и увидел крен времени – взлететь. И действительно, те годы были стремительным взлетом советского искусства. Невероятное количество великих произведений было создано в довольно короткий отрезок времени.
Но время измеряется не только линейно, оно внутри себя способно расширяться невероятно, создавать такую великую емкость, в которой можно уместить многое. Этим многим из той эпохи мы, между прочим, живем до сих пор. Через пять лет после написания стихотворения «Ночь», в шестьдесят первом году, весной, как было удачно выбрано время, в космос полетел советский летчик – Юрий Гагарин. И увидел голубой шарик – Землю, нашу общую Землю, мир человеческий, окутанный терпким воздухом весны. Гагарин был – поэт. Эта чудесная оттепель продлилась, как мы уже поняли, очень недолго. Звонкий ручеек постепенно высыхал, промораживался. Он иссяк в тот момент 1962 года, когда были расстреляны в Новочеркасске рабочие, вставшие отстаивать свои права; восстание в Новочеркасске было расстреляно; это была страшная трагедия, но она как бы и не существовала – никакой, абсолютно никакой достоверной информации о том, что произошло – не было. Трагедия звучала полушепотом, их уха в ухо, становилась легендой, притчей, ныла непонятной, но очень ощутимой болью времени. Так начала умирать оттепель, так постепенно исподволь горечью стал отдавать ее воздух. И к концу шестидесятых ее уже не было.
Но сила, которую она пробудила в людях, в художниках – долгое время еще жила. Она жила в книгах Василя Быкова, Г. Бакланова, Ю. Трифонова, В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Астафьева; она поддерживала талант А. Володина, В. Розова, гениального, так рано ушедшего А. Вампилова. Она определяла пульс спектаклей Г. Товстоногова, О. Ефремова, А. Эфроса, Ю. Любимова, В. Пансо, Г. Шапиро, З. Корогодского, Ю. Владимирова и многих, многих славных людей нашего театра.
Начислим
+21
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе