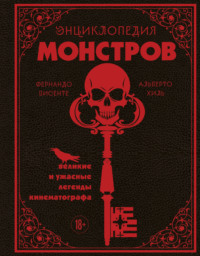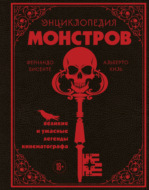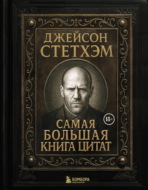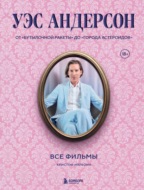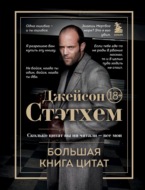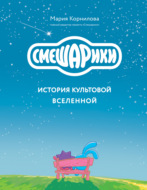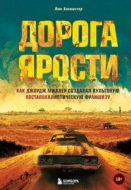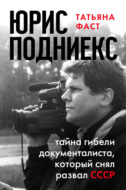Читать книгу: «Энциклопедия монстров. Великие и ужасные легенды кинематографа», страница 3
Мумия
Нездоровый романтизм

Неопытный археолог, оставшись один среди недавно найденных древних сокровищ, осмеливается открыть запретный ларец со свитком Тота. За его спиной лежит вскрытый саркофаг, в котором мы видим завернутую в бинты мумию – правильнее было бы сказать, обездвиженную – со сложенными на груди руками. Молодой человек начинает переписывать содержимое пергамента и погружается в работу, в то время как камера демонстрирует нам пробуждение мумии. Сначала медленно открываются ее глаза, затем – легкое движение рук, освобождающихся от бинтов. Молодой человек все еще увлечен своей находкой и не замечает того, что происходит по его вине. Ни он, ни зрители фильма не увидят, как мумия выходит из своей гробницы. Это остается на откуп фантазии каждого. Мы видим только руку, тянущуюся за свитком, и полный ужаса взгляд археолога, который в итоге истерически смеется в неудержимом приступе безумия, пока мумия покидает комнату, оставляя на полу след от бинтов.
Кинозрители, посетившие первый показ фильма «Мумия» в декабре 1932 г. в кинотеатре Mayfair на Бродвее, уже видели рекламу, сообщавшую, что «мумия оживает», и были готовы к этому моменту. Но особенно интересно, что премьера состоялась через десять лет после открытия, которое произвело переворот в знаниях о Египте и о его связи с причудливым миром тайн и загадок.
В конце 1922 г. группа британских археологов под руководством Говарда Картера и при финансовой поддержке лорда Карнарвона обнаружила гробницу Тутанхамона – собрание погребальных камер, наполненных сокровищами, которые оставались нетронутыми более 3 тыс. лет. Открытие, совершенное в Долине царей близ Луксора, сразу же приобрело мировой резонанс и вызвало огромный интерес британской прессы, которая освещала это событие в эксклюзивном порядке. Все новости о раскопках были монополизированы газетой The Times, и сделано это было официально, чтобы избежать лавины журналистов, которые могли бы нарушить нормальный ход раскопок.
Последствия такого информационного рвения были самыми разнообразными. Находка – благодаря хорошему состоянию и богатству найденных предметов – вызвала в 1920–1930-е годы бурный всплеск египтомании, а культура страны Нила стала декоративным (1), научным, художественным и литературным мотивом с выразительным оккультистским подтекстом.
Скрупулезность, с которой дозировалась информация, порождала догадки, мистификации и сплетни, среди которых родилась мысль о том, что это акт осквернения и он не останется безнаказанным. Придумывались всевозможные истории, и в начале 1923 г. газета The New York Times сообщила, что археологи нашли угрожающий текст: «Смерть прилетит на крыльях к тому, кто войдет в гробницу фараона». Вскоре после этого в Каире от естественных, но неясных причин скончался лорд Карнарвон, и возникла идея о существовании «проклятия фараонов».
На самом деле, несмотря на то что британские раскопки стали важной вехой, загадочный ореол вокруг египетских гробниц появился еще в наполеоновские времена, а в литературе XIX века уже зародилась вера в сверхъестественные способности мумий. Первой эту идею начала культивировать англичанка Джейн Вебб, написавшая в 1827 г. книгу «Мумия!» (2) и, что любопытно, прибегнувшая в своем сюжете к электричеству для возвращения к жизни фараона Хеопса. Эдгар Аллан По тоже использовал электричество в своем рассказе «Разговор с мумией», да и целый ряд писателей, от Теофиля Готье до Артура Конан Дойля и Брэма Стокера, создавали истории о египетских принцессах, смертельных отварах, мести из загробного мира и забальзамированных любовниках, преодолевающих барьеры времени. Собственно, Конан Дойл – с его известной слабостью к оккультным течениям – был одним из тех романистов, которые в итоге наиболее яростно присоединились к теории наказания осквернителей гробницы Тутанхамона.
Среди журналистов, ставших свидетелями открытия в Долине царей, был Джон Л. Балдерстон, работавший корреспондентом. Он являлся не только восторженным знатоком египетской культуры, но еще и драматургом и сценаристом. Через несколько лет после освещения этого события он стал сотрудником компании Universal и участвовал в создании сценариев фильмов «Дракула» и «Доктор Франкенштейн». Поэтому вполне естественно, что он занялся новым проектом кинокомпании (3), успешной серией фильмов ужасов – «Мумией», закрепленным за его любимым актером Борисом Карлоффом. В качестве отправной точки Балдерстон взял сценарий «Калиостро» (4) и адаптировал его к буму египтомании, не забывая и об успешных находках для «Дракулы».
В результате получилась история, главный герой которой, мумия, имеет много общего с вампиром, сыгранным Белой Лугоши. Принадлежащий к миру «нежити», наделенный гипнотическими способностями и «прибывший» из древности (Трансильвания или Египет времен фараонов), он переезжает жить в город (Лондон или Каир), движимый романтической и нездоровой страстью к красивой женщине, и сталкивается с ученым, которого в обоих фильмах играет Эдвард Ван Слоун. Сходство заключается и в наличии спасительного талисмана: распятие против вампира и египетский амулет (S) против мумии, а также в слабом защитнике желанной женщины – ее неумелом женихе, которого играет один и тот же актер Дэвид Мэннерс. Сходство сохраняется даже в саундтреке к обоим фильмам – «Лебедином озере» П. И. Чайковского (5).
Но кроме этих сходств, «Мумия» имеет несколько ярких отличительных черт. Во-первых, это исполнение Борисом Карлоффом двух ролей – мумии Имхотепа (по имени архитектора первых пирамид) и его перевоплощения в Ардат-Бея, загадочного египтянина с кожей, похожей на пергамент, неторопливой походкой и глубоким голосом. Одно его присутствие кажется угнетающим на фоне археологов, тонко изображенных расхитителями не принадлежащих им богатств. В какой-то момент мы даже видим, как Бей не дает одному из них прикоснуться к себе, хотя нам остается только гадать, делает ли он это из гордости или для того, чтобы прикосновение не раскрыло правду о природе его кожи.
Естественно, что в перевоплощениях Бориса Карлоффа в образы мумии и Ардат-Бея вновь сыграл важную роль звездный гример Universal. Джек Пирс подверг актера мучениям бесконечных сеансов, обматывая его тело 140 метрами бинтов и придавая его коже безжизненный, «шероховатый» вид, который должен быть у мумифицированного лица. Скованность лицевых мышц, обездвиженных до такой степени, что Карлофф едва мог говорить, компенсировалась силой и магнетизмом его взгляда.
Есть еще множество деталей, которые делают Карлоффа самым заметным сокровищем «Мумии», этаким аристократом (еще одно воплощение трансильванского графа), передающим романтическое и пугающее спокойствие. В эту готическую атмосферу вписываются и некоторые из величайших сцен фильма, связанные со встречей Ардат-Бея с его запретной любовью, Хелен Гросвенор (в исполнении Циты Йоханн), которая в своем истинном обличье была принцессой Анхесенамон.
Один из самых пугающих моментов – бальзамирование и погребение заживо Имхотепа, осужденного за попытку воскресить труп своей возлюбленной Анхесенамон с помощью священных заклинаний. В своих новых обличьях Ардат-Бей и Хелен Гросвенор будут смотреть на бассейн, где флэшбэком нам показывают ту страшную сцену зверского наказания Имхотепа, когда его собираются заживо запереть в саркофаге, и реинкарнации Анхесенамон, которую значительно сократили в окончательной версии фильма.
Двойная роль Циты Йоханн также добавляет драматизма «Мумии». Актриса венгерского происхождения имела короткую, но яркую кинокарьеру в фильмах Гриффита и Говарда Хоукса, а также определенную известность как театральная актриса на нью-йоркских подмостках. Она была весьма темпераментной исполнительницей, наделенной экзотической красотой, слабо вписывающейся в стереотип египетской принцессы, и твердо верила в реинкарнацию. По словам ее биографов, она была сторонницей «театра духа» и, готовясь к выступлению, в уединении гримерной «позволяла себе умереть» и вживалась в своего персонажа.
Актриса была предана театральной сцене, но не испытывала подобного к экрану. Она считала, что слишком хороша для работы в кино, и однажды сказала, что «больше уважает проституток на 42-й улице, чем голливудских звезд». В конце концов она прельстилась прибыльными заработками в киноиндустрии, хотя у нее была репутация конфликтной и строптивой актрисы, и ее кинокарьера в 1930-х годах ограничилась полудюжиной фильмов.
Во время съемок «Мумии» между Йоханн и Борисом Карлоффом чувствовалась настоящая химия, что нашло отражение и в их совместных сценах. Актриса замечала глубокую печаль в глазах своего коллеги и даже сказала, что его глаза «как разбитые зеркала», но трудно понять, имела ли она в виду исполнителя или романтический настрой персонажа.
Несколько более напряженными были отношения Циты Йоханн с режиссером Карлом Фройндом, только что дебютировавшим в качестве режиссера после того, как он оставил свой узнаваемый след как оператор в фильме «Дракула». Именно Фройнду история кинематографа обязана бережной эстетикой в постановке света, созданием таинственной атмосферы и утонченностью в обращении с камерой, которая ощущается в тех крупных планах Ардат-Бея, когда он смотрит прямо на зрителя, словно пытаясь его загипнотизировать. Но Цита Йоханн быстро раскусила в нем неопытного режиссера, называла его «огромным монстром», и во время съемок часто возникали конфликты. Фройнд, несмотря на свою приветливую внешность, видимо, действительно имел в себе что-то от монстра, и в какой-то момент решил отомстить за свои постоянные конфликты с актрисой, заставив ее ходить среди львов (6).
Одной из ценных особенностей «Мумии» Фройнда является умелое сочетание романтики, ужасов, триллера и экзотики в сюжете, в котором то, что предполагается, важнее того, что показано. В отличие от продолжений, таких как «Гробница мумии», «Призрак мумии» или «Проклятие мумии», снятых в 1940-х годах, а также от некоторых совсем недавних фильмов с избыточным использованием спецэффектов, в версии с Карлоффом в главной роли нам никогда не показывают забальзамированного персонажа, подволакивающего ноги и обмотанного бинтами. Чтобы представить его, нам достаточно безумного смеха молодого археолога, который осмелился вернуть его в мир живых.

Человек-невидимка
Бестелесное зло

«Незнакомец появился в начале февраля – ветер и метель бушевали в тот ледяной день, это был последний буран в этом году, – но он пришел пешком со станции Брамблхерст – толстые перчатки на руках и маленький черный чемоданчик. Он был покрыт от макушки до лодыжек, широкий ободок шляпы скрывал его лицо, обнажая лишь блестящий кончик носа»*.
Начальные строки романа Герберта Джорджа Уэллса «Человек-невидимка» служат визитной карточкой главному герою, Джеку Гриффину, когда мы представляем себе, как он борется со стихией по дороге к небольшой английской деревушке. Название служит нам предостережением о том, что зловещий персонаж укутан, скорее всего, не из-за зимней стужи, а по другим причинам. То же самое происходит и в сцене, открывающей киноверсию, снятую Джеймсом Уэйлом в 1933 году и считающуюся одним из первых фильмов, сочетающих в себе ужасы, научную фантастику и немалую долю черного юмора.
Г. Дж. Уэллс публиковал роман «Человек-невидимка» в 1897 г. по частям в одном из лондонских еженедельников. К тому времени он уже написал «Машину времени» и «Остров доктора Моро», благодаря которым стал известным автором, придерживающимся ярко выраженной левой феминистской идеологии, ярым защитником теорий эволюции и научных достижений. Его также беспокоили этические ограничения исследований и риск вмешательства в законы природы. Об этом часто говорили уже в его время, но он был не первым писателем, обратившимся к проблеме невидимости и ее опасных последствий. На самом деле, необходимо обратиться к греческим авторам, таким как Геродот и Платон, чтобы обнаружить далекого предшественника Джека Гриффина – пастуха Гигеса, нашедшего волшебное кольцо, способное сделать его невидимым. В таком состоянии Гигес был способен на величайшие злодеяния, что только подтверждало философский пессимизм, согласно которому мнимая доброта человека обусловлена лишь его телесным состоянием и социальным контролем.
На протяжении XIX века некоторые англосаксонские авторы (1) писали романы, в которых главные герои пользовались невидимостью, чтобы абсолютно безнаказанно исполнять свои самые невыразимые желания и фантазии. Г. Дж. Уэллс, обращаясь к этой теме, также использовал этот подход. С тем лишь отягчающим обстоятельством, что Джек Гриффин был амбициозным ученым, который, став невидимым, не смог найти противоядия и попал в круговорот безумия, жестокости и мании величия.
Вряд ли Universal интересовала этическая подоплека персонажа. Компания уже была успешной благодаря своим предыдущим хоррор-постановкам и, вероятно, увидела в названии «Человек-невидимка» и популярности его автора достаточно причин для запуска нового кинотворения, которое в данном случае основывалось на противостоянии личности безумного сыщика и монстра в человеческом обличье. Чтобы перенести его на экран, продюсерская компания столкнулась с несколькими проблемами. Уэллс был крайне разочарован другими версиями своих романов (2), поэтому нужно было создать сценарий, который не вызвал бы его опасений, а также обеспечить правдоподобность спецэффектов для главного героя, ведь нам предстояло только слышать его голос.
После более чем дюжины неудачных сценариев, под некоторыми из которых были подписи Престона Стерджеса или Джона Хьюстона (3), выбор пал на Роберта Седрика Шеррифа. Этот английский писатель прославился как автор пьесы «Конец путешествия» (Journey’s End), основанной на его собственном опыте (он был офицером во время Первой мировой войны) и ставшей впоследствии успешным фильмом режиссера Джеймса Уэйла. Шеррифф уже сотрудничал с Уэйлом и Universal в работе над «Домом теней», и теперь они встретились снова, когда он принес сценарий «Человека-невидимки», довольно точно соответствующий оригинальному роману. В 1930-е годы наука продолжала волновать общество; люди с опаской относились к скорости новых технологических открытий и возможности их попадания не в те руки.
Решение снимать «Человека-невидимку» также стало вызовом для Джона Фултона, руководителя студии по спецэффектам, которого в народе называли «Доктором». Ему предстояло разработать серию трюков, сочетающих иллюзионизм и кино и напоминающих о магии Мельеса. (4) На самом деле Фултон, пожалуй, ответственен за самые яркие сцены и моменты фильма.
Первый из таких моментов – это сцена, в которой Джека Гриффина, уже продемонстрировавшего свое агрессивное поведение по отношению к владельцам гостиницы «Львиная голова» (The Lion’s Head) и превратившего свою комнату в лабораторию, застает врасплох полицейский и группа местных жителей. Он начинает снимать накладной нос, темные очки и одежду, и мы видим перед испуганными зрителями лишь белую рубашку, танцующую посреди комнаты – презрительная, насмешливая картина. Вскоре после этого Гриффин продолжает свои злодеяния: избивает других прихожан, крадет велосипед, отбирает у старика шляпу и сеет хаос в городе – сцена, которая скорее напоминает юмористический фарс, чем внушает ужас.
Настроение меняется по мере того, как бредовое состояние Гриффина прогрессирует и он сталкивается с трудностью поиска противоядия от монокаина, вещества, которое привело к его невидимости. Это снова становится очевидно в другой антологичной сцене, когда Гриффин принимается снимать повязки со своей головы перед зеркалом в доме Артура Кемпа, своего коллеги (его играет Уильям Хэрриган). Кемп безуспешно ухаживал за девушкой Гриффина, Флорой (Глория Стюарт), едва не предал его и еще не знает, какая роковая судьба его ждет, – и этот момент отлично проработан отделом спецэффектов.
Для трюка в сцене с зеркалом и других кадрах с главным героем Фултон применил технику наложения изображений, для которой использовал полностью черные декорации, а также с ног до головы покрыл персонажа облегающей одеждой и черными бархатными перчатками. Затем эти кадры накладывались на реальные декорации в ходе трудоемкого процесса ретуширования. В общей сложности было обработано до 64 000 кадров, чтобы получить конечный результат, который не перестает удивлять.
К этому следует добавить использование весьма удачных моделей, демонстрирующих нам сход поезда с рельсов или падение автомобиля с обрыва, сигареты, загорающиеся прямо в воздухе, кресла, продавливающиеся под весом невидимого Гриффина, и бесчисленное количество предметов: книг, стаканов, чернильниц… которые движутся с помощью незаметных глазу тросов. В том числе одна из финальных сцен, в которой отпечатки ног главного героя на снегу будут единственным, что выдаст его присутствие.
Помимо изобретательности Фултона, режиссура Джеймса Уэйла придала фильму нотки черного юмора, смягчив критические намерения Г. Дж. Уэллса. За два года до того, как Уэйл принял заказ на создание «Человека-невидимки», он снял «Доктора Франкенштейна», и Universal хотела, чтобы он занялся продолжением. Уэйлу эта идея не слишком понравилась, а он пользовался авторитетом и творческой свободой, которые позволяли ему выбирать. Поэтому он остановился на экранизации романа Уэллса и вложил в нее изрядную долю сатиры на сельскую жизнь в лице владельцев гостиницы, местных жителей, местной полиции и целой галереи персонажей, с которыми он играет так, словно они часть безумной комедии. Не случайно Уэйл задействовал в фильме множество актеров и актрис британской школы, в том числе ирландку Уну О’Коннор, сыгравшую хозяйку «Львиной головы». Игра актрисы, когда ее невидимый гость начинает творить свои дела в трактире, вызывала постоянный смех Уэйла во время съемок, из-за чего часто приходилось переснимать дубли.
Перемена в главном герое становится пугающей, после того как он совершает свое первое убийство, а также во время его разъяснительной беседы с Артуром Кемпом, его коллегой, в ходе которой он заявляет о своем стремлении воспользоваться невидимостью, чтобы «установить режим террора». Уэллс вкладывает в его уста такие слова: «И этот Невидимка, Кемп, должен установить царство террора. Вы изумлены, конечно. Но я говорю не шутя: царство террора. Невидимка должен захватить какой-нибудь город, хотя бы этот ваш Бэрдок, терроризировать население и подчинить своей воле всех и каждого. Он издает свои приказы. Осуществить это можно тысячью способов, скажем, подсовывать под двери листки бумаги. И кто дерзнет ослушаться, будет убит, так же как и его заступники».
В фильме эта встреча не менее показательна. Гриффин объясняет Кемпу свое намерение убивать без разбора: «Мы начнем с нескольких убийств: обычных людей и важных персон. Просто чтобы показать, что мы не делаем различий». И, наконец, он раскрывает свое намерение господствовать над миром с помощью «невидимых армий», подтверждая своему напуганному коллеге, что он вступил в бредовую фазу и что в конечном итоге он попадет в заголовки газет и вызовет волнения в обществе по всей стране.
Выбирая актера на роль Гриффина, Джеймс Уэйл сделал довольно рискованную ставку: на Клода Рейнса, английского актера, совершенно неизвестного в Соединенных Штатах. У Рейнса, которому на момент съемок «Человека-невидимки» было уже сорок четыре года, был большой опыт работы на английской сцене не только как исполнителя, но и как преподавателя драматического искусства, чьими учениками были такие выдающиеся актеры, как Джон Гилгуд и Лоуренс Оливье. Но Рейнс был совершенно незнаком с кинематографом и за всю свою жизнь посмотрел едва ли полдюжины фильмов. После нескольких лет работы на бродвейской сцене он прошел прослушивание для фильма с Кэтрин Хепберн, и его голос привлек внимание Уэйла, который нашел хриплый тембр и ироничную текстуру его акцента идеальными. (5)
Голос Рейнса был следствием паралича голосовых связок, пораженных ядовитым газом во время Первой мировой войны, но именно он сыграл решающую роль в создании характера Гриффина, поскольку его лицо можно было увидеть лишь на несколько мгновений. Театральная жестикуляция, временами сдержанная, а временами неконтролируемая, создавала мастерский и тревожный образ человека, потерявшего малейшую способность к сочувствию.
После первых показов в некоторых американских кинотеатрах в октябре 1933 года, нью-йоркская премьера фильма «Человек-невидимка» состоялась в театре Roxy месяц спустя. Успех был настолько безоговорочным, что с тех пор последовали бесчисленные сиквелы с бесконечными вариациями обезумевшего ученого и многочисленными названиями с прилагательным «невидимый»: «Возвращение человека-невидимки», «Женщина-невидимка», «Невидимый шпион», «Исповедь невидимки» и совсем недавняя версия «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс в главной роли в 2020 году. Персонажи Marvel, телесериалы и мультфильмы находили вдохновение в невидимости, а также в хитроумных трюках «Доктора» Фултона.

Начислим
+30
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе