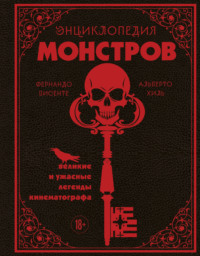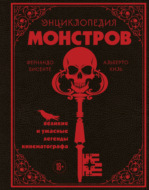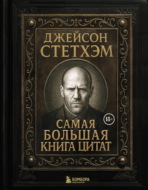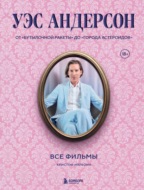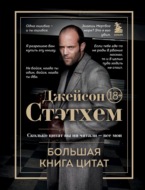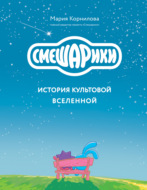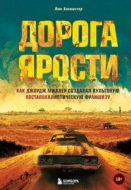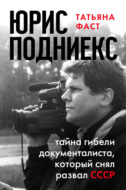Читать книгу: «Энциклопедия монстров. Великие и ужасные легенды кинематографа», страница 2
Дракула
«Я никогда не пью… вино»

Легенда гласит, что в конце жизни Бела Лугоши спал в гробу и перед смертью – в августе 1956 года – он произнес такие слова: «Я – граф Дракула, король вампиров. Я бессмертен». Обе истории, скажем так, неточны: Лугоши не считал себя Дракулой и умер без средств к существованию и в одиночестве, так что мы никогда не узнаем, какими были его последние слова, но эти и другие истории об актере доказывают, что в народном воображении возник миф, отождествляющий персонажа с его самым известным исполнителем. После того как он воплотил Дракулу в 1931 году, киноверсии романа Брэма Стокера следовали одна за другой, но ни один из исполнителей главной роли не смог сравниться с ним: графом с гипнотизирующим взглядом, одетым во фрак, как на светском приеме, и придавшим Дракуле подлинный трансильванский акцент. По иронии судьбы персонаж Белы Лугоши в какой-то мере напился его крови и, в конечном итоге, свел его в могилу.
Он был не единственным. Ирландец Брэм Стокер также вошел в историю как автор всего одного романа, хотя был весьма плодовит как в художественной литературе, так и в эссеистике. Но, как и у Лугоши, его версия вампира имела столько поклонников, что затмила все остальные его произведения, оставив их далеко позади от этого ночного существа, которому необходимо питаться человеческой кровью, чтобы существовать между жизнью и смертью.
Когда Стокер опубликовал «Дракулу» в 1897 г., посвятив несколько лет его написанию, к этому мифу уже неоднократно обращались. Но роман был не просто литературным наследием. (1) На самом деле, как случается с произведениями, получившими статус классических, «Дракула» явился совокупностью целого ряда факторов, которые пересеклись на пути писателя. Это и фантастические сказки ирландской традиции, рассказанные ему матерью, и заигрывания Стокера с оккультными обществами, и чтение книги путешествий по Трансильвании, написанной шотландкой Эмили Джерард, в которой были собраны традиции этого отдаленного региона, входившего тогда в состав Венгрии, и жестокое историческое наследие карпатского деятеля, правившего в XV веке: Влада Цепеша (2).
К этому можно добавить жесткую викторианскую мораль Лондона конца XIX века, где Стокер провел значительную часть своей жизни, а также дружбу с такими писателями, как Уэллс и Артур Конан Дойл, привычными к фантастической литературе, и эпизод, вызвавший тревогу в лондонском тумане около 1888 года: преступления Джека Потрошителя, который, как и Дракула, действовал по ночам и в качестве своих жертв выбирал женщин. Стокер не раз признавал влияние этого ночного «хищника» на процесс создания «Дракулы».
После смерти писателя в 1912 году и огромного успеха романа вполне естественно, что кинематограф заинтересовался историей о загробном мире, которую можно было бы рассказать и без звука. Среди версий, предшествовавших той, в которой снялся Бела Лугоши (3), самой леденящей душу была «Носферату», снятая Мурнау в 1922 году. В ней мы видим сгорбившегося вампира, а его голова с бритым и заостренным черепом, заостренными ушами, нечеловеческими выпученными глазами и двумя клыками, торчащими между губ, напоминает голову крысы, возникающей из темноты.
В отличие от этого экспрессионистского монстра, образ Дракулы, созданный Белой Лугоши, приобрел новое звучание, хотя актеру пришлось пройти долгий путь на театральной сцене, прежде чем он получил возможность появиться на большом экране.
Бела Ференц Дежё Блашко родился в 1882 г. в трансильванском городке Лугож (отсюда и сценическая фамилия Лугоши), когда этот румынский регион входил в состав Австро-Венгерской империи. В двадцатилетнем возрасте он дебютировал на сцене в Будапеште, а после Первой мировой войны, раненый физически и психологически, вернулся на большие подмостки венгерской столицы и стал активно выступать за объединение актеров в профсоюзы. В конце 1920-х годов Лугоши снялся в ряду немецких фильмов, а в 1921 году отплыл в США, преодолев строгий иммиграционный контроль, чтобы обосноваться в Нью-Йорке и попытать счастья в «Большом яблоке».
В Европе он прославился как драматический актер, но в Нью-Йорке был совершенно неизвестен и вынужден был пробивать себе дорогу на сценах венгерской колонии. Прорыв в его актерской карьере произошел в 1927 г., когда он сыграл главную роль в сценической версии «Дракулы», которая с ошеломляющим успехом и одобрением критиков была показана на Бродвее. Зрители привыкли к присутствию этого утонченного исполнителя, акцент которого выдавал его среднеевропейское происхождение и который глазами и руками умел выразить такие противоположные регистры, как ужас и соблазн.
Спустя три года компания Universal наконец-то решилась на съемки киноверсии театрального сценария, взвесив все «за» и «против» этого решения. К плюсам можно было отнести почти несомненный успех сюжета, подтвержденный кассовыми сборами после гастролей по нескольким американским сценам и почти 300 спектаклями. Из минусов – необходимость выплачивать большие гонорары вдове и законной наследнице Брэма Стокера Флоренс Бэлкам, когда киностудии не хотели идти на большой риск по причине только что случившегося биржевого краха на Уолл-стрит.
На роль графа рассматривалось несколько актеров. Уверенные позиции занимали Конрад Фейдт, Лон Чейни и Бела Лугоши, но Чейни, который был фаворитом, умер от рака. Лугоши хотел сыграть Дракулу на большом экране, и в этом ему помогла его известная театральная роль. Кроме того, он был согласен получить за свою работу совсем небольшую плату, и, как говорят, именно ему удалось добиться от правообладателя значительной скидки. Таким образом, он оказался достоин этой роли, осуществил свою мечту и оставил нам бессмертный образ.
Режиссером «Дракулы» стал Тод Браунинг, который работал вместе со своим оператором Карлом Фройндом, с которым периодически ссорился. Браунинг был опытным американским режиссером, уже участвовавшим в нескольких хитах немого кино с Лоном Чейни. Юность он провел среди странствующих цирков, людей с физическими особенностями и ярмарочных аттракционов, и у него появилась нездоровая склонность к гротеску. По факту, через год после «Дракулы» он дал волю этому увлечению, сняв фильм «Уродцы». Австриец Карл Фройнд имел репутацию творческого и оригинального оператора, работавшего с великими мастерами немецкого кино над такими картинами, как «Последний человек» и «Метрополис».
В итоге на протяжении всего времени действия фильма «Дракула» для любого внимательного зрителя очевидно несходство стилей и настроений Браунинга и Фройнда. Первый немного разочарован низким бюджетом фильма (4), а второй готов приложить все усилия, став почти сорежиссером и оставив свой след в некоторых лучших сценах, где можно оценить элегантность движений его камеры.
Начало фильма впечатляет, учитывая примитивные средства того времени. Конная повозка едет по одинокой дороге через горный пейзаж (нарисованный на стекле перед объективом). Среди путешественников – Ренфилд (его играет Дуайт Фрай), невинный агент по недвижимости, которому поручено найти дом в Лондоне для графа Дракулы. Дилижанс останавливается в придорожном трактире, и, несмотря на предупреждения трактирщиков, Ренфилд продолжает свой путь в темноте ночи к дому своего клиента.
Одна из наиболее ярких сцен имеет место внутри замка, представляющего собой подобие разрушенной готической крепости. Камера блуждает в тенях склепа, в котором можно разглядеть несколько каменных саркофагов. Среди них перемещаются мелкие животные: броненосцы, опоссумы и случайные насекомые, готовя кульминацию – неминуемое появление Дракулы. Саркофаг медленно открывается, появляется бледная рука с острыми ногтями, и тогда мы впервые видим графа, стоящего посреди склепа и смотрящего в камеру. Глаза, освещенные таким образом, что все остальное лицо остается в темноте, станут визитной карточкой Белы Лугоши, который появляется в сопровождении трех статичных женщин в белых одеждах, уже поддавшихся магнетизму вампира.
Встреча Дракулы и Ренфилда происходит в замке, на середине каменной лестницы, под далекий вой волков. Интересен и момент, когда гость случайно получает небольшой порез на пальце и чудом избегает первого укуса хозяина благодаря вовремя оказавшемуся рядом распятию. Незадолго до этого граф произносит свое знаменитое «Я никогда не пью… вина», и зритель чувствует, что Ренфилд уже попал в паутину, а Дракула вскоре станет его хозяином, загипнотизировав его и отстранив от него трех женщин-вампирш, что цензура того времени расценила как акт гомосексуальной эротики. (S)
Путешествие графа в Лондон в компании Ренфилда и медленное погружение последнего в безумие и покорность (в мастерском исполнении Фрая) достигают поистине магнетических моментов. Например, когда они добираются до места назначения и Дракула заглядывает в люк корабля, всю команду которого он уничтожил, или когда граф ползет на четвереньках к возможной жертве, потерявшей сознание на полу. В обоих случаях Фрай сопровождает свои действия нервным смехом, леденящим кровь сочетанием ужаса и безумия.
Последующие встречи Дракулы с его главной жертвой, юной Миной (Хелен Чэндлер), или с его антагонистом, доктором Ван Хельсингом (Эдвард Ван Слоун), страдают от жесткости версии, в которой чувствуется театральное происхождение текста, но даже в этих сценах Бела Лугоши с апломбом изображает ироничного и культурного аристократа, который сделает его знаменитым.
Премьера фильма «Дракула» состоялась 12 марта 1931 г. в нью-йоркском монументальном Roxy Theatre (ныне не существует), а рекламная кампания обещала зрителю «самую странную страсть, которую когда-либо знал мир». Успех фильма был настолько ошеломляющим, что пополнил казну Universal и ознаменовал начало золотого века жанра ужасов. В свою очередь, персонаж поглотил Белу Лугоши. И хотя после «Дракулы» он снялся в бесчисленных научно-фантастических фильмах, ужасах и триллерах и даже сделал камео с Гретой Гарбо в «Ниночке», в 1940-х годах Лугоши встал на путь саморазрушения, признал свою зависимость и показал израненные шприцами ноги. Лишь в 1950-х годах ему удалось ненадолго спастись благодаря Эду Вуду и съемкам в нескольких фильмах этого кинодеятеля, названного «худшим режиссером в истории» (5).
Легенда о вампирах была и остается универсальной неиссякаемой жилой для романов, графики, телевидения и кино. Достаточно вспомнить «Дракулу» с Кристофером Ли в главной роли, «Голод», гламурную версию с Дэвидом Боуи и Катрин Денев или «Дракулу Брэма Стокера» в постановке Копполы – фильмы, позволяющие сделать вывод, что миф этот так же бессмертен, как и его главный герой.

Доктор Франкенштейн
Невинное чудовище

«Он живой, живой! Теперь я знаю, каково это – быть Богом!» В этих восторженных словах (1), которые произносит охваченный эйфорией доктор Франкенштейн, увидев первые слабые движения своего создания и осознав, что он создал жизнь, заключена суть фильма и этическая дилемма, которая ощущалась еще в оригинальном романе Мэри Шелли.
Как уже известно, «Доктор Франкенштейн», снятый компанией Universal в 1931 г., основан на романе «Франкенштейн, или Современный Прометей», написанном в 1816 г. Мэри Шелли во время знаменитого «заточения» на вилле Диодати. (2) Шелли было восемнадцать лет, когда она придумала его во время творческой «сессии», к которой ее подтолкнул вызов лорда Байрона, но история ученого, одержимого идеей создания жизни и подражания Богу, объединила более ранние материалы. Произведение Мэри Шелли, как и само существо, родилось в результате соединения нескольких ингредиентов.
Первым из них был загадочный персонаж – Иоганн Конрад Диппель, немецкий физик, теолог и алхимик, живший в конце XVII – начале XVIII века в замке Франкенштейн (сохранился недалеко от города Дармштадта). У Диппеле была слава безумца и преступника, поговаривали, что в своем замке он проводил опыты по перемещению души из одного тела в другое и оживлению трупов с помощью электричества.
Писательница, воспитанная в культурной среде, не могла не знать и о практиках итальянского физика и врача Луиджи Гальвани, который использовал электрический ток для опытов над мертвыми животными. Другой ученый, современник Шелли, – Эндрю Кросс, также был погружен в изучение связи между электричеством и происхождением жизни. Наконец, распространенной практикой в Англии того времени было воровство трупов с кладбищ, и романистка, конечно, должна была знать об этом. Трупы предназначались для изучения на медицинских факультетах, и легальным это стало только после принятия Анатомического акта, разрешающего их использование в учебных целях.
Бьющее через край воображение юной Шелли дополнило картину, и хотя авторство ее произведения было полностью признано только в 1831 г. (и к тому моменту оно уже четыре года как было перенесено на театральные подмостки), роман стал одним из самых влиятельных произведений романтизма и готического ужаса XIX века. В начале прошлого века, в 1920-х годах, создание Шелли вернулось на сцену благодаря театральной версии, написанной англичанкой Пегги Веблинг и озаглавленной «Франкенштейн».
Дорога на кинопленку была проложена, и вскоре после успеха «Дракулы» Белы Лугоши «Доктор Франкенштейн» утвердил ставку на фильмы ужасов, которую Universal сделали в разгар Великой депрессии, предлагая доступный способ эскапизма – страх, – в то время, когда реальность была гораздо более тревожной. Ставка эта работала вплоть до 1940-х годов и превратила крупную кинопроизводственную компанию в прибыльную фабрику монстров и в главный генератор икон поп-культуры XX века. Культуры, в которой волнующая игра Бориса Карлоффа уже заняла свое звездное место, а некоторые сцены почти сто лет спустя продолжают заставлять нас ерзать в креслах.
И это неспроста. С первых кадров фильма, после того как разодетый ведущий (в исполнении Эдварда Ван Слоуна, которого мы увидим позже в роли профессора Вальдмана) готовит нас к встрече с ужасом, тот показан во всей своей резкости в мрачной сцене похорон в сумерках. Камера фиксирует момент в ярко выраженных экспрессионистских кадрах и палитре черно-белой фотографии. Спрятавшись в тени кладбища, Франкенштейн (в исполнении Колина Клайва) и его помощник Фриц (Дуайт Фрай, снова в роли завороженного слуги, прославившей его в «Дракуле») ждут, когда могильщик закончит свою работу, чтобы украсть труп и продолжить создание существа. Последним будет мозг, который Фриц украдет, не подозревая, что он принадлежал убийце.
Лаборатория, в которой происходит эксперимент, также обнаруживает влияние экспрессионистской атмосферы «Кабинета доктора Калигари» и интерьеров «Дракулы» через вертикальные пространства, маленькие окна и лестницы башни, в которой Франкенштейн устроил свою операционную. На кушетке мы видим тело существа, покрытое простынями и окруженное множеством электрических приборов (3), которые делают Франкенштейна предтечей другого архетипа – безумного ученого, одержимого идеей завершить свое творение за гранью добра и зла. Он добивается своего под раскат грома и молнии, существо оживает, и мы видим монстра, странно движущегося, способного впасть в экстаз при попытке схватить луч света или испугаться факела, которым садист Фриц размахивает перед его лицом.
Конечно, если нужно подчеркнуть главную сцену, в которой наивность и ужас, окружающие создание, сгущаются, то это будет сцена на берегу озера, где происходит его встреча с девочкой. (4) Маленькую Марию не пугает внешний вид чудовища. Напротив, она, видимо, почувствовав его беспомощность, делится с ним ромашками, которые они оба бросают в воду и смотрят, как те плывут. Когда цветы заканчиваются, существо, заигравшись, бросает в воду девочку. Затем отец несет труп девочки сквозь праздничный город, а чудовище, ставшее убийцей, преследует толпа с факелами, к которой присоединяется сам доктор Франкенштейн, очень сожалеющий о том, что пытался подражать Богу. (S)
Возможно, ни один из этих моментов не вошел бы в историю (по крайней мере, в той же степени), если бы за этим грандиозным созданием не стоял такой же грандиозный исполнитель – Уильям Генри Пратт, всем известный как Борис Карлофф. Пратт родился в Лондоне в 1887 году и провел свою юность в Англии, а в двадцатилетнем возрасте уплыл в Канаду. Там он работал в самых разных сферах и вскоре сделал первые шаги в театре, где притворился состоявшимся актером, получившим опыт на лондонских подмостках. Вскоре стало очевидно, что Пратт – новичок, но он все же продолжил выступать, зарабатывая гроши и шаг за шагом строя свою карьеру.
К 1913 году Пратт, который уже был Борисом Карлоффом, решил попытать счастья в Голливуде. Впереди у него было еще несколько лет, полных небольших ролей и работ второго плана, и очевидный путь к провалу, но Карлофф не оставался незамеченным. Его рост в метр восемьдесят четыре, элегантные манеры и внешность человека, преисполненного спокойствием, не могли не привлечь внимание в суете киностудий.
Встреча, изменившая его судьбу, произошла в 1931 году в столовой Universal, когда актеру было уже сорок четыре года. Английский режиссер Джеймс Уэйл получил заказ на постановку «Франкенштейна», и Бела Лугоши по разным причинам отказался от роли монстра. Уэйл был поражен обликом Бориса Карлоффа, который, как ему показалось, очень хорошо соответствовал эскизам, созданным им для этого персонажа. Описание этой встречи составляет часть туманной и почти всегда фантастической истории Голливуда, но сам Борис Карлофф вспоминал, что Уэйл пригласил его на кофе и, восхитившись костной структурой его головы, предложил пройти пробы для нового фильма. Актер с энтузиазмом согласился, хотя его тщеславие было несколько уязвлено тем, что, несмотря на его элегантность и обхождение, ему предложили роль чудовища.
Перед началом съемок в конце августа на сцену вышел еще один студийный гений – гример Джек П. Пирс, который добросовестно работал над созданием головы и тела, обессмертивших персонажа. Сеансы грима могли длиться до четырех часов, Пирс накладывал протезы, слои ваты и коллодия – эластичного вещества с сильным запахом растворителя. Сделать веки полуопущенными предложил сам Борис Карлофф, поскольку считал свой взгляд слишком ярким для того, кто прибыл из царства мертвых, и достигли этого путем наложения замазки на глаза актера, а клеммы по обе стороны шеи представляли собой места, где он должен был получить удар током.
Пирс был настолько щепетилен в своем деле, что изучил различные хирургические методы удаления и установки мозга и сделал форму черепа приплюснутой – такой, как будто у него была крышка. Проанализировав различные способы захоронений, которые в некоторых культурах приводили к удлинению рук, он одел существо в костюм на размер меньше, обул в гигантские ботинки на платформе и надел на него металлический корсет, превратив его в громоздкое чудовище ростом более двух метров.
Несмотря на подобные ограничения, ставшие причиной того, что Бориса Карлоффа до конца жизни мучили боли, актер воплотил выдающегося персонажа, медлительного, наивного, ранимого и в то же время очень опасного, способного показать богатую гамму чувств с помощью рук и выражения сузившихся глаз. Карлофф мгновенно вжился в роль, но, помимо несомненного таланта, он оказался дисциплинированным профессионалом, способным изо дня в день проходить длительные сеансы грима и его снятия, а в аномальную калифорнийскую жару носить на себе дополнительные 25 кг веса.
Немаловажную роль в создании этого существа сыграл и режиссер фильма Джеймс Уэйл, элегантный британский кинематографист, пришедший на экраны после таких хитов, как «Мост Ватерлоо» и «Конец путешествия». Уэйл был увлечен миром ужасов и обладал весьма поэтичным видением мизансцен, поэтому, получив заказ от Universal, он сразу же увидел возможность развернуть свое творчество вокруг двух маргинальных персонажей – доктора Франкенштейна и его чудовищного творения. (5) Возможно, открытая бунтарская позиция Уэйла повлияла на его слабость к фигурам, не подчиняющимся социальным условностям того времени. Действительно, в подтексте некоторых диалогов, например, между Франкенштейном и его напуганным бывшим наставником профессором Вальдманом, чувствуется стремление бросить вызов господствующей морали.
В качестве отправной точки Уэйл использовал успешную сценическую версию Пегги Веблинг, и – как и в случае с фильмом «Дракула», также основанном на пьесе, – «Франкенштейн» во многом утратил связь с оригинальным романом. Ни описание существа, ни его приключения, ни развязка не имеют ничего общего с произведением Мэри Шелли.
Кино способно воссоздавать очень убедительных и «долгоиграющих» монстров, и фильм «Доктор Франкенштейн» получил огромное влияние после своей премьеры в ныне несуществующем Mayfair Theatre в Нью-Йорке в декабре 1931 года. Это было не первое появление монстра на экране (6), но самое убедительное. Творение Бориса Карлоффа и Джеймса Уэйла получило целый легион поклонников (среди них – Рэй Брэдбери, Спилберг и Гильермо дель Торо) и бесконечную череду пародий, сиквелов и пересмотров, к которым приложили руку такие люди, как Мел Брукс, Кеннет Брана или Тим Бертон. Не забудем и о сцене встречи существа и девушки в «Духе улья» Виктора Эрисе, ставшей данью уважения «Доктору Франкенштейну».

Начислим
+30
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе