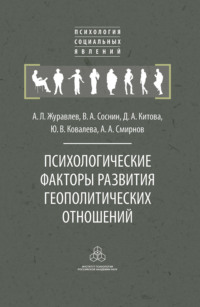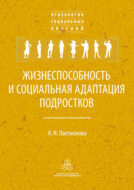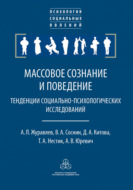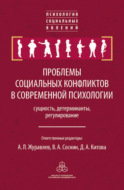Читать книгу: «Психологические факторы развития геополитических отношений», страница 4
Таким образом, с опорой на концепции русской геополитической школы возможен переход к анализу геополитической проблематики с привлечением психологической науки, – в частности, социально-психологической концепции коллективного субъекта (Журавлев, 2002, 2018), основные положения которой перекликаются с понятиями, используемыми в описанных выше теориях. Основной категорией, через которую возможно представить такое, например, понятие, как судьба, может стать субъектность большой социальной группы. Данное понятие открывает путь к исследованию внутренних (внутригрупповых) и внешних (межгрупповых) взаимосвязанности и взаимозависимости, совместной активности (ее проблем, задач, целей и видов) и совместной рефлексии (как отражения в сознании членов группы вопросов, связанных с геополитическими реалиями, осознания своей роли, возможностей и перспектив).
Глава 3. Психология геополитических отношений
Изречение древнегреческого поэта и ученого V в. до н. э. Симонида Кеосского гласит: «Для полного счастья человеку надобно иметь славное Отечество». Симонид употребляет именно слово πατρίδα («патрида») – отечество. По русской этимологии, восходящей к индоевропейской, отечество – земля предков, имеющая сакральный смысл избранной, родной страны, которую надо беречь и защищать. Эта мудрость прекрасно выражает связь между психологическим благополучием и жизнеспособностью человека и общества. Проблема данной связи является фундаментальной и активно разрабатывается в последние годы как в рамках психологической науки, (Жизнеспособность…, 2016; Психологическое здоровье…, 2014), так и в области экономических и политических дисциплин, которые отмечают зависимость субъективного благополучия жителей от статуса страны их проживания (М. К. Горшков, Ж. Т. Тощенко и др.).
Понятие страны в политико-географическом смысле всегда связано с какой-либо территорией, а дисциплиной, изучающей способы контроля и распределения сфер влияния различных государств над теми или иными территориальными образованиями, является геополитика. Исторически различают традиционную геополитику, рассматривающую для достижения целей государства в основном военные средства, новую геополитику – геоэкономику, делающую упор на экономические механизмы защиты и экспансии, и новейшую геополитику – геофилософию. Последнее понятие самым тесным образом связано с психологическим аспектом геополитических отношений, что позволяет еще раз подчеркнуть актуальность его изучения.
Субъектами и объектами геополитики являются территории государств, сами государства и социум в целом. При этом термины геополитические и международные отношения, относящиеся к так называемым общественным, социальным отношениям, возникающим между геополитическими субъектами, не являются в достаточной мере проработанными (Асташин, 2011).
Информация, почерпнутая из разных источников, позволяет предложить следующее рабочее определение понятия геополитических отношений: это особый вид отношений, складывающийся между государствами с различными статусами по поводу власти, государственного устройства и управления обществом, осуществляемый на международном уровне и оцениваемый в соответствии с рядом геополитических критериев. Среди этих критериев – площадь территории страны, природа ее границ, численность населения, его этническая однородность, экономическое и технологическое развитие, уровень социальной интеграции, политическая стабильность др. Государственные статусы, обусловленные этими критериями, определяют различные типы отношений между государствами и их населением, защищающими и продвигающими военно-политические, экономические и цивилизационные интересы их территорий.
Несмотря на то, что социально-психологические детерминанты различных геополитических проблем (в частности, информационных войн) уже получили освещение в ряде исследований (Ковалева, Соснин, 2017; Психологические исследования…, 2018), собственно психология геополитических отношений отдельно не рассматривалась. Проведем ее анализ на основе концепции психологических отношений (Позняков, 2015, 2016).
С позиций этого подхода, психологические отношения понимаются как «социально-психологические характеристики субъектов различных видов жизнедеятельности, представляющие собой эмоционально окрашенные представления и оценки, объектами которых выступают внешние условия жизнедеятельности и активности субъекта, характеристики самой активности и ее субъектов, представители различных социальных групп, с которыми они (субъекты отношений) связаны различными видами взаимодействий» (Позняков, 2018, с. 172). Психологические отношения – это динамические характеристики индивидуального и группового сознания. Они имеют различную степень устойчивости и изменчивости во времени (в зависимости от социальных условий), обладают пространственной характеристикой, поскольку предполагают определенную позицию к объектам отношений, в качестве которых выступают различные явления окружающего мира, другие люди (группы) и сам субъект (группа) отношений. Пространственный критерий имеет отношение к базовым категориям социальной психологии – «мы» и «они», «свои» и «чужие». Эти понятия тесно связаны с понятием совместности (Журавлев, 2005), отражающим пребывание как в едином жизненном пространстве (совместная жизнедеятельность), так и в едином социокультурном и ценностном контексте.
В структуре психологических отношений выделяются когнитивный (знания об объекте отношений), эмоциональный (эмоционально окрашенная оценка) и поведенческий (готовность к действию в соответствии с оценкой) компоненты. Психологические отношения тесно связаны с системой ценностей, нормами и представлениями о должном человека или группы, обусловлены предшествующим жизненным опытом субъекта. Они помогают самоопределению субъекта, выражающемуся в его «осознаваемой, избирательной, активной позиции… в изменяющихся условиях жизнедеятельности», в регуляции его социального поведения «в различных поступках, являющихся результатом сознательного выбора», а также причастны к «социально-интегративной функции… проявляющейся в психологической общности социальных групп, формирующейся на основе сходства психологических отношений их представителей» (Позняков, 2018, с. 173). Необходимо подчеркнуть, что психологические отношения являются именно феноменом сознания, т. е. «отрефлексированным в сознании субъекта содержанием связей с объектами окружающего мира» (там же, с. 169).
Представляется, что приведенные выше положения можно применить к анализу психологического аспекта геополитических отношений. Для начала необходимо повторить, что субъектами геополитических отношений являются государства, несущие функцию защиты своей территории и продвижения своих интересов в других регионах, а также большие социальные группы, представляющие население территории конкретного государства (Журавлев, Емельянова, 2009). Избирательные и ценностные составляющие психологических отношений геополитических субъектов отражают следующие коллективные феномены:
– коллективные представления и знания о политико-географическом статусе своей государственной территории по отношению к другим территориям: ближайшим соседям, дружественным или нет; к центрам мировой политики; к «горячим точкам», в которых происходят военные конфликты; к собственным природным ресурсам; к территориям, связанным с какими-либо ресурсами; и др.;
– эмоциональную оценку своего географического статуса и статуса других территорий: гордость, которую испытывают, например, жители нашей страны по отношению к своей самой большой государственной территории в мире; обеспокоенность близким военным конфликтом; тревогу в связи с недостаточными ресурсами (например, в соответствии с последними тенденциями такую оценку вызывает дефицит водных ресурсов); переживания по поводу наличия ресурсов, которые могут вызывать интерес и экспансию других субъектов; симпатии/антипатии к жителям стран-партнеров или стран-соперников; и др.;
– готовность к определенному поведению в соответствии с динамикой геополитической ситуации: базовая готовность к защите страны при военном конфликте; коллективные акции по защите фундаментальных ценностей страны (например, «Бессмертный полк», см. подробнее: Ковалева, Соснин, 2017); декларация своего отношения к другим субъектам.
Коллективные представления и знания о геополитическом статусе, своем и партнеров, определяют фокус внимания и последующие позитивные или негативные эмоциональные оценки различных событий или явлений в зависимости от осознания наличного статуса и перспектив развития геополитической ситуации. При этом оценочная и поведенческая составляющие психологического отношения непосредственно связаны с коллективными ценностями, которые являются основанием для сравнения, оценивания и принятия решения действовать определенным образом.
Каждая территория имеет свои субъекты геополитических отношений. Ведущими из них являются государство, непосредственно реализующее интересы страны и территории, и население, которое, в свою очередь, может быть представлено различными большими социальными группами. Поэтому для психологического благополучия общества важно максимальное совпадение составляющих психологического отношения этих ведущих субъектов к другим геополитическим субъектам, партнерам или соперникам. Очевидно, что такое совпадение является идеалом, и именно в истории нашего народа было проявлено подобное единство при защите страны во время Великой Отечественной войны. В современной ситуации при отстаивании Россией своих геополитических позиций (например, в Сирии и на Украине), в защите ею своей роли в освобождении Европы от фашизма и т. д. внутри российского общества можно наблюдать формирование групп зачастую с полярным психологическим отношением к интересам страны и к их реализации на международной арене. Несовпадение оценок способно проявить себя как внутри общества, так и в связи с определенными действиями государства (Ковалева, Соснин, 2017).
Необходимо обозначить, что психологические отношения к геополитическим явлениям представляют собой одну из основ процессов интеграции и дифференциации в обществе. Так, в основе групповой геополитической самоидентификации лежит осознание народом страны: 1) связей с территорией проживания; 2) своей роли в собственной и мировой истории; 3) особенностей взаимоотношений с другими странами; 4) интересов и перспектив развития страны. Например, геополитическая самоидентификация россиян исторически связана с освоением значительных территорий, с полноценной интеграцией этих территорий в жизнедеятельность государства. Интересы и перспективы России также всегда были связаны прежде всего со своей территорией, с ее внутренним развитием и освоением. Геополитическая самоидентификация россиян характеризуется мирной позицией по отношению к другим странам и отсутствием полицейской функции в мире, каковую абсолютно сознательно приписывают себе, например, США. Многополярность мира для современного российского общества – это поддержка экономического суверенитета как своего, так и партнеров, недопущение политических позиций государств, ориентированных на выполнение функций мирового гегемона. Тем не менее, большие размеры нашего государства, его значительный военный потенциал и фундаментальное различие ценностных моделей составляют основу для других, большей частью негативных, интерпретаций геополитической роли нашей страны в глазах мирового сообщества.
Представляют интерес для дальнейшего изучения различные аспекты российского самоотношения в связи с геополитическими процессами. Так, отмечено, что россияне (как представители государства, так и населения) достаточно эмоционально воспринимают то, что для Европы или Америки мы являемся «не своими». Только недавно в политический дискурс стали входить позитивные коннотации этого явления.
В качестве перспектив исследований в русле геопсихологии можно отметить необходимость продолжить дальнейшую разработку основных психологических аспектов геополитических отношений, исследовать основные составляющие психологических отношений геополитических субъектов, выявить ведущие условия психологического благополучия российского общества (которое связано с совпадением психологического отношения к геополитическим реалиям у государства и больших социальных групп, представляющих население страны). Важно также продолжить разработку новых научных направлений исследований, – в частности, проблемы самоотношения и самооценки россиян как субъектов геополитических отношений, а также групповой геополитической самоидентификации, характеристики и динамика которой могут отличаться в разных больших социальных группах.
Глава 4. Частные геополитические проблемы и их психологические проявления
Современная геополитическая проблематика в науке в основном связана с масштабными, затрагивающими многие страны проблемами, чаще политическими и экономическими. Некоторые из них (международное разделение труда, мировой рынок ценных бумаг, деятельность транснациональных компаний, новые информационно-коммуникационные технологии) зачастую даже не включают в себя элементов национально-государственного регулирования, формируясь в едином глобальном пространстве. Одновременно с глобальными проблемами в науке обсуждаются и тенденции к национальному обособлению, что связанно с международным признанием права каждой нации на самоопределение и самостоятельность. Эти два направления исследований хоть и имеют неравновесное масштабирование, но тщательно исследуются в рамках анализа геополитических проблем.
Вместе с тем существуют и проблемы третьего плана – уникальные, свойственные не всем территориям, или же востребованные, но узконаправленные, – обсуждение которых не привлекает активного внимания научной общественности в силу различных объективных и (или) субъективных обстоятельств. Задача этой главы – указать на несколько таких проблем, которые рассматриваются как частные случаи глобальных процессов.
Лимитрофные государства в истории геополитических отношений
Лимитрофные государства – это малые государства, которые в силу своих географических и экономических особенностей не могут обеспечить свой суверенитет. В их число входят страны Балтии, Грузия, Молдавия, среднеазиатские республики бывшего СССР, малые страны Европы и других регионов мира. В истории развития цивилизации они всегда тяготели к центрам геополитической силы – Византии, Западу, России, Китаю, Османской империи – и в зависимости от геополитической ситуации колебались в выборе, к какому центру силы примкнуть (см.: Котляров, 2007; Силаева, 2012; Чемурзиева, 2007).
В политической и научной практике лимитрофные государства часто называются разделенными, спорными или непризнанными. Под разделенными государствами понимаются независимые государственные образования, имеющие историческую традицию легитимации своего суверенного статуса и восходящие к одному территориальному и/или этническому источнику (Котляров, 2007). Термин спорное государство был официально введен в научный оборот Д. Гелденхейсом, который предлагал использовать его для обозначения всех квазигосударственных субъектов, стремящихся к формальному признанию своей независимости, но по разным причинам не получающих его (Geldenhuys, 2009). В статье З. В. Силаевой и А. Г. Большакова данный феномен рассмотрен в современной политической науке, указаны общие и особенные черты становления этих политико-территориальных образований, описаны перспективы их дальнейшего развития в мировой политике (Силаева, Большаков, 2012).
Появление данных территориальных образований в системе международных отношений актуализировало проблемы оценки критериев государственности (а точнее – их отсутствия), от решения которых во многом зависит будущее развитие спорных государств и ликвидация системной дисфункции мировой политической системы. Отечественные и западные ученые занимаются анализом механизмов функционирования и внутриполитическим развитием стран с проблемной государственностью. Но научных источников по проблематике непризнанных, частично признанных и не состоявшихся государств немного. При этом большинство из них, как правило, посвящено исследованию государств африканского континента и отдельным странам постсоветского, постюгославского пространств (Мацузаты, 2006; Петровская, 2009; Beissinger, 2002).
Существенным недостатком этих работ является то, что авторы не стремятся выработать общетеоретические методологические подходы к изучению феномена «спорные государства» и определить критерии несостоятельности и непризнанности (хотя эта проблематика скорее относится к компетенции политиков и глав ведущих государств мира). Теоретико-методологическое осмысление данных вопросов находится на этапе становления. Комплексный подход к их изучению поможет определить особенности внутриполитического развития подобных государств, выявить связь между основными тенденциями их формирования и их международным статусом (Мэр, 1999, с. 309–324).
В мире насчитывается несколько десятков государственных образований, политический статус которых оспаривается (Непризнанные государства…, 2006; Ильин, Мелешкина, Мельвиль, 2010; Троицкий, 2009). Речь идет о непризнанных или частично признанных государствах, о территориях, контролируемых в большей или меньшей степени освободительными или повстанческими движениями; о несостоятельных территориальных образованиях, обладающих некоторыми признаками государственности и ассоциирующихся с другими государствами, что позволяет признавать их статус проблемным. К примеру, непризнанное государство Приднестровская Молдавская Республика в экономическом плане развито лучше, чем сама Молдавия, а Армия обороны Нагорного Карабаха является совокупностью боеспособных воинских формирований, которые не уступают по своей организованности всем регулярным армиям государств Южного Кавказа. Еще один пример: Тайвань, частично признанное государство с фактическим контролем своей территории, осуществляет дипломатические отношения через свои экономические и культурные представительства, являясь субъектом международной политики и экономики. Более того, у каждого непризнанного государства существует свой «центр силы» (США «курирует» Республику Косово, Россия – Абхазию и Южную Осетию, Турция – Турецкую республику Северного Кипра и т. д.).
Как отмечает М. Троицкий, во всех современных случаях право на признание независимости оспаривается другими полноправными членами международного сообщества. В связи с этим «„спорное государство“ – это не полностью „непризнанный субъект“, а, скорее, квазигосударственное образование, обретению полноценного статуса которого препятствуют некоторые другие субъекты» (Троицкий, 2009, с. 138).
В центре повышенного внимания ученых и политиков в настоящее время находится вопрос о необходимости кодификации института признания, отсутствие которого привело к возникновению пробела в фундаментальном вопросе международного права и заполнению его нормативными актами, принципами и неопределенными формулировками, которые усугубили сложность проблемы (Непризнанные государства…, 2006; Силаева, Большаков, 2012; Чемурзиева, 2007).
Феномен непризнанных государств и на постсоветском пространстве, и в мировой науке в последние годы привлекает к себе внимание политиков, дипломатов, ученых, журналистов. Он не может быть исследован и понят исключительно в терминах формальной юриспруденции. Немецкий философ Ф. Лассаль в XIX в. писал о существовании двух видов конституционного права – формальном и фактическом. Это резонирует с идеями другого немецкого мыслителя, К. Шмитта, который уже в XX в. выдвинул тезис о первичности «чрезвычайного положения». Общий пафос идей Лассаля и Шмитта заключается в том, что нормативный, формально определенный порядок государственного устройства никогда не является самоценностью. Он утверждается в определенный исторический момент суверенной волей политических субъектов и действует до следующего исторического «чрезвычайного положения». Сложившаяся не столько правовая, сколько политическая коллизия, связанная с противоречием между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности, включающим нерушимость существующих границ, привела к тому, что в настоящее время ни одно государство и ни одна международная организация не готовы предложить адекватного решения этой проблемы.
Теоретически самоопределение наций может быть реализовано как минимум в четырех вариантах. Во-первых, сформировавшееся территориальное образование может отделиться от полиэтнического государства и создать собственное «национальное государство». Во-вторых, стремление к самоопределению может быть выражено в выходе моноэтнического образования из состава одного государства и в присоединении его к другому территориальному образованию, где проживает большинство представителей данной нации. В-третьих, возможно определение себя в качестве самостоятельного субъекта в составе национального государства с федеративной или конфедеративной формой территориального устройства, в той или иной мере наделенного суверенными правами и атрибутами государственности. Наконец, не исключено и определение себя в виде «национально-культурной» автономии в составе многонационального унитарного или федеративного государства. Однако какой бы из вариантов ни был выбран для реализации, это не означает автоматического признания данных государств и включения их в состав ООН (Гранин, 2003).
Несмотря на наличие научных результатов, полученных зарубежными и российскими учеными в этой области, исследования государственной несостоятельности находятся на стадии разработки. Отсутствует конкретное содержание, вкладываемое в понятие государственная состоятельность, не существует единых критериев ее оценки. Даже работа классика Дж. Неттла (Неттл, 2011) грешит отсутствием концептуализации и операционализации данного понятия, а предложенная им схема ранжирования исторически сложившихся политических систем не может быть использована как универсальный исследовательский инструмент.
Сложная ситуация вокруг спорных и непризнанных государств усугубляется тем, что в мире происходят динамичные и глубокие изменения. Одним из таких изменений является трансформация государств, которая состоит в детерриторизации власти. Границы территории государств перестают совпадать с границами власти и авторитета, а сами государства постепенно перестают быть единственными субъектами принятия решений в экономической, политической и культурной сферах. В этом процессе наряду с ними участвуют финансовый капитал и транснациональные корпорации, на принятие решений оказывают влияние медиамагнаты, международные некоммерческие политические, а также террористические организации, с которыми ряд государств в силу своей несостоятельности конкурировать не может.
Изучение проблемы спорных государств позволило выявить еще несколько ведущих тенденций в современной мировой политике. Во-первых, одним из важнейших трендов является уменьшение роли государства как главного актора мировой политики, с одной стороны, и стремление ряда этносов к обретению своей государственности – с другой. Это проявляется в том, что в одних регионах наиболее развитые страны еще в прошлом веке решили задачу создания национальных государств, а в других – этносы, ранее лишенные права на самоопределение, только сейчас, с историческим запозданием, пытаются решить эту задачу. Во-вторых, постсоциалистические страны, стремящиеся к интеграции в европейские структуры, активно оберегают свой суверенитет ради сохранения национальной идентичности. В-третьих, хотя для современного этапа характерен кризис государств, происходит увеличение их количества. Большинство государств, являющихся членами ООН и условно относящихся к устоявшимся, в настоящее время не всегда обладают классическими критериями государственности. В связи с этим территориальная организация политической жизни, представительство интересов различных социальных групп, осуществление государственной власти и управления в интересах всего общества, а также представительство и защита национальных интересов на международной арене, т. е. самостоятельная способность в полной мере реализовать свой внутренний и внешний суверенитет, не являются универсальными критериями для оценки современных государств.
Выявленные тенденции доказывают необходимость переосмысления содержательного наполнения понятия «государство». Совокупность характеристик, присущих «национальным» и «спорным» государствам, и определение их общих признаков составляют сущность современного понимания государства, которое нерационально сравнивать с идеальными моделями. Следовательно, исходить надо из того, что государство – это образование, которое имеет постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами, причем его внешнее признание может отсутствовать. Однако очевидно, что такое определение приведет к необходимости изменения как политической карты мира, так и международной системы, которая расширится за счет вхождения в нее разных видов «спорных государств», что невыгодно с точки зрения безопасности и международной стабильности ведущим акторам мировой политики.
Роль религиозного фактора в современной геополитике
В работе Е. М. Дриновой в контексте русской политической традиции анализируется проблема религии в геополитическом измерении (Дринова, 2010). Утверждается, что геополитические изменения, обусловленные религиозным фактором, имеют как международный, так и локальный характер. Выявляется политическое измерение онтологии религиозного фактора, определяется его политическое бытие.
Существуют различные трактовки геополитической роли религии. Принято считать, что славянофилы, верившие в особый тип российской культуры, возникший на духовной почве православия, первыми обосновали метафизическую миссию православия. В учении о соборности славянофилы К. Леонтьев и Ф. Тютчев утверждали, что Россия как преемница византийской традиции должна встать во главе новой восточной государственности. В незавершенной работе Тютчева «Россия и Запад» проводится мысль о том, что Россия является вечной «залогохранительницей» православной империи. Первые глобализационные религиозно-геополитические проекты начали разрабатываться в России уже во второй половине XV в. В этот период русская церковь не только определяла свое место среди иных христианских церквей, но и настойчиво отстаивала свое право на автокефалию – церковную независимость. Наибольшего внимания в связи с этим заслуживает концепция Третьего Рима, сформулированная в начале XVI в. в послании монаха Филофея: обосновывается идея бинарного разделения истории на дохристианский и христианский мир. Первый период истории христианского мира связан с существованием единой христианской церкви и формированием «неразрушимого» христианского царства («Ромейское царство»), второй – с отпадением католической церкви от основ православия (подробнее см.: Бердяев, 1990; Савицкий, 1998; Синицына, 1998; Соловьев, 1989; и др.).
Проблема взаимоотношений науки и религии
Представляется, что данная проблематика имеет свои корреляты с проблемой современных тенденций в геополитике. В истории развития человечества всегда были сторонники и религиозного, и рационального восприятия мира. В целом, в исторической перспективе «рациональные» представления людей основывались на языческих представлениях. Можно сказать так: атеисты, отвергающие представления о Боге и вере в духовные параметры бытия (кроме материальных основ жизни), тем не менее тяготели к объяснению событий жизни на основе языческих (т. е. все же духовных) представлений о смысле бытия, – к вере в природу, в идолов, в стихии и т. д. Известно, что наука – это убежденность человека в истинности чего-либо, основанная на опыте и логических выводах, а вера – психологическое переживание жизни, убежденность в существовании Бога (как сверхъестественного высшего существа) на эмоциональном уровне безо всяких доказательств. Вера не требует рационального обоснования и подтверждения опытом и логикой. Наш рациональный ум дан нам тем же Богом как Творцом нашей жизни (мы – люди, это нечто частное и ограниченное, поэтому мы не можем в принципе «объять» и до конца объяснить «общее», что превосходит нас – скажем, бесконечность бытия и бесконечность вселенной). Поэтому противопоставление науки и религии – это ложная дихотомия. Да, есть дихотомия, но не дихотомия «наука – религия», а «атеизм – наука и вера».
Знание и вера не могут существовать в отдельности. Чтобы мы ни делали и какие бы ни принимали жизненные решения, «духовные дихотомии» присутствуют во всех наших поступках и мыслях (даже если мы считаем себя не верующими, то на психологическом уровне – это совесть человека). С другой стороны, проблема исследования знания и веры всегда начинается с положений, опять же принимаемых на веру, – аксиом, постулатов и гипотез. Современная наука и философия преимущественно базируются на научном идеале знания. В целом, проблема взаимодействия знания и веры, религии и науки до сих пор остается актуальной проблемой науки и философии (Дмитровская, 2003).
Обратимся к результатам прикладных исследований. По статистическим данным, на 1965 г. население земли составляло 3 244 300 000 человек (Библия опережает…, 1996). Из них исповедовали христианство (во всех христианских конфессиях) 961 100 000 человек; ислам – 465 200 000 человек; индуизм – 408 700 000 человек; конфуцианство – 357 900 000 человек; буддизм – 165 100 000 человек; даосизм – 52 300 000 человек; иудаизм – 13 200 000 человек; зороастризм – 150 000 человек. Это значит, что атеистов на земле в 8.6 раз меньше, чем верующих, т. е. на девять верующих человек приходится всего один неверующий. По данным опроса, проведенного спустя почти 30 лет, в 1994 г., Институтом системных исследований (N=1200), верующими считают себя 44 % респондентов, верующими частично – 28,5 %, т. е. верующими в той или иной степени считают себя 72,5 %. При этом менее 17 % опрошенных заявили, что они не верят в Бога (там же, с. 28).
Таким образом, приведенные статистические данные убедительно свидетельствуют о «средней температуре веры» на планете. В результате религиозность как убежденность выступает реальным психологическим аспектом геополитических отношений.
Для более полного понимания соотношения понятий знания и веры можно обратиться к высказываниям интеллигенции. Так, Чарльз Дарвин, хотя его теория о происхождении человека от обезьяны не принимается христианскими богословами, «не был безбожником, а признавал некую творческую силу, которая создала первые виды организмов» (Библия опережает…, 1996, с. 30). Н. В. Гоголь был глубоко верующим человеком: в этом легко убедиться, прочитав его «Размышления о Божественной Литургии» и «Выбранные места из переписки с друзьями». В. А. Жуковский оставил много рассуждений философско-религиозного характера по поводу знаний и веры. Ф. М. Достоевский также был глубоко верующим человеком и реализовал свои православные убеждения в своих произведениях. И. С. Шмелев – известный русский православный писатель, исповедовался и причащался Святых Таинств.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе