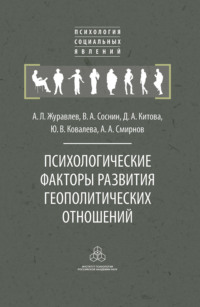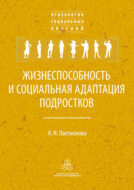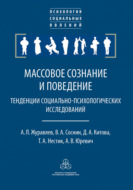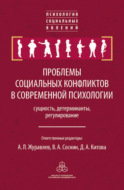Читать книгу: «Психологические факторы развития геополитических отношений», страница 3
Глава 2. Психологические аспекты геополитических процессов
Изменения, начавшиеся в мире, в основном на Западе, во второй половине прошлого века, а также масштабные внутриполитические и экономические изменения, произошедшие в нашей стране начиная с 1990-х годов и повлиявшие не только на функционирование многих государственных институтов, но и на место государства на международной арене, поставили перед фундаментальной психологией новые задачи. Возникла необходимость осмысления процессов мировой политики и глобализации и их влияния как на состояние российского общества в целом, так и на развитие и благополучие отдельной личности (Макропсихология…, 2009; Психологические исследования…, 2018; Россия…, 2007; Юревич, Цапенко, 2010). В объективе психологического анализа оказались такие актуальные проблемы, как распространение и опасность применения ядерного оружия, терроризм, криминализация общества, общественная мораль и нравственность, психологическое здоровье, коллективные чувства, например, патриотизм, динамика ценностных ориентаций, изучение новых больших социальных групп, например, этносов, предпринимателей, и др. (Емельянова, 2016; Журавлев и др., 2016; Ковалева, Соснин, 2016; Нравственность…, 2012; Психологическое здоровье, 2014; Соснин, 2016; Юревич, Журавлев, 2016).
В последнее десятилетие под влиянием процессов глобализации серьезные изменения произошли в сфере международных отношений. После прекращения существования двухполярного мира, находившегося под контролем таких сверхдержав, как СССР и США, деструктивные изменения затронули и однополярный мир, который пытались выстроить США после прекращения существования Советского Союза, а вместе с ним и глобализационную модель развития, лежавшую в основе такого миропорядка (Бжезинский, 2005). Всего за 20–30 последних лет в ответ на мощные транснациональные процессы в качестве реакции на них активизировались национальные движения, сопровождающиеся ростом этнического и религиозного самосознания и противодействующие навязчивому усреднению образа жизни по западному образцу. В самые последние годы одновременно с кризисом авторитета международного права и институтов международной социальной и экономической регуляции все это привело к множеству локальных и глобальных конфликтов в самых разных областях жизни, затрагивающих большинство народонаселения Земли. Эти конфликты, наряду с военной силой, реализуются даже в большей степени путем применения информационного воздействия, атакующего психоисторическую идентичность международных игроков, их национальную уникальность, ценности, образ жизни и исторические достижения (Соснин, Ковалева, 2017а).
Под влиянием этих и других явлений к настоящему моменту получили свое психологическое осмысление некоторые геополитические и геоэкономические процессы, такие как геоэкономическая динамика, экстремизм, политическое лидерство (Дейнека, 2019; Конфисахор, Алексеевская, 2018; Шестопал, 2015). Сделана попытка с позиций социально-психологической концепции отношений рассмотреть современные геополитические отношения (Ковалева, 2018). Однако говорить о геополитической российской психологии как сложившейся отрасли психологии пока преждевременно.
Таким образом, актуальными становятся изучение психологических факторов геополитических процессов, построение целостной системы их психологического исследования. Существует потребность в науковедческом анализе междисциплинарного взаимодействия геополитики и психологии, в определении объектов, предметов и актуальных направлений исследований. Поскольку геополитические процессы затрагивают международные отношения и организации, предъявляют к ним требования взаимодействия и выработки совместных решений и поведения, формируют отношение к злободневным вопросам, вызывают коллективные чувства – гордость, опасение, тревогу и др., – то, на наш взгляд, наиболее релевантной областью психологического знания как основы для формулирования основных направлений работы по созданию геополитической психологии является социальная психология и, конкретно, такое ее направление, как психология больших социальных групп как геополитических субъектов. Этот подход обладает теоретической значимостью и для развития самой социальной психологии, так как большие социальные группы в их субъектном качестве изучены в наименьшей степени.
Динамика геополитического знания: некоторые классические и современные концепции с позиции психологии
Геополитическое знание в целом не выглядит достаточно систематизированным. Считается, что оно развивалось последовательно от признания географического фактора и военных методов как решающей политической силы до современных воззрений на первостепенную роль экономики и идеологии, но понятия и концепции, которые формулировались в разные годы, так или иначе касались всей этой триады, состоящей из военного, экономического и идеологического воздействий.
Как уже отмечалось выше (см. главу 1), геополитика как новая научная дисциплина и одновременно практическая реализация действий государств по отношению друг к другу заявила о себе в конце XIX в., хотя первые геополитические взгляды начали формироваться уже в античные времена. Народы, прошедшие через осевое время (по К. Ясперсу), получили мощный импульс к развитию и почувствовали необходимость в рациональном осмыслении своего сосуществования с другими народами. Концепции той эпохи касались государственного устройства в целом, принципов внутренней и внешней политики, а также моральных оснований для реализации экспансии своих интересов и защиты территории. История формирования геополитических взглядов насчитывает с тех пор века и требует отдельного описания и анализа, но до начала XX в. принцип географического детерминизма оставался практически неизменным.
Однако технический прогресс конца XIX в. вплоть до современного технологического прорыва способствовали переходу от индустриального к постиндустриальному и далее к информационному обществу, привели к пересмотру основ геополитического знания. Уже с начала XX в. в трудах по геополитике (и впоследствии – геоэкономике) можно встретить положения, прямо высказывающие идеи, связывающие геополитические процессы с гуманитарной составляющей. Так, американский геополитик Д. Майнинг, последователь классиков Х. Маккиндера с его идеей «сердцевинной земли» (Heartland) как центра мировой суши и Н. Спикмена с его географическим образом полумесяца (Rimland), опоясывающего Heartland (Спикмен, 2016; MacKinder, Halford, 1951), утверждал, что «классический» силовой аспект в геополитических процессах должен уступить место борьбе за умы и души людей. Его подход называют культурно-функционалистским; сравнивая способы колонизации, реализованные Российской и Британской империями, он настаивал на превосходстве культурно-завоевательного продвижения (Meinig, 1956). Поражение СССР в холодной войне и его дальнейший распад есть результат применения многоуровневого воздействия, в числе которого не последним были идеологическое и культурное влияние.
В работах и классиков начала XX в., и современных ученых-геополитиков можно встретить понятия панидеи, воли нации к пространству (Хаусхофер, 20175), идеи поссибилизма, ставившей в центр географических преобразований человека, так как только ему подвластна актуализация возможностей той или иной территории, а также такие понятия, как чувство свободы, чувство истории и чувство пространства, которые имели решающее значение в геополитической борьбе, также как и понятия образа жизни, складывающегося на определенный территории, и коммуникации между различными такими образами (П. де Блаш); понятия врага как иного, чужого, по отношению к которому легко актуализировать чувство враждебности; понятие иконография пространства, подразумевающее под собой характерные проявления неповторимой культуры конкретной территории (символический язык чувств и мыслей, образы прошлого, мифы, саги, легенды, табу) (Шмитт, 1994); культура и религия, которые признаются силами, связывающими народы со своими землями (Cohen, 1994); национальные интересы – термин, получивший полное право на жизнь после создания Вестфальской системы, закрепившей идеи суверенитета национального государства; и др.
Нетрудно видеть, что упомянутые понятия имеют очевидное психологическое наполнение, которое использовалось практически, но не получило углубленного научного обоснования в психологической науке. Это, по всей видимости, можно объяснить концентрацией психологии в ходе своего становления на других предметах и объектах (Макропсихология…, 2009).
В середине XX в. глубокие изменения в политической, экономической и социальной реальностях затронули и предметное поле геополитики. «Таким образом, на исходе XX в. произошло коммуникационное сжатие пространства Земли, сопровождавшееся глобализацией потоков информации, капиталов, товаров. Почва перестала быть единственной и главной основой связывания народов с территорией. Более важными силами стали экономика, религия и культура, что расширило предметные границы геополитики» (Мухаев, 2018, с. 22). Появились такие новые ее отрасли, как геостратегия, геоэкономика, геофинансы, геоидеология и геокультура. Основным фактором, лежащим в основе процессов, на изучение которых направлены эти дисциплины, являются растущие «взаимосвязанность и взаимозависимость современного мира» (там же), позволяющие говорить о существовании целостного мирового сообщества как системы государств. Однако это положение можно расширить взглядами современного французского теоретика и практика геостратегии и геополитики П. Галлуа, который, говоря о смене субъектов мировой геополитики, имел в виду не только смену традиционных геополитических акторов – национальных государств – различными интегративными образованиями, но и в том числе вмешательство в геополитические процессы народных масс в связи с широкой доступностью информации и средств передвижения (Колосов, Мироненко, 2001).
Таким образом, современная геополитика – это «наука, изучающая механизмы, формы и закономерности властного контроля государств (и их союзов) над геопространством, которые складываются в процессе их глобального взаимодействия и под влиянием всей совокупности детерминирующих факторов (географических, исторических, политических, культурных, цивилизационных и иных), определяющих стратегический потенциал государства в глобальной политике» (Мухаев, 2018, с. 22). По-видимому, в такой совокупности не может не быть психологического фактора, однако его место и роль остаются в значительной степени нераскрытыми.
Классическая геополитика как наука, имеющая междисциплинарный статус (находится на границе географии, политики и военного дела), в период преобладания в своей методологии принципа географического детерминизма заимствовала понятия из вышеназванных областей знания и практики: геопространство, географическое местоположение, расстояние, сферы влияния, баланс сил, страны-сателлиты, буферная зона, маргинальный пояс, господство, подчинение и др. Из философии, которая исторически взаимодействовала с политикой, были восприняты концепты национальная идея, национальная идентичность, цивилизация, символический капитал, хотя данные термины стали использовать уже на зрелом и почти современном этапе ее развития.
Современная геополитика, сохранив часть своих классических основ, совершила переход в другое предметное поле, задействовав терминологию, отвечающую современному статусу общественного развития. Ее наиболее общим и фундаментальным понятием является категория геопространства – это «пространство Земли, пригодное для жизни человека, и контроль над ним. <…> Состояние упорядоченности и структурированности геопространства выражается понятием геополитическая структура мира, или мировой порядок» (там же, с. 55). Каждый этап исторического развития в ретроспективе может быть представлен в виде определенной геополитической организации и мирового устройства, в которых зафиксировано соотношение политических, военных, экономических и других сил государств и их групп. Актуальное геопространство и мировой порядок отличаются сложной структурой, описание которой является актуальной междисциплинарной задачей. Так, исследователи отмечают, что преобразования, затронувшие мир на его современном информационном этапе развития, обнаружили теоретический вакуум для его описания в самых разных дисциплинах, – например, в социологии, которая оказалась не готова к описанию нового миропорядка, принимающего зачастую формы организованного хаоса. В своей работе, посвященной проблемам глобального развития, А. И. Неклесса, обращаясь к перспективным сценариям мироустройства, заявляет о необходимости разработки главного ресурса человеческого общества – его психологии как единого субъекта, в противовес глубинным психоаналитическим изысканиям. Он видит в этом возможность для преодоления ограниченности экономического и социологического аспектов анализа развития человечества (Неклесса, 2000).
Другим измерением современного геопространства, в котором также видятся перспективы для психологии, является информационное. «Управление информационными потоками превращается в главный ресурс власти в современной геополитике, которая все больше приобретает виртуальные формы. Тем самым политическое пространство приобретает виртуальное измерение, в котором соотношение сил на мировой арене выражено в новых формах геополитического противостояния с помощью информационных технологий» (Мухаев, 2018, с. 46). Главными движущими силами современности начинают выступать Интернет, средства массовой коммуникации, реклама. Скорость изменений, затронувшая буквально каждую человеческую судьбу в мире, при этом зачастую имеет трагический характер, поскольку человек оказывается вынужден отказываться от старых ценностей, традиций, представлений. СМИ буквально на глазах меняют образ жизни людей, и они нередко испытывают большие трудности в принятии нового или чужого. Эти процессы принимают массовый характер, формируя общественные настроения, субкультуры, конфликты (Емельянова, 2016). Связь с психологической проблематикой в этой области является очевидной, поскольку «факт в современном мире – это, как правило, все же не само событие, но скорее его тиражированная интерпретация, версия, по отношению к которой императивно необходима самостоятельная оценка личностью. Гиперинформатизация физически истощает способность человека противостоять шквалу новостей, принуждая в конце концов к их некритическому восприятию… что искажает саму основу взаимодействия индивида со словом, провоцируя его девальвацию, поругание и, соответственно, исподволь предуготовляя кризис личности, нередко фатальный» (Неклесса, 2000, с. 58). Групповой эффект подобного процесса представлен при обсуждении проблемы психоисторических войн и информационной атаки на память о Великой Отечественной войне (Ковалева, Соснин, 2017).
Кроме того, в современной геополитике важно различать такие понятия, как субъект геополитики и ее актор. Первым может быть государство или организация, представляющая несколько государств и имеющая правовой статус международной субъектности. На все субъекты геополитики распространяется международное право. Актор – более широкое понятие, включающее всех действующих лиц международных отношений вне зависимости от их правового состояния. Это могут быть отдельные политические деятели или лидеры, международные организации или движения (формальные или нет), политические партии, транснациональные объединения (корпорации) и др. Поведение субъектов и акторов определяется их интересами (государственными, наднациональными, транснациональными). Понятие государственный интерес может совпадать с понятиями национальный интерес и пересекаться с термином национальная безопасность (физическое выживание граждан, политическая независимость страны, территориальная целостность, неприкосновенность границ, безопасность и благосостояние граждан).
Несмотря на то, что критерии геополитической субъектности на первый взгляд выглядят формально и отличаются от психологического понимания коллективной субъектности (Журавлев, 2002, 2018), субъекты геополитики могут действительно отличаться от акторов уровнем организации и историческим опытом в реализации своих интересов, т. е. реальной или рефлексивной субъектностью, что, по-видимому, и зафиксировано в их правовом статусе. Акторы же в свою очередь, вероятно, находятся на протосубъектном уровне развития. Этот вопрос требует подробного изучения, так как возможно и очень вероятно несовпадение такой дифференциации с реальным уровнем субъектности тех или иных «мировых игроков», представленных большими социальными группами. Их статус может отражать желаемую политическую нишу, которая им приписывается мировым сообществом, например, для сдерживания их активности или влияния.
Проблематика различения государственного и национального восходит к двум разным геополитическим парадигмам о главенстве этих компонентов в политическом устройстве мира. Ряд авторов считает таким главным компонентом государство, другие же признают примат нации, аргументируя свою точку зрения тем, что международные отношения реализуются не столько между государствами, сколько между народами, совершающими внеинституциональный обмен прежде всего в сфере культуры. Эта точка зрения, однако, не является популярной в связи с трудностями идентификации отдельных наций. Тем не менее, представляется, что данный взгляд открывает перспективу междисциплинарной работы, в том числе с участием представителей психологической науки, в связи с значительным массивом научных результатов, накопленных, например, в кросскультурной психологии (Лебедева, 2011).
Еще один термин современной геополитики хотя и сформулирован традиционно, но имеет сложное наполнение – это внешняя политика государства. Основным средством внешней политики являются внешнеполитические акции, реализованные, например, в виде экспансии. Однако современные виды экспансии имеют зачастую не прямолинейный вид военной агрессии, а предполагают гуманитарную интервенцию, экспорт демократии и цветных революций, политику двойных стандартов. В целом же геополитическое взаимодействие, опирающееся на внешнюю политику, бывает двух видов – конфронтационное и интеграционное. В их основе лежит близость или противоборство идеологий – наборов ценностей и смыслов определенного народа.
Если кратко резюмировать сказанное, то основные принципы современного геополитического анализа – это принципы «взаимозависимости и взаимовлияния, динамического равновесия и баланса интересов, интеграции и дезинтеграции» (Мухаев, 2018, с. 51). Они близки и современному пониманию глобальной психологии, которая направлена на изучение нового в психологии человека и группы, привнесенного реалиями современного мира, с учетом процессов интеграции и дифференциации, которые характерны как для самих психологических феноменов, так и для способов их анализа и организации психологического научного сообщества (Журавлев, Ковалева, 2018).
Геоэкономика как современный вариант геополитики
Несмотря на то, что борьба за ресурсы всегда стояла во главе угла соперничества между государствами, осмысление мирового противостояния в терминах геоэкономики пришло на смену военно-стратегическим понятиям только после того, как в геополитической конкуренции стали доминировать преимущественно экономические методы. Это исторически связано как с большим числом кровопролитных войн XIX–XX вв., так и с переходом государств-лидеров в постиндустриальную фазу своего развития, с появлением большого числа новых возможностей подчинения себе других стран, к которым прежде всего относятся техническое превосходство и информатизация (Михайленко, 2010; Мухаев, 2018).
Геоэкономика как один из современных вариантов геополитики в наибольшей степени отвечает современной реальности в связи с ведущей ролью экономики и ее организационных структур в жизни государств и в отношениях между ними. «Она (экономика) начинает проявлять себя не только как способ хозяйствования, но и как доминирующая система управления обществом: как политика и как идеология наступающей эпохи, становясь, по сути, новой властной системой координат… В результате привычные геополитические императивы явно уступают место реалиям геоэкономическим» (Неклесса, 2000, с. 64. Курсив мой. – Ю. К.). Таким образом, геоэкономика, как и геополитика, имеет два измерения: так называется и научная дисциплина, и практическая область жизнедеятельности мирового сообщества. В своем последнем понимании этот термин часто используется как синоним мировой экономики, хотя и не является таковым. Геоэкономика – это поле, на котором действуют игроки разных уровней – от национальных государств до транснациональных экономических акторов. Таким образом, в целом она является глобальным субъектом, имеющим эклектичный характер. Она тесно связана с мир-системным анализом И. Валлерстайна, который рассматривает социальное развитие не как эволюцию отдельного общества, а как эволюцию взаимосвязанных обществ, живущих в единой системе мира-экономики (более раннего понятия, подразумевающего хозяйственную целостность, покрывающую большое географическое пространство) (Мухаев, 2018).
Одним из основателей геоэкономики является Э. Люттвак, американский политический деятель периода однополярного мира с доминированием в нем США и развития в связи с этим идеи мондиализма, которая подразумевает гражданско-политическую унификацию по единому образцу. Люттваку принадлежит ряд высказываний, в которых сформулирована миссия геоэкономики, в частности: «Если внутреннее сплочение [нации] должно быть поддержано консолидирующей угрозой, то таковой сегодня должна стать угроза экономическая» (цит. по: Нурышев, 2012, с. 306).
Таким образом, внешняя политика и экспансия государств по отношению друг к другу перестают быть связанными напрямую с завоеваниями и с прямым экономическим подчинением. Ими в настоящий момент в значительно большей степени являются навязывание желаемой топологии экономических связей, создание или подрыв экономических ориентаций, соперничество форм хозяйствования, создание рисков и управление ими. В финансовой сфере «сформировалось вполне самостоятельное… поле разнообразных валютно-финансовых операций, все более расходящихся на практике с интересами человечества, потребностями и нуждами реальной экономики» (Неклесса, 2000, с. 42). На ценностном уровне это проявляется в навязывании искаженных целей, так, например, «происходит постепенное, но постоянное, неумолимое и последовательное вытеснение идеологии честного труда альтернативной ей идеологией финансового успеха» (там же, с. 46).
Специалисты в области геоэкономики считают, что подобные деструктивные процессы меняют общемировую социальную организацию: на смену национальным и международным институтам приходят траснациональные корпорации и организации «мирового андеграунда», субъектами исторического процесса становятся люмпенизированные слои общества, маргинальные субкультурные сообщества, сетевые структуры, в том числе «живущие» виртуально. Наиболее яркие примеры последних лет – массовая миграция из арабских и африканских стран с очевидным последствием – дехристианизацией Европы, сетевой способ поддержки цветных революций (Смирнов, 2008).
Однако ряд специалистов подмечают и обратные явления. Так, геоэкономисты К. Жан и П. Савона предложили к рассмотрению понятие «бунта богатых», в отличие от социального протеста бедных. По их мнению, подрыв национальной сплоченности возможен с помощью преуспевающих городов и регионов, которые не нуждаются в государственной поддержке и не желают спонсировать нуждающиеся территории. Такими островками сопротивления национальным интересам могут стать не только территориальные единицы, но и корпорации, преуспевающие за счет включения в ТНК. По мнению К. Жана, геоэкономика – это «принцип объединения всех экономических установок и структур какой-либо страны в единую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию» (цит. по: Нурышев, 2012, с. 307).
Таким образом, нетрудно видеть, что многие оценки системного кризиса современной модели общества видятся буквально эсхатологическими. Однако представляется, что подобный заостренный ракурс имеет целью максимально ярко высветить болезненные точки для их дальнейшего анализа, в том числе и психологического.
Перспективы геополитической психологии
Выше был представлен краткий анализ современного состояния геополитического знания, который, несомненно, должен стать более глубоким, подробным и структурированным. Это представляет собой отдельную задачу для будущей отрасли психологии, которой суждено сформироваться.
Однако на данном этапе осмысления связи геополитики и психологических подходов представляется возможным, во-первых, провести феноменологический анализ и выделить те основные компоненты в геополитических явлениях, которые могут стать объектом психологических исследований, и, соответственно, те психологические явления, которые могут лежать в основе геополитических событий.
Геополитические исследования и практика имеют дело с анализом социальных явлений и воздействием на территории, на которых проживают большие массы населения, т. е. большие социальные группы, участвующие в политической и внешнеполитической жизни: народы, этносы, субэтносы, поколения, граждане отдельных территорий, стран, городов, конфессиональные группы, профессиональные группы, потребители (товаров, информации), пользователи (услуг) и др. Геополитические процессы оказывают влияние на жизнь членов этих больших социальных групп в целом, на их благополучие, благосостояние, эмоциональное состояние (содержание чувств и переживаний), цели, отношения, представления, ценности, идеалы и смыслы, т. е. напрямую имеют дело с их психологией. Характер сосуществования данных больших социальных групп является глобальным, т. е. в нем проявляют себя процессы их интеграции (объединения по территориальному, межтерриториальному, транстерриториальному признакам) на основании общих целей, задач, образа жизни, ценностей, представлений и др., а также дифференциации – их размежевания по этим же или другим основаниям: соперничеству, противодействию и разного рода конфликтам. Таким образом, в психологии этих групп присутствует как общее, связывающее их, так и разводящее по разным сторонам геополитического противостояния.
Геополитические процессы влияют на социальную структуру общества, формируя новые социальные общности, объединения, организации (новые государства, территории с новой государственной принадлежностью, потерей прежнего или обретением нового статуса, стратегические и экономические альянсы, сетевые структуры и сообщества и др.). Подобные процессы затрагивают идентификацию членов больших социальных групп, имеющих отношение к данным образованиям – это прежде всего гражданство, статус этноса, экономический статус, территориальная укорененность и соответствующие переживания людей в связи с подобной динамикой, а также проявление новых психологических качеств в связи с новыми возможностями, (например, при виртуальном взаимодействии). Психология членов больших социальных групп, их цели, потребности, представления, смыслы, исторический опыт и более интегративные психологические образования, – такие, как национальный характер, национальная идея, – в свою очередь, определяют их связь с динамикой территории, на которой они проживают, и способ их политических и экономических отношений с ней.
Подобное описание взаимодействия политического, экономического и психологического факторов, тем не менее, выглядит довольно механистично. Оно должно носить системный характер и представлять собой последовательную смену эволюционных стадий жизни конкретной большой социальной группы, каждой из которых присуща своя констелляция этих факторов: тот или иной из них может играть ведущую роль, определяя направление развития, а также соответствующие преобразования и новообразования в различных сферах совместной жизнедеятельности (о взаимодействии психологических и непсихологических факторов см. подробнее: Журавлев, 2007).
* * *
Таким образом, проведенный анализ показывает, что для формирования геополитической психологии как отрасли психологического знания существуют достаточные основания. Ее основной задачей может являться изучение психологии больших социальных групп в процессе совместной жизнедеятельности и взаимодействия как с другими группами, так и с различными условиями социальной среды – политическими, экономическими и идеологическими (информационными).
Такая позиция помогает высветить совершенно новые предметы анализа, которые могут быть присущи только данной новой отрасли. Например, одним из них может стать судьба большой социальной группы – судьба нации, народа, этноса, поколения. Судьба народа могла бы дополнить такие понятия, как национальная идея или национальный характер (Юревич, 2017), и представлять собой описание сопряженного взаимодействия политической и экономической истории территории и соответствующей психологической трансформации конкретных проживающих на ней больших социальных групп в связи с различными событиями – ретроспективными, актуальными, перспективными. При таком рассмотрении в одну, общую, интегрируются многие проблемы, затронутые пока что в разрозненных исследованиях: это и коллективные чувства (Емельянова, 2016), например, коллективные смыслы (Журавлев, Юревич, 2014), и коллективный образ будущего (Нестик, 2014), и др.
В этой связи заслуживает большого внимания и подробного изучения русская геополитическая школа, которая всегда тяготела к анализу макропроцессов взаимодействия людей, проживающих на одной территории. Она представлена именами Н. А. Бердяева, Н. Я. Данилевского, Л. Н. Гумилева, В. О. Ключевского, К. Н. Леонтьева, Л. И. Мечникова, В. С. Соловьева, В. П. Семенова-Тян-Шанского и др. В рамках данной школы были сформулированы такие мессианские (глобальные) по своей сути понятия, как «Москва – третий Рим», византизм, панславизм, русофильство, западничество, русская идея, культурно-исторический тип, национальная исключительность, пассионарность и др., а также более позднее понятие геополитического кода, вклад в описание русской формы которого в разные времена внесли П. Я. Чаадаев, Н. А. Бердяев, П. Н. Милюков и др.
Вызывают особый интерес для анализа судьбы народа подходы Г. В. Вернадского с его категорией месторазвития и концепция антропогеографического детерминизма Л. И. Мечникова. Так, Лев Ильич Мечников говорил о том, что степень господства людей над тем или иным пространством должна быть пропорциональна их возможностям по его использованию (Мечников, 1995). В освоении территорий он придавал большое значение солидарности и коллективному труду, а масштабы завоеванного пространства считал пропорциональными уровню культуры народа и степени его социально-политической организации. Он системно подходил к пониманию освоения территорий и отмечал, что через активность и солидарность людей при взаимодействии с географическими пространствами природа получает возможность осуществить высшие формы жизни: по его убеждению, социальная интеграция является необходимым условием системного развития Земли. Л. И. Мечников предложил комплексный метод геополитического исследования, который включает в себя и анализ (изучение влияния различных географических факторов на потребности человека), и синтез (исследование судьбы цивилизованных народов через изучение особенностей пространства их жизни и их характеров). Современное звучание подхода Мечникова очевидно и связано с его пониманием места человека и народа в геополитическом процессе (Мухаев, 2018).
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе