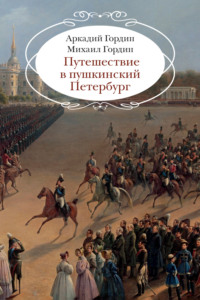Читать книгу: «Путешествие в пушкинский Петербург», страница 2
Изрезанный множеством рек, город чем больше рос, тем больше нуждался в мостах.
Старейшим мостом через Неву был наплавной Исаакиевский, наведенный от Сенатской площади на Васильевский остров. (Наплавные мосты укладывали на поставленные в ряд баржи – плашкоуты, отчего их также называли плашкоутными.) Второй наплавной – Воскресенский – мост в конце XVIII века наводили на Выборгскую сторону против Воскресенского проспекта, несколько выше того места, где впоследствии построили Литейный мост. С 1803-го и до начала 1820-х годов Воскресенский мост соединял левый берег Невы возле Летнего сада с Петербургским островом. Затем его вернули на прежнее место, а у главной аллеи Летнего сада навели в 1824 году третий невский мост – Петербургский, или Троицкий. Позднее этот мост был передвинут к Суворовской площади.
Каждый из невских мостов имел разводное устройство для пропуска кораблей.
Через Фонтанку в пушкинское время было десять мостов. Семь из них – каменные с башнями. В башнях находились механизмы, которые посредством чугунных цепей поднимали деревянные крылья средних пролетов: по Фонтанке шли не только баржи, но и мачтовые суда. Построенный в 1823 году через Фонтанку Пантелеймоновский, или Цепной, мост был первым в России городским транспортным мостом висячей конструкции: его проезжая часть держалась на железных цепях, подвешенных к чугунным пилонам. В 1827 году через Фонтанку построили цепной Египетский мост, украшенный четырьмя фигурами сфинксов.
Берега Мойки соединяли пять мостов. Мост, построенный на пересечении Мойки и Невского проспекта, назывался Зеленым, или Полицейским. Поначалу он был деревянным, выкрашенным в зеленый цвет, и отсюда его первое название. Второе название появилось тогда, когда вблизи моста на набережной расположилось Полицейское управление. Синий мост был перекинут через Мойку возле Исаакиевской площади. Красный вел через реку по Гороховой улице. В 1806 году деревянный Полицейский мост заменили чугунным – пролет его перекрыли сводом, собранным из чугунных блоков, скрепленных болтами. Это был первый в Петербурге чугунный мост. В начале 1810-х годов еще несколько деревянных мостов через Мойку заменили металлическими.
На Екатерининском канале было восемь мостов. Мост у Казанского собора – по Невскому проспекту, – один из самых больших каменных мостов в Петербурге, назывался Казанским. На пересечении канала и Гороховой улицы стоял мост, красиво облицованный гранитными плитами, гладкими и гранеными. Он назывался Каменным. В 1825–1826 годах через Екатерининский канал, неподалеку от Казанского собора, построили висячий пешеходный Банковский мост. Его чугунные цепи поддерживают золоченые грифоны. Тогда же возле Театральной площади берега канала соединил сходный по конструкции с Банковским Львиный мост. Вместо грифонов здесь чугунные львы. Возле Сенной площади через Екатерининский канал был перекинут пешеходный Кокушкин мост, который упомянул в шуточном стихотворении Пушкин.
Всего в середине 1830-х годов в Петербурге насчитывалось 117 мостов (вместо 49 в 1820-х годах), из них 10 наплавных через Неву и ее рукава, 16 чугунных, 26 каменных и 65 деревянных. Многие мосты были сооружениями замечательными и в инженерном, и в архитектурном отношении. Силуэты их удивительно точно вписывались в городской пейзаж. Наряду с монументальными петербургскими набережными столичные мосты сделались необходимой принадлежностью быстро разраставшегося и хорошевшего Петербурга.
В гранит оделася Нева:
Мосты повисли над водами…
(«Медный всадник»)
Размышляя об историческом, державном предназначении Северной столицы, Пушкин находил отражение судеб Петербурга и в его внешнем облике, в его величавой правильности и гранитной мощи:
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен…

Глава вторая
«Фонари светились тускло»
В центре города, где проживала привилегированная публика, петербургские улицы выглядели вполне благопристойно: булыжная мостовая, тротуары из каменных плит шириной в 2 аршина3, огражденные от мостовой чугунными или гранитными столбиками.
Мостить улицы, устраивать тротуары обязаны были сами жители – каждый против своего дома. Возле правительственных зданий и на площадях работы производили за счет казны. Булыжные мостовые появились в столице еще в XVIII веке. Тротуары начали устраивать с 1817 года, в то время Пушкин уже поселился в Петербурге после окончания Лицея. В 1832 году в Петербурге было 111 336 погонных сажен тротуаров, то есть в общей сложности 222 версты.
В конце 1820-х годов столичный чиновник В. П. Гурьев предложил заменить булыжники деревянными шашками – торцами, чтобы езда по мостовой была менее тряской и шумной. Деревянную мостовую сперва испытывали на Невском проспекте у Аничкова моста.
Летом 1830 года газета «Северная пчела» писала:
«На сих днях стали здесь делать опыты новой мостовой, деревянной, которая с успехом употребляется на Аничковом мосту. В Большой Морской, перед домом генерал-губернатора, мостят улицу деревянными шестиугольниками толщиною в два вершка4. Желательно, чтобы опыт сей удался. Наша мостовая неровностию не уступает иным академическим стихам».
Опыт удался, и Николай I приказал замостить торцовыми шашками площадь перед Зимним дворцом, Большую Морскую и Караванную улицы, часть Малой Морской, набережную Мойки, Английскую и Дворцовую набережные и часть Литейной улицы. «Мостовая сия есть совершенный паркет», – восхищался журналист.
Но все это в центре и ближе к центру. А на окраинах мостовые если и существовали, то не торцовые и не булыжные, а бревенчатые или дощатые; тротуаров или вовсе не было, или их заменяли дощатые мостки.
Так же обстояло дело и с уличным освещением. В центре города количество фонарей с каждым годом увеличивалось, окраины же тонули во мраке. Из более чем четырех тысяч фонарей, горевших на территории Петербурга, едва десятая часть приходилась на окраины.
Фонари зажигали по сигналу. Сигналом служил красный фонарь, поднимаемый на пожарной каланче в каждой части города.
По вечерам на петербургских улицах появлялись фонарщики – в фартуке, с лестницей на плече. Каждый нес ведерко, покрытое опрокинутой воронкой. «Заметно темнеет; грязные фонарщики кучами сидят на перекрестках некоторых улиц, пристально глядя в одну сторону; когда появится там, над домами Большой Морской, как метеор, красный шар, они, взвалив на плечи свои лесенки, отправляются зажигать фонари. Вы каждого из этих людей примете в темноте за какое-то странное привидение, когда, приставив лестницу к столбу, он закроет от ветра себя и фонарь длинною полупрозрачною рогожей», – рассказывал о фонарщиках современник.
Уличные фонари горели по ночам с 1 августа до 1 мая – девять месяцев в году. Зажигали и гасили их в разные часы, в зависимости от времени года: в ноябре зажигали в четыре часа дня, а гасили в семь часов утра; в апреле зажигали в девять часов вечера, а гасили в два часа ночи.
Петербургские белые ночи давали возможность три месяца в году обходиться без уличного освещения.
При каждых двадцати пяти фонарях состояли два фонарщика.
Все фонари были масляными. Жгли в них конопляное и ламповое масло, зажигали с помощью сальных свечей. Горели они тускло, давали мало света.
Под таким тусклым петербургским фонарем оказался в роковую минуту своей жизни герой пушкинской «Пиковой дамы»: «Погода была ужасная; ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока… Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, – было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты».
В начале 1830-х годов попытались заменить масляное освещение газовым. Недалеко от Казанского собора был устроен резервуар, от него проложены трубы к ближайшим магазинам и лавкам. Но случившийся пожар все уничтожил.
Одно только здание Главного штаба освещалось газом и снаружи, и внутри.
В 1837 году учреждено было «Общество освещения газом Санкт-Петербурга». Оно построило на Обводном канале газовый завод, а на Миллионной улице – новый резервуар, от которого по газопроводу газ шел к уличным фонарям. Однако этих фонарей, восхищавших современников своим ярким светом, насчитывалось всего около двухсот, горели они лишь на Дворцовой площади, на Невском проспекте от Адмиралтейства до Литейной улицы, на Большой и Малой Морских и еще кое-где в центре. В остальных же местах стояли по-прежнему масляные фонари.
Еще хуже, чем с освещением, обстояло дело со снабжением населения питьевой водой.
Воду большей частью брали из рек и каналов. Фигура бабы с коромыслом на плече, идущей по воду к каналу, была столь же обычна для Петербурга, как и фигура водовоза с бочкой. Кое-где в городе с конца 1820-х годов появились ручные водокачки. Первая такая «водоливная машина» была устроена в 1827 году на Исаакиевской площади. Воду из водокачки отпускали за деньги. Годовой билет стоил 7 рублей серебром. Его прибивали к бочке, с которой ездили по воду. Те, кто жил далеко от рек и каналов, брали воду из колодцев – их насчитывалось больше тысячи.
В 1819 году предприимчивые люди предложили правительству провести в Петербурге городской водопровод. Но им отказали на том основании, что «Петербург по положению своему и устройству достаточно снабжен хорошей водой». Однако утверждение это не соответствовало действительности. В городе имелась сеть подземных труб, проложенных по улицам для стока дождевых и талых вод. Трубы эти изготовлялись из продольно пиленных бревен. К ним подводились боковые трубы, идущие от дворов, а дворы содержались крайне грязно. По утверждению современников, во время дождливой погоды и весеннего таяния снега особенно много нечистот изливалось в Фонтанку и другие реки и каналы, они портили воду, придавали ей дурной вкус и запах. Загрязнение воды способствовало возникновению эпидемий.
Полоскали белье петербургские жители тоже в реках и каналах. Для этого сооружались специальные мостки.
Мылись в банях. Люди состоятельные строили бани при своих домах. Основная масса населения пользовалась так называемыми торговыми банями, содержавшимися частными лицами. В 1815 году в Петербурге была 21 торговая баня. И здесь соблюдались социальные градации. В отделениях для простого народа и солдат, где платили по 7 копеек с человека, имелись только парилка и сторожка для раздевания. Помещений для мытья – мылен – не было. Мылись на дворе под открытым небом. В отделениях для людей среднего сословия, где брали дороже, имелись мыльни.
Отсутствие в городе водопровода крайне затрудняло работу пожарных команд.
Пожары были бедствием Петербурга. То и дело по улицам под оглушительный треск погремушек, привязанных к сбруе лошадей, мчался пожарный «поезд». Впереди верхом брандмейстер, за ним – помпа с флагом, повозки с людьми и инструментом, бочки. Опять где-то горит…
Горели и деревянные, и каменные здания. Так, в ночь на новый, 1811 год сгорел Большой (Каменный) театр. Известный актер П. А. Каратыгин, бывший тогда ребенком, рассказывает в своих записках: «Помню, как в 1810 г. 31 декабря горел Большой театр. Тогда мы уже жили окнами на улицу. В самую полночь страшный шум, крик и беготня разбудили нас. Помню, как я вскочил с постели, встал на подоконник и с ужасом смотрел на пожар, который освещал противоположный рынок и всю нашу Торговую улицу. Огромное здание пылало, как факел». К счастью, никто не пострадал. Тогдашний директор императорских театров А. Л. Нарышкин, известный остряк, доложил по-французски приехавшему на пепелище Александру I: ничего больше нет – ни лож, ни райка, ни сцены, – все один партер.
В 1830-е годы в Петербурге бывало в среднем по 35–40 больших пожаров в год.
Всем надолго запомнился грандиозный пожар 1832 года, уничтоживший несколько кварталов и оставивший без крова тысячи жителей. Начался он в середине дня 8 июня. Загорелось в Ямской слободе, близ Свечного переулка и Разъезжей улицы. На беду, дул сильный северо-восточный ветер. Пламя охватило бесчисленные конюшни и сараи живущих здесь ямщиков. Запылали огромные массы сена, соломы, дегтя, сала. Меньше чем за час огонь охватил все окрестные улицы, угрожая казармам Семеновского полка, достиг места пересечения Лиговского канала с Обводным. Огненный вихрь был настолько силен, что перебрасывал горящие доски и головешки на другую сторону Обводного канала, где загорелись гончарный завод и дома. Всего было уничтожено 102 деревянных здания и 66 каменных. Погибло более 30 человек.
В феврале 1836 года сгорел во время представления балаган известного фокусника Лемана. По официальным данным, в огне погибло 126 человек, а говорили в городе – вдвое больше. Через неделю после этого происшествия литератор, профессор А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Оказывается, что сотни людей могут сгореть от излишних попечений о них… Это покажется странным, но оно действительно так. Вот одно обстоятельство из пожара в балагане Лемана, которое теперь только сделалось известным. Когда начался пожар и из балагана раздались первые вопли, народ, толпившийся на площади по случаю праздничных дней, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освобождать людей. Вдруг является полиция, разгоняет народ и запрещает что бы то ни было предпринимать до прибытия пожарных: ибо последним принадлежит официальное право тушить пожары. Народ наш, привыкший к беспрекословному повиновению, отхлынул от балагана, стал в почтительном расстоянии и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная же команда поспела как раз вовремя к тому только, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы. Было, однако ж, небольшое исключение: несколько смельчаков не послушались полиции, кинулись к балагану, разнесли несколько досок и спасли трех или четырех людей. Но их быстро оттеснили. Зато „Северная пчела“, извещая публику о пожаре, объявила, что люди горели в удивительном порядке и что при этом „все надлежащие меры были соблюдены“».
История весьма характерная для николаевского времени.
С начала века учреждены были постоянные пожарные команды во всех частях города. При каждой имелась пожарная каланча. На открытой галерее день и ночь ходил часовой и с высоты высматривал, не горит ли где. В случае пожара часовые поднимали условные сигналы – днем шары, ночью фонари. Определенная комбинация шаров или фонарей показывала, в какой части столицы начался пожар.
Всеми пожарными командами распоряжался брандмайор, командой каждой части – брандмейстер. У него под началом находилось 48 пожарных и от 10 до 14 «фурманов» – возчиков. При каждой команде держали 20 лошадей. Устроены были также цейхгаузы, где хранились багры, ведра, топоры, ломы, крюки, которыми можно было снабдить в случае надобности солдат, вызванных на подмогу пожарным.
«Люди большею частию стары, неловки на вид, – писал о петербургских пожарных А. Башуцкий, – но в деле их хладнокровная дерзость, непостижимый навык и самоотвержение почти превосходят всякое вероятие. Это саламандры: они по целым часам глотают дым, смрад и поломя; идут беззаботно в самое жерло огня, где свободно действуют рукавом помпы, рубят топором, ломают, растаскивают бревна; находят еще возможность нюхать табак; горят и, обливаемые водою, опять работают, доколе голос начальника насильно не вызовет их из опасности».
Пожары причиняли огромный ущерб, поэтому пожарному делу уделялось много внимания. Сам Николай I (он считал своим долгом вмешиваться во все, что касалось внешнего порядка столицы), подменяя собой брандмайора, зимой 1834 года лично учинил смотр пожарным командам города. Газеты сообщали, что «государь император изволил сделать внезапную тревогу всем пожарным командам». На пожарных каланчах были подняты сигнальные шары. Николай I, стоя на Сенатской площади с часами в руках, высчитывал, сколько минут понадобилось команде каждой части, чтобы добраться к месту сбора. Царь остался доволен. «Его величество, пройдя мимо выстроенных пожарных команд всех частей, изволил благодарить нижние чины за примерно скорое прибытие на сборное место и пожаловал по одному рублю, по фунту говядины и по чарке водки на человека».
Пожарные были сноровисты и усердны, но средств к тушению огня имели немного и потому не всегда действовали успешно. Им, например, не удалось потушить пожар в Зимнем дворце, который зимой 1837 года почти весь сгорел внутри.
Так экономия на строительстве водопровода, экономия на благоустройстве столицы оборачивалась разорительными убытками.
Благоустройство Петербурга шло медленно и, как все в столице, служило интересам привилегированных, избранных и еще больше подчеркивало контраст между пышным центром и жалкими окраинами.
Глава третья
«Город пышный, город бедный»
В «Евгении Онегине» и «Медном всаднике», «Пиковой даме» и «Домике в Коломне», «Станционном смотрителе» и «Египетских ночах», в дневниковых записях, задуманных как история современности, и многих других пушкинских произведениях перед нами возникает обширная галерея петербуржцев – от царей и вельмож до нищих канцеляристов и крепостных слуг. Пушкин-поэт и Пушкин-историк долго и пристально размышлял над социальным устройством Северной столицы.
Противоречия между классами и сословиями, постепенно меняющаяся роль каждого из них в жизни страны – все это в Петербурге проступало особенно отчетливо. Состав столичного населения отражал социальные особенности всей России. Петербург был зеркалом России – ее политического и общественного строя, ее экономического и интеллектуального развития.
Кто жил в столице рядом с Пушкиным? В чьи лица и судьбы он всматривался, думая о прошлом и будущем своего народа?
В Петербурге жили люди разных сословий и занятий. Знать, занимающая высшие должности в государстве. Среднее и мелкое дворянство, состоящее на штатской и военной службе: чиновники и офицеры. Нижние воинские чины. Духовенство. Литераторы, художники, актеры, ученые, учителя, врачи. Воспитанники учебных заведений. Торговцы. Ремесленники. Мещане. Фабричные и заводские рабочие. Многочисленные крестьяне – пришлые оброчные и дворовые при господах.
В 1800 году в Петербурге проживало 220 208 человек. В 1818 году – 386 285 человек. А в 1836 году – уже 451 974 человека.
Население столицы за три с половиной десятилетия выросло более чем вдвое и продолжало неуклонно расти. Но росло оно не за счет увеличения рождаемости. В эти десятилетия в Петербурге умирало больше, чем появлялось на свет. Население Петербурга росло за счет пришлых. Из разных губерний в поисках заработка приходили в столицу тысячи оброчных мужиков. Землекопы – из Белоруссии. Каменщики, гранильщики, штукатуры, печники и мостовщики – из Ярославской и Олонецкой губерний. Маляры и столяры – из Костромской. Пришлые туляки занимались коновальным ремеслом, служили в кучерах и дворниках. Ростовчане – в огородниках. Владимирцы плотничали. Тверяки сапожничали. Одни оставались на постоянное жительство, другие на время.
Крестьяне составляли подавляющую часть петербургского населения. В 1821 году дворян в Петербурге было 40 250, а крестьян – 107 980. В течение 1821–1831 годов количество дворян, живших в городе, увеличилось на 2650 человек, а крестьян почти на 10 000.
Петербург был «мужской» город. Сюда на заработки из деревень приходили кормильцы. Здесь квартировали тысячи солдат гвардейских полков. Женщин насчитывалось втрое меньше, чем мужчин.
Было в столице немало иностранцев. Так, в 1818 году они составляли почти десятую часть всего населения. Примерно половина из них занималась ремеслом, врачебной практикой, содержала аптеки. Другие торговали, были гувернерами и учителями в дворянских семьях, мастерами и подмастерьями на фабриках и заводах, а также нанимались слугами. Петербургские аристократы любили окружать себя иностранными слугами. Так, например, княгиню Е. И. Голицыну – пушкинскую Princesse Nocturne – при ее отъезде за границу в 1815 году сопровождали: «…дворецкий Иоганн Шот, венгерский подданный, Михаил Фадеев, дворовый ее сиятельства человек, и араб Луи Обенг, французский подданный».
Особенно много было в Петербурге немцев. Они придерживались своего уклада жизни и своих обычаев. Имелись немецкие школы, немецкий театр, немецкие церкви и отдельное немецкое кладбище, выходили периодические издания на немецком языке. Немцы держали в своих руках некоторые отрасли ремесла и торговли. В частности, им принадлежала бо́льшая часть петербургских булочных.
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
(«Евгений Онегин»)
Физиономия аккуратного немца-булочника, беседующего через форточку с покупателем, – необходимая деталь в картине пушкинского Петербурга.
Кроме немцев, французов, англичан, шведов, итальянцев, в Петербурге проживало и некоторое количество греков, персов и даже индусов. Известно, что директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин подобрал на Фонтанке полузамерзшего индуса, неведомо как очутившегося в России, и тот прижился в его доме. Актер П. А. Каратыгин рассказывал в своих «Записках» о другом петербургском индусе – богатом ростовщике Моджераме Мотомалове: «Эту оригинальную личность можно было встретить ежедневно на Невском проспекте в своем национальном костюме… бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровавыми прожилками, черные широкие брови, сросшиеся на самом переносье, довершали красоту этого индийского набоба…»
Привилегированные слои населения предпочитали жить в центре города. Самым аристократическим районом считались Невский проспект, улицы Миллионная, Большая и Малая Морские, Большая и Малая Конюшенные, набережные Дворцовая, Английская, Гагаринская… Здесь в роскошных дворцах, великолепных особняках и просторных квартирах жили аристократы, крупные чиновники, богатые купцы. Литейная улица с прилегающими к ней Сергиевской, Фурштадтской, Захарьевской, оба берега Фонтанки, застроенные особняками, как и кварталы, расположенные между Невским проспектом и Разъезжей улицей, также служили местом жительства «лучшего общества».
Квартиры в центре города стоили дорого. Осенью 1831 года, вскоре после женитьбы, Пушкин поселился в доме вдовы сенатора Брискорна, на Галерной улице, близ Английской набережной. За квартиру в бельэтаже из девяти комнат поэт платил в год 2500 рублей ассигнациями. Это была очень большая сумма. Еще дороже стоила Пушкину квартира из двенадцати комнат в третьем этаже дома именитого купца Жадимеровского на Большой Морской улице, снятая в 1832 году. Ее цена была 3300 рублей ассигнациями в год. А последняя квартира поэта из одиннадцати небольших комнат в бельэтаже дома княгини С. Г. Волконской на Мойке обходилась в 4300 рублей ассигнациями в год. Пушкин снял ее осенью 1836 года.
Понятно, что в центре города жили не только люди «из общества». Здесь же в подвальных, первых и верхних этажах селились многочисленные торговцы и ремесленники. Причем ремесленники определенных специальностей и торговцы определенными товарами. Так, из 45 ювелиров-«бриллиантщиков», числившихся в Петербурге в конце 1810-х годов, 42 квартировали в центральных частях города. Из 66 петербургских часовщиков здесь же проживало 50. Из 24 перчаточников – 20. Из 54 модных магазинов в центре размещалось 48. Из 45 переплетных мастерских – 35. Здесь жили 55 повивальных бабок из 68. Но только 12 гробовщиков из 46. Так же обстояло дело и в последующие десятилетия. Гоголь, приехавший в Петербург в конце 1820-х годов и снимавший квартиру на Большой Мещанской улице, недалеко от Казанского собора, в доме каретного мастера Иохима, рассказывал в одном из писем: «Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну маршанд де мод5, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками». Жизнь трудового Петербурга определялась жизнью Петербурга праздного.
В тех же домах, где обитали господа, но только в тесных, грязных каморках жили слуги.
В самом центре города селились и «работные люди» – крестьяне, занятые на строительных работах. Часто убежищем им служили подвалы возводимых ими зданий. Строители Казанского собора жили в казармах на Конюшенной площади. Тысячи строителей Исаакиевского собора размещались в бараках вблизи него. В улицах, примыкавших к Сенной площади и Апраксину двору, много было домов, где находил пристанище «работный люд». В этом районе обитали и многочисленные петербургские нищие.
Самым населенным был район Большой Садовой и Гороховой улиц, Обуховского, Вознесенского, Екатерингофского проспектов. Здесь селились главным образом люди с умеренным достатком: купцы и чиновники средней руки, ремесленники, мещане и крестьяне, занимавшиеся мелкой торговлей. Гороховую улицу – самую длинную, пересекавшую эту часть города – современники называли Невским проспектом простого народа. Автор описания Санкт-Петербурга И. Пушкарев писал: «Прилегая к Сенной площади, Гороховый проспект во всякую пору дня представляет картину промышленной деятельности, всегда наполнен толпами рабочего народа, беспрестанно оглашается криками разносчиков, и, подобно Невскому проспекту, все дома, расположенные здесь, испещрены вывесками ремесленников». Дома почти все были каменные, в три и четыре этажа, густо населенные.
Значительно отличался от центра столицы и внешним видом, и составом населения окраинный район к западу от Сенной площади, который называли Коломной. Здесь обитали мелкие чиновники, служащие и отставные, вдовы, живущие на небольшую пенсию, небогатые дворяне, актеры, студенты, бедные ремесленники. Тут было много деревянных домов с садами, огородами, дощатыми заборами. И дома эти выглядели точь-в-точь как тот, который описал Пушкин в «Домике в Коломне»:
…Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.
В Коломне снимали в конце 1810-х годов квартиру родители Пушкина. Они жили почти в самом конце Фонтанки, на правом берегу ее, в двухэтажном каменном доме, принадлежавшем адмиралу Клокачеву. Большие квартиры в центре города им были не по карману. А здесь за умеренную плату они могли иметь семь комнат во втором этаже. Это была первая петербургская квартира Пушкина. Он поселился в ней сразу после окончания Лицея, в 1817 году, и жил до мая 1820 года – до ссылки.
Сходными по составу населения с Коломной были кварталы, располагавшиеся вокруг казарм Семеновского и Измайловского полков. Кварталы эти назывались «полками», а улицы – «ротами». Как сказано в одном из описаний Петербурга 1830-х годов, «около казарм, в местах, называемых собирательным словом полк, живут небогатые чиновники, отставные военные, купцы и мещане, производящие неважный торг».
В «ротах» Семеновского полка жили одно время друзья Пушкина – поэты Дельвиг и Баратынский. Они сообща снимали скромную квартирку в доме отставного придворного служителя Ежевского. Дельвиг описал их житье-бытье в шутливом стихотворении:
Там, где Семеновский полк, в Пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом…
В Измайловском полку, в домике отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, останавливается, приезжая в Петербург, герой повести Пушкина «Станционный смотритель» Семен Вырин.
На Петербургской стороне жили главным образом мещане – владельцы маленьких домов и больших огородов. На Выборгской – фабричные мастеровые, сезонные рабочие. Васильевский остров населяли большей частью иностранные купцы и ремесленники, ученые, художники, учителя, студенты да еще морские офицеры.
Среди крестьян, обитавших в Петербурге, особое место занимали жители Охтинской слободы. Еще в начале XVIII века, при Петре I, их переселили сюда из Московской и других губерний. Они были причислены к Адмиралтейству «для корабельных работ». В свободное время охтинские поселяне занимались ремеслом и сельским хозяйством. Они были искусными резчиками по дереву и столярами-мебельщиками. Их работы продавались в лавках и на рынках столицы. «Столярное мастерство и продажа молока, – свидетельствует современник, – доставляют ныне значительные выгоды охтинским поселянам».
И крупный, и мелкий рогатый скот держали жители всех районов Петербурга, даже центральных. Так, в 1815 году в Петербурге насчитывалось 2570 коров, 234 теленка, 502 барана, 155 овец, 369 коз и 219 козлов.
На Охте держать скот было особенно удобно: охтинцы жили в деревне, но близко от центра столицы. Зимою по замерзшей Неве за какой-нибудь час они добирались до Невского проспекта. И зимним утром на городских улицах появлялось много молочниц-охтинок с коромыслом, на котором висело несколько жестяных или медных кувшинов с молоком.
Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он;
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
(«Евгений Онегин»)
Охтинки одевались весьма своеобразно. Это была смесь русского и голландского народного костюма. Голландское осталось еще с тех времен, когда здесь жили корабельные мастера-голландцы с женами. Охтинки носили широкий сарафан со сборами, поверх него фартук с карманами и теплую кофту. На голове – по-русски повязанный платок. На ногах – синие шерстяные чулки и красные башмаки с высокими каблуками.
В статье «Загородная поездка» А. С. Грибоедов рассказал о народном гулянье в окрестностях Петербурга. «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, – писал Грибоедов, – он, конечно, бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен».
Все это в полной мере относилось и к самому Петербургу. Все здесь отличало господ от крестьян: внешний облик, обычаи, образ жизни.
Одежда мужика летом состояла из длинной пестрядинной – сшитой из самого грубого и прочного холста – рубахи с косым воротом, подпоясанной шерстяным кушаком или кожаным узким ремнем. Почти у каждого впереди на подпояске висел роговой гребень, железный зубчатый ключ от висячего замка и кожаный кошелек. У плотника сзади был заткнут за пояс топор, у каменотеса – молот, у штукатура – лопатка и терка. Широкие порты из синей пестряди заправлялись в сыромятные сапоги с высокими голенищами или в онучи, если на ногах были лапти. В теплое время ходили босыми или надевали «опорки» – низы старых сапог, отрезанные от голенищ. На голове мужик носил поярковую шляпу с большими полями и высокой тульей, перевязанной лентой, за которую была заткнута деревянная ложка. Весной и осенью поверх рубахи надевался темно-серый или смурый (темно-бурый) кафтан. Зимней верхней одеждой служил тулуп, обувью – валенки. Шляпу заменял треух, на руках были кожаные рукавицы. Так как мужики жили в Петербурге бессемейно и занимались тяжелой и грязной работой, одежда их скоро приобретала весьма неприглядный вид. Стригся мужик «под горшок», носил усы и бороду.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе