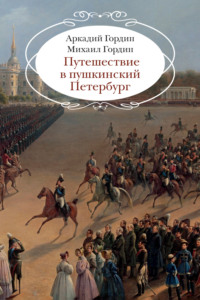Читать книгу: «Путешествие в пушкинский Петербург», страница 6
Глава шестая
«У суеверных алтарей»
Петербург был центром управления не только административными, но и «духовными» делами империи. Здесь находился Святейший правительствующий синод. Ему были подведомственны все российские епархии, настоятели и настоятельницы монастырей и все духовные чины, две синодальные конторы – московская и грузинско-имеретинская, духовные академии и семинарии. С начала 1830-х годов Синод занимал огромное здание на Сенатской площади рядом с Сенатом.
У Пушкина в материалах к «Истории Петра» есть запись: «По учреждении Синода духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников – графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: „Вот вам патриарх“».
Духовенство в России целиком подчинялось царю. Патриаршество было упразднено. Главою православной, греко-российской церкви являлся царь.
Председательствовал в Синоде санкт-петербургский митрополит, но членов этого учреждения (из духовных лиц) назначал царь. При Синоде имелась должность обер-прокурора, занимаемая светским лицом – «око государя и стряпчий по делам государственным». Обер-прокурор Синода обладал правами министра. Он объявлял Синоду распоряжения царя и докладывал царю о положении дел в Синоде. Он же осуществлял связь Синода со светскими правительственными учреждениями.
Такие широкие полномочия обер-прокурор Синода получил с начала царствования Александра I. Взойдя на престол, Александр захотел иметь в Синоде доверенное лицо. И, к всеобщему изумлению, назначил на эту должность своего любимца князя А. Н. Голицына – человека, щеголявшего в узком кругу вольномыслием и даже безбожием. Заняв должность обер-прокурора Синода, недавний богохульник разительно переменился – впал в набожность и даже в мистицизм на новомодный европейский манер. В предоставленном ему правительством доме на Фонтанке, против Летнего сада, Голицын устроил роскошную и мрачную домовую церковь.
В верхнем этаже дома Голицына жили друзья Пушкина – братья Александр Иванович и Николай Иванович Тургеневы (первый был директором Департамента духовных дел и иностранных исповеданий). И, приходя к ним, Пушкин слышал заунывное церковное пение, доносившееся из домовой церкви князя Голицына, видел знатных особ, приезжавших сюда молиться.
С 1817 года Голицын возглавлял Министерство духовных дел и народного просвещения.
Вся придворная атмосфера с середины 1810-х годов была пропитана мистицизмом и религиозной экзальтацией. Придворные дамы и царедворцы слушали заезжих проповедников, прорицателей, выискивали «святых людей». Тогда же с благословения Голицына, по примеру парижского и лондонского, появилось петербургское Библейское общество, ставившее своей целью изучение и распространение Библии. Оно помещалось в подаренном ему царем доме на Екатерининском канале. В Общество были приглашены представители всех христианских вероисповеданий, жившие в Петербурге. На его собраниях рядом с петербургским митрополитом Михаилом и ректором духовной академии Филаретом сидели лютеранские и англиканские проповедники, католический епископ Сестренцевич.
Ересь… Угроза истинной вере… Православное духовенство открыто роптало и стало объединяться для борьбы с Голицыным и новомодными мистиками. Во главе православной партии встал монах-изувер Фотий.
Пушкин клеймил в своих эпиграммах и Голицына, и Фотия. О последнем он писал:
Полу-фанатик, полу-плут;
Ему орудием духовным
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, Господи, греховным,
Поменьше пастырей таких, —
Полу-благих, полу-святых.
Задумав свалить Голицына, Фотий развил бурную деятельность. Он неусыпно следил за всеми действиями мистиков, читал их книги, делал выписки. Скупал и жег «масонские» издания, чтобы они не разошлись в публике. Подкупал слуг в тех домах, где устраивались собрания мистиков, чтобы из потаенного места все видеть и слышать.
Православная партия заручилась поддержкой всесильного Аракчеева и нового санкт-петербургского митрополита Серафима. В конце концов Голицыну пришлось подать в отставку.
Православная партия с такой же готовностью служила властям, как и мистики во главе с Голицыным. А целью Александра I было превратить церковь в своего рода духовную полицию. Аракчеевщину насаждали и в делах религии.
Роль духовных полицейских отводилась «святым отцам» и при Николае I. Понятие о том, сколь рьяно стремились угождать власть имущим многие православные иерархи, дает проповедь, произнесенная митрополитом новгородским и петербургским Никанором в январе 1832 года. Говоря об особе государя императора, митрополит возгласил: «Вы знаете, что избирает его сам Бог, который и помазует его на царство, и превозносит. Он представляет образ Царя Небесного на земле… Назначает ли подати и налоги? Мы должны платить без роптания… Требует ли от нас наших детей для защиты отечества? В сем случае мы должны жертвовать не только жизнью своих сынов, но и собственною своею, только бы спасти престол и царство…»
Священники в церквах в обязательном порядке должны были возносить молитвы за царя. В столичных храмах с особой торжественностью праздновали ежегодные «табельные» дни – коронования, рождения, именин императора.
В сугубо монархическом духе излагали Закон Божий в учебных заведениях. Основой преподавания с середины 1820-х годов служил катехизис, составленный митрополитом Филаретом. Толкуя десять заповедей, Филарет требовал почитать все предержащие власти, как отца и мать.
Высшие церковные иерархи 14 декабря 1825 года наряду с шефом столичной полиции генерал-губернатором Милорадовичем пытались уговорить восставших солдат вернуться в казармы. После подавления восстания Николай I сразу же постарался привлечь церковь к политическому сыску.
Декабрист Михаил Бестужев рассказывал, как, будучи брошен в Петропавловскую крепость и ожидая близкой смерти, встретил явившегося к нему священника: «Спокойно, даже радостно я пошел к нему навстречу – принять благословение, и, принимая его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира и мысленно уже уносился в небо. Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью.
– Ну, любезный сын мой, – проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, – при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание…
С высоты неба я снова упал в грязь житейских дрязг… В служителе алтаря я должен был признать не посредника между земною и небесною жизнию, не путеводителя, на руку которого опираясь я надеялся твердо переступить порог вечности, но презренное орудие деспотизма, сыщика в рясе! Я не помню, не могу отдать верного отчета, что сталось со мною. Я поднялся с колен и с презрением сказал:
– Постыдитесь, святой отец! что вы, несмотря на ваши седые волосы, вы, служитель Христовой истины, решились принять на себя обязанность презренного шпиона?»
В соответствии с возложенными на них полицейскими функциями «святые отцы» порой выступали и в роли тюремщиков: политических преступников иногда ссылали «на покаяние» в монастыри. Такому наказанию подверглись некоторые декабристы.
Ссылка в Соловецкий монастырь, как уже говорилось, угрожала Пушкину.
Церковь оказывала помощь самодержавному государству и в его борьбе с «вредными» идеями. Устав духовной – то есть церковной – цензуры, утвержденный в 1828 году, предписывал защиту православия от «богохульных и дерзких извращений вольнодумцев» и обязывал духовных цензоров искоренять мысли, «пахнущие вольностью и неуважением к власти, от Бога установленной».
Церковники весьма враждебно относились к поэзии Пушкина. А. В. Никитенко в марте 1834 года записал в своем дневнике слышанный им «забавный анекдот» о том, как митрополит Филарет жаловался Бенкендорфу на то, что в описании Москвы в «Евгении Онегине» сказано: «И стаи галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор». В конце 1820-х годов по инициативе петербургского митрополита Серафима было начато дело против Пушкина из-за его «богохульной» поэмы «Гавриилиада»…
В заметках, дневниковых записях и письмах Пушкина немало резких критических суждений о православной церкви и ее служителях.
В поэме «Цыганы», рисуя картину современного ему общества, в том числе и петербургского, Пушкин выделяет как его необходимую принадлежность и «суеверные алтари»:
О чем жалеть? когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов —
За неподвижными стенами
Там люди тесными толпами
Не дышат запахом лугов —
Там вольность покупают златом,
Балуя прихоть суеты,
Торгуют вольностью – развратом
И кровью бледной нищеты.
Любви стыдятся, мысли гонят,
У суеверных алтарей
Главы пред идолами клонят
И молят денег и цепей.
Эти строки остались в черновике поэмы, опубликовать их Пушкин, конечно, не мог – защитой «суеверным алтарям» служила вся мощь самодержавного государства, одним из учреждений которого была православная церковь.
В 1801 году в Петербурге проживало 520 представителей православного духовенства. Через двадцать лет число их увеличилось до 1991 и продолжало расти.
Священники и причт жили в церковных домах. Высшее духовенство – в Александро-Невской лавре.
Петербург был город молодой и деловой, церквей в нем было сравнительно немного. В конце 1830-х годов насчитывалось православных соборов и приходских церквей 46, домовых – 100, часовен – 45. По праздникам звонили в 626 колоколов.
Российское правительство воздвигало храмы не только для совершения религиозных обрядов и вознесения молитв. Здесь была и другая, мирская цель – сделать столичный город Санкт-Петербург еще пышнее и торжественнее. Поэтому для постройки парадных церквей и соборов отпускались огромные суммы (так, Исаакиевский собор стоил более 23 миллионов рублей). Воздвигать их поручали выдающимся зодчим.
Петропавловский собор, собор Смольного монастыря, Никольский Морской, Троицкий собор в лавре, Казанский, Троицкий, Преображенский соборы – творения Д. Трезини, Ф.-Б. Растрелли, С. И. Чевакинского, И. Е. Старова, А. Н. Воронихина, В. П. Стасова – замечательные образцы мирового зодчества, сокровища русской архитектуры. Грандиозность и красота этих зданий поражали воображение. Внутреннее убранство тоже было великолепным. Иконостасы создавали талантливые мастера, иконы и роспись – лучшие художники, скульптуру – лучшие скульпторы. На оклады старинных «нерукотворных» и «чудотворных» икон, так же как на церковную утварь, не жалели ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней.
Такие соборы, как Петропавловский, Казанский, Преображенский, служили хранилищами русской славы.
В Петропавловском соборе, где хоронили царей начиная от Петра I, были собраны и развешаны военные трофеи русских войск, добытые в войнах с турками. Знамена, флаги, вымпелы, ключи от крепостей, оружие, бунчуки… У могилы Петра I лежало знамя турецкого капудан-паши, взятое русскими войсками, разбившими морской флот Турции в 1770 году.
В Казанском соборе находились военные трофеи, взятые в годы войны с Наполеоном. Здесь висело множество знамен, лежали ключи от крепостей и городов, жезл маршала Даву. Одной из достопримечательностей собора был огромный литой серебряный иконостас. Его отлили из 100 пудов серебра, отбитого у французов казаками Войска Донского.
Под сенью знамен в соборе покоился Кутузов.
Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд…
Так писал Пушкин о гробнице Кутузова.
Новый Преображенский собор, отстроенный после пожара в конце 1820-х годов, был полковой церковью старейшего гвардейского Преображенского полка. Внутри собора хранились военные трофеи, а ограду составляли красиво сгруппированные и соединенные цепями стволы турецких пушек, захваченных у неприятеля во время Русско-турецкой войны 1828 года.
29 августа во всех церквах служили панихиду по русским воинам, павшим на поле боя; 25 декабря – благодарственный молебен за избавление России от нашествия Наполеона и «двунадесяти языков». Торжественные богослужения бывали на Рождество, на Пасху и еще несколько раз в году.
Особый, петербургский характер был у богослужений по праздникам, связанным с водой. В Крещение на Неве против Зимнего дворца сооружали деревянный храм с широкой террасой и открытой галереей. На первой совершался молебен, на второй размещались знамена гвардейских полков, принесенные для освящения водой из проруби – иордани. В церкви Зимнего дворца митрополит служил молебен, а оттуда крестный ход через главный подъезд спускался к иордани. Воду святили – в прорубь погружали крест. При этом в крепости палили пушки, а выстроенные тут же солдаты гвардейских полков стреляли из ружей. В связи с этим главный подъезд Зимнего дворца получил название Иорданского, а главная парадная лестница – Иорданской. В день Преполовения, праздновавшийся весной, крестный ход устраивали у Невы на стенах Петропавловской крепости и молились о том, чтобы не было наводнений.
В апреле 1828 года друг Пушкина писатель П. А. Вяземский сообщал жене: «Сегодня праздник Преполовения, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ… Сегодня и праздник ранее, и день холодный, но, однако же, народа было довольно. Мы садились с Пушкиным в лодочку… Пошли бродить по крепости и бродили часа два».
Все жители Петербурга считались паствой ближайшей к их дому церкви. Здесь они должны были молиться, исповедоваться, причащаться. Те, кто не ходил в церковь, могли быть обвинены в вольнодумстве. Здесь венчались, крестили младенцев и отпевали умерших. Правда, простых людей отпевали обычно в кладбищенских церквах.
Живя в Коломне в доме Клокачева, Пушкины были прихожанами Покровско-Коломенской церкви, которая стояла недалеко от их дома, на Покровской площади. В «Домике в Коломне», рассказывая о жизни своей героини Параши, Пушкин вспоминал эту церковь:
По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилася перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову – и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.
Даже здесь, в церкви, где, казалось бы, все равны, прихожане молились по-разному. И здесь играло роль их положение в обществе.
Туда, я помню, ездила всегда
Графиня… (звали как, не помню, право).
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее. Параша перед ней
Казалась, бедная, еще бедней.
Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она
Молилась Богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена.
Смиренье в ней изображалось нежно;
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.
Случалось, что, живя в доме Клокачева, Пушкины всей семьей ходили по праздникам в церковь Театральной школы, находившуюся неподалеку. Одна из воспитанниц этой школы, актриса А. М. Каратыгина-Колосова, впоследствии вспоминала: «Пушкины и графиня Ивелич на Страстной неделе говели вместе с нами в церкви Театрального училища (на Офицерской улице, близ Большого театра). Помню, как графиня Екатерина Марковна рассказывала мне, что Саша Пушкин, видя меня глубоко растроганною за всенощною Великой пятницы, при выносе святой плащаницы, просил сестру свою Ольгу Сергеевну напомнить мне, что ему очень больно видеть мою горесть, тем более что Спаситель воскрес; о чем же мне плакать? Этой шуткой он, видимо, хотел обратить на себя мое внимание…»
Юный Пушкин ходил в церковь Театрального училища, чтобы увидеть будущих актрис. То в одну, то в другую он время от времени влюблялся. Девушек держали строго. Церковь была единственным местом, куда допускались посторонние.
25 января 1828 года в метрической книге собора Святой Троицы – церкви Измайловского полка, в графе «Кто именно венчаны», была сделана следующая запись: «Состоящий в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел чиновник 9-го класса Николай Павлищев с дочерью статского советника Сергея Пушкина, девицей Ольгой, как жених, так и невеста первым законным браком венчаны священником Симеоном Александровым». За этой краткой записью скрывалась необычная история замужества сестры Пушкина – Ольги Сергеевны, которая обвенчалась со своим женихом тайно, не спросясь согласия родителей.
В метрической книге Владимирской церкви за июль того же 1828 года в графе «Кто именно померли» есть запись: «5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостная женщина Арина Родионова». В графе «Лета» проставлен возраст умершей – 70 лет. В графе «Какою болезнию» указано: «Старостию». Няня Пушкина Арина Родионовна недолго была прихожанкой Владимирской церкви. Последние месяцы своей жизни она провела у жившей в Большом Казачьем переулке Ольги Сергеевны. Выйдя замуж и обзаведясь собственным домом, Ольга Сергеевна вызвала себе в помощь из села Михайловского свою старую няню. Но вскоре Арина Родионовна заболела и умерла.
И еще одна церковь в Петербурге связана с именем Пушкина – церковь Конюшенного ведомства, построенная В. П. Стасовым на Конюшенной площади, вблизи того места, где жил Пушкин. После смерти поэта отпевать его предполагалось в Исаакиевском соборе Адмиралтейства. Однако 1 февраля 1837 года А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, – так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви».
3 февраля в полночь, опять-таки тайно, тело Пушкина из Конюшенной церкви было увезено в Псковскую губернию, в Святогорский монастырь. Поэт завещал похоронить себя на родовом кладбище. «Умри я сегодня, – писал он жене летом 1834 года, – что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку». Весной 1836 года, когда Пушкин ездил в Святые Горы хоронить мать, он купил подле могилы матери место для себя…
Среди столичных кладбищ были и привилегированные, были и попроще.
Наиболее заслуженных и знатных особ хоронили в Александро-Невской лавре. Этот большой монастырь, находившийся в самом конце Невского проспекта, начали строить еще при Петре I.
В Благовещенской церкви лавры был похоронен Суворов. Об этом гласила лаконичная надпись на бронзовой доске: «Здесь лежит Суворов». Так велел написать сам великий полководец. Под пышными надгробиями покоились военачальники, вельможи, царедворцы. На Лазаревском и Ново-Лазаревском (Тихвинском) кладбищах лавры хоронили известных писателей, художников, скульпторов, архитекторов, ученых. Здесь были похоронены М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, скульптор М. И. Козловский, архитекторы И. Е. Старов и А. Н. Воронихин.
Привилегированным считалось и Волково кладбище. В. Бурьянов в 1838 году писал о нем как об очень хорошо убранном и устроенном. «Прогулка по кладбищу, устроенному в виде сада и цветника, с множеством превосходнейших памятников, не может не быть интересна».
На Смоленском кладбище хоронили небогатых купцов, лиц «среднего сословия», то есть мещан, людей «простого звания». Здесь была похоронена няня Пушкина Арина Родионовна. Об этом имеется запись в «Ведомости города Санкт-Петербурга церкви Смоленския Божия Матери, что на Васильевском острове при кладбище».
Еще скромнее было Большеохтинское кладбище, о котором упоминается в поэме «Домик в Коломне»:
…С бедною кухаркой
Они простились. В тот же день пришли
За ней и гроб на Охту отвезли.
Летом 1836 года, живя с семьей на даче на Каменном острове, Пушкин заходил на ближайшее, Благовещенское, кладбище.
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит,
Хоть плюнуть да бежать…
(«Когда за городом, задумчив, я брожу…»)
Вид столичного кладбища – того пристанища, что было уготовано петербуржцам после смерти, – являл глазам поэта те же отвратительные, те же нелепые черты, которые отталкивали его и в петербургской жизни.

Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе