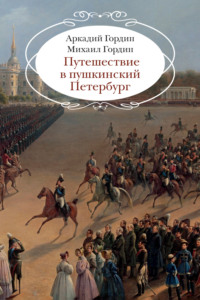Читать книгу: «Путешествие в пушкинский Петербург», страница 5
Глава пятая
«Везде неправедная власть»
Петербург был центром управления Российской империей, управления многосложного и запутанного.
Во главе государства стоял самодержавный властитель – царь.
Главной царской резиденцией в Петербурге был Зимний дворец, возведенный Ф.-Б. Растрелли в середине XVIII века. Когда царь находился в столице, над Зимним дворцом развевалось желтое знамя с черным двуглавым орлом – императорский штандарт. В Зимнем дворце решались все основные вопросы внутренней и внешней политики, что делало его важнейшим государственным учреждением.
В грандиозных парадных залах второго этажа – Белом, Георгиевском, Фельдмаршальском, Тронном – принимали послов и устраивали торжественные дворцовые церемонии.
Вот как описан Тронный зал Зимнего дворца в книге В. Бурьянова «Прогулка по Санкт-Петербургу», изданной в 1838 году: «В Тронной находится великолепный трон в старинном вкусе с четырьмя ступенями, покрытыми красным бархатом. Самый трон состоит из больших кресел, покрытых алым бархатом, с балдахином, украшенным императорскою короною. При публичных аудиенциях стоят государственные регалии подле трона на бархатных подушках, лежащих на маленьких столиках… Большая корона, вся литая из золота, подложена красным бархатом и осыпана крупными драгоценными каменьями. Верх украшен большим яхонтом необыкновенной величины. Малая корона также осыпана брильянтами. Верхняя оконечность скипетра украшена огромным алмазом, купленным императрицей Екатериной II… за полмиллиона рублей… Он весит 194 карата и огранен в Индии. Государственная держава с золотым крестом покрыта более нежели до половины на поверхности разными драгоценными каменьями».
Из владельцев Зимнего дворца Пушкин знал двоих.
Об Александре I в десятой главе «Евгения Онегина» сказано:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Хитрый, двуличный, переменчивый Александр I не отличался ни выдающимся государственным умом, ни военными талантами.
После победы над Наполеоном Александр пожинал лавры, добытые русскими полководцами и солдатами. Во второй половине своего царствования он мало бывал в Петербурге, передоверив ведение дел своему любимцу – генералу Аракчееву, которого порядочные люди иначе не называли, как «подлый» и «гнусный».
Что же касается Николая I, то, вступив на престол в 1825 году, двадцати восьми лет от роду, он вплотную занялся государственными делами.
Поднимаясь чуть свет, он до полудня читал и подписывал бумаги, принимал министров. «В первом часу дня, – сообщает мемуарист, – невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения, смотра или парада, в визитацию или, вернее, инспектирование учебных заведений, казарм, присутственных мест и других казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты… В таких заведениях он входил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно следует изменить, а другое вовсе уничтожить». Однако неуемная деятельность царя, мелочная и суетливая, не приносила полезных плодов. Большинство должностных преступлений и злоупотреблений обычно сходило с рук. Лишь изредка случайно они обнаруживались, и тогда, по выражению М. А. Корфа, ставшего в 1830-е годы одним из видных деятелей николаевской администрации, царь видел себя перед «зияющей бездною всевозможных мерзостей, бездною, открывшеюся не сегодня, не вчера, а образовавшеюся постепенно, через многие годы, неведомо ему перед самым его дворцом».
Управление страной царь осуществлял с помощью сосредоточенного в Петербурге громоздкого государственного аппарата.
Высшим правительственным учреждением империи являлся Государственный совет, который заседал тут же, в Зимнем дворце. Государственный совет был образован в 1810 году Александром I как совещательный орган при императоре. В его обязанности входило разрабатывать законы, обсуждать их и вносить на утверждение царя. Первоначально предполагалось, что царь будет соглашаться лишь с мнением большинства и ставить резолюцию: «Вняв мнению Государственного совета, утверждаем». Но так как часто утверждалось мнение меньшинства, Николай I в 1826 году сменил эту формулу на другую: «Быть по сему». Так писал он на бумагах и ставил свое имя.
В сатирическом ноэле Пушкина «Сказки» Александр I обещает подданным:
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли.
Горголи был петербургским обер-полицмейстером. Место закона мог он занимать потому, что закон не почитался ни во что. Его не соблюдали. Цари управляли страной посредством высочайших повелений, именных указов, рескриптов и распоряжений. Каждый царский указ и становился законом впредь до нового, отменявшего прежний или противоречившего ему. Один за другим летели из Петербурга эти указы по всей империи – от Польши в Европе до Аляски в Америке. Право царя вмешиваться в деятельность любого учреждения, изменять и отменять любые постановления и приговоры низводило даже высших сановников до роли безгласных исполнителей.
При Александре I Государственный совет делился на четыре департамента – законов, гражданских и духовных дел, военных дел, государственной экономии. При Николае I был образован еще департамент по делам Царства Польского.
В 1810 году председателями департаментов были назначены граф П. В. Завадовский, князь П. В. Лопухин, граф А. А. Аракчеев, граф Н. С. Мордвинов. «Известно, – писал Корф, – что продолжительным прениям о том, как их рассадить, и даже нескольким последовавшим пересадкам мы обязаны остроумною баснею Крылова „Квартет“».
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь —
таков был взгляд баснописца на пригодность этих лиц к государственной деятельности.
Через двадцать с лишним лет Пушкин столь же нелестно отозвался о князе В. П. Кочубее, бывшем при Николае I председателем Государственного совета. В июне 1834 года поэт записал в своем дневнике: «Тому недели две получено здесь известие о смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!.. О Кочубее сказано:
Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей.
Что в жизни доброго он сделал для людей,
Не знаю, черт меня убей.
Согласен; но эпиграмму припишут мне, и правительство опять на меня надуется».
При Государственном совете состояли Комиссия составления законов, Комиссия прошений, подаваемых на высочайшее имя, Государственная канцелярия и Канцелярия Комитета министров. Комитет этот должен был во время отсутствия императора решать все дела, «разрешение коих превышает предел власти, вверенной каждому министру». Комитет министров, как и Государственный совет, заседал в Зимнем дворце.
Высшей судебной инстанцией империи был Правительствующий сенат. Он помещался на Петровской (Сенатской) площади, в бывшем дворце канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, а с 1834 года – в новом великолепном здании, возведенном по проекту К. И. Росси.
Сенат делился на восемь департаментов. Пять из них находились в Петербурге, три – в Москве. Сенату подчинялись все присутственные места, он наблюдал за отправлением правосудия, разбирал апелляции и, кроме того, ревизовал губернии.
Тяжбы между жителями – в зависимости от их сословной принадлежности – разбирали уездный, надворный и земский суды в первой инстанции, губернское правление, уголовная и гражданская палаты во второй.
О том, как велось делопроизводство в самом Сенате, рассказывает в своих «Записках современника» С. П. Жихарев: «Отец писал, чтоб я похлопотал по березняговскому делу и попросил кого-нибудь в Межевом департаменте Сената о скорейшем окончании этого несчастного процесса, продолжающегося более 17 лет. Рано утром отправился я в Сенат и провозился там до двух часов, отыскивая секретаря Булкина, к которому прежде для справок и наставлений отец адресоваться мне приказал. Булкин с великим огорчением объявил, что он не заведывает более нашим делом и что оно по приказанию обер-прокурора… передано другому секретарю, Степану Степановичу Ватиевскому. „А где ж Ватиевский?“ – спросил я у Булкина. „А вон сидит там“, – отвечает Булкин. Я обратился к Ватиевскому. Презрительно посмотрев на меня, он спросил довольно грубо: „Что вам угодно?“ Я объяснил, в чем дело. „Сегодня день не присутственный, – сказал он, – извольте прийти в другой раз“». На просьбу Жихарева ответить только, в каком положении дело, секретарь объявил: «Не от нас зависит-с, а от обер-секретаря». Добравшись наконец до обер-секретаря Крейтера, Жихарев узнал, что дело остановилось за неполучением каких-то новых справок. При этом Крейтер ободрил его и посоветовал «сыскать какую-нибудь протекцию». «Я отвечал, – рассказывает Жихарев, – что… знаком с сенатором И. С. Захаровым, у которого буду сегодня на литературном вечере. „Ну, так и слава богу! Чего ж, батюшка, лучше? Христос с вами! Успокойте родителей ваших!“».
Без «протекции» даже очевидное дело могло тянуться годами.
Окончательной инстанцией судебной власти, как и законодательной, был царь.
В ноябре 1833 года Пушкин отметил в дневнике: «Выдача гвардейского офицера фон Бринкена курляндскому дворянству. Бринкен пойман в воровстве; государь не приказал его судить по законам, а отдал на суд курляндскому дворянству. Это зачем?.. Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство?.. Вот вопросы, которые повторяются везде».
Для Николая I, как и для его старшего брата Александра I, законов не существовало.
Высшими правительственными учреждениями были и министерства. Их учредили в 1802 году вместо старых коллегий. При Александре I существовало семь министерств: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, финансов, юстиции, духовных дел и народного просвещения. При Николае I к ним еще прибавились Министерство императорского двора и Министерство уделов.
Министерство императорского двора состояло в ве́дении императора и не отдавало отчета в действиях своих ни одному «правительственному месту». В него входили Кабинет его императорского величества, заведовавший доходами с многочисленных заводов и фабрик, являющихся личной собственностью царя; Придворная контора, ведавшая всеми расходами на содержание двора; Гофинтендантская контора, имевшая в своем ведении придворные здания и селения; Егермейстерская контора, ведавшая охотой и разными «царскими забавами»; Конюшенная контора, Экипажный комитет и другие. В ве́дении Министерства двора находились также императорские театры, Эрмитаж, Академия художеств, Певческая капелла, Пажеский корпус, Ботанический сад…
Министерство уделов тоже подчинялось лишь императору и управляло доходами и расходами по имениям, «отчисленным в удел лиц высочайшей фамилии».
Каждое министерство подразделялось на департаменты, департаменты в свою очередь – на отделения, отделения – на столы. При каждом министерстве существовал министерский совет, а также канцелярия. Кроме министерств и департаментов, делами государства управляли всевозможные комиссии, комитеты, канцелярии.
Министерства и департаменты заняли едва ли не лучшие здания столицы. В середине 1820-х и в 1830-е годы Министерство уделов размещалось в особняке на Дворцовой набережной, выходившем и на Большую Миллионную улицу; Министерство иностранных дел – в восточном крыле здания Главного штаба на Дворцовой площади (до того резиденцией его был просторный особняк на Английской набережной); Военное министерство – в здании Главного штаба, в бывшем доме князя А. Я. Лобанова-Ростовского на Адмиралтейской площади и еще в нескольких домах – казенных и частных; Морское министерство – в Главном Адмиралтействе и казенном здании на Английской набережной; Министерство внутренних дел – в особняке на набережной Мойки близ Синего моста, а позже – в новом здании у Чернышева моста, построенном Росси; Министерство духовных дел и народного просвещения – в домах по Большой Садовой и Чернышеву переулку, а затем также в новом здании возле Чернышева моста; Министерство юстиции – в генерал-прокурорском доме по Малой Садовой; Министерство финансов – в особняке на Дворцовой набережной и других казенных зданиях; Главное управление путей сообщения и публичных зданий – в казенных домах по набережной Фонтанки у Обухова моста; Главное управление почт – в домах Почтамта близ Исаакиевской площади.
До середины 1820-х годов в Петербурге с раннего утра, если не сказать – с ночи, наибольшее оживление наблюдалось не у министерств и департаментов, а возле скромного деревянного дома на углу Литейной и Кирочной улиц. Дом этот принадлежал второй артиллерийской бригаде, и занимал его шеф бригады генерал Аракчеев. Рассказывали, что как-то Александр I предложил Аракчееву:
– Возьми этот дом себе.
– Благодарю, государь, на что он мне? Пусть останется вашим. На мой век станет, – ответил генерал.
А дело было в том, что казенный дом освещала, отапливала и ремонтировала казна, а перейди он к Аракчееву, все расходы легли бы на него.
Царь видел в Аракчееве, которого назначил председателем Военного департамента Государственного совета, инспектором всей артиллерии и начальником военных поселений, своего ближайшего друга и лучшего исполнителя своих предначертаний.
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он – друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,
…грошевой солдат.
Так писал об Аракчееве Пушкин.
Назначенный царем «для доклада и надзора по делам Комитета министров», Аракчеев считал своим долгом надзирать за всем. Вставал он по-военному рано. Просителей принимал с четырех часов утра. Уже перед рассветом возле дома на углу Литейной стояли кареты министров, сенаторов, членов Государственного совета. Без Аракчеева почти невозможно было добиться аудиенции у царя. Даже знаменитому писателю и историографу Н. М. Карамзину, когда он захотел говорить с Александром, пришлось прежде отправиться на поклон к Аракчееву. Приехавшая в Петербург просительница сообщала родственникам: «…а насчет дел, кажется, ни по каким ничего не будет. Государя нет и, думаю, прежде 6 января не будет. Аракчеев нездоров и все дела сдал». Когда царь уезжал, а Аракчеев болел, дела решать было некому.
Многие, желавшие получить теплое местечко, повышение в чине, орден, действовали через любовницу Аракчеева, жену синодального обер-секретаря Пукалову. Эта дама за соответствующую мзду «помогала» просителям.
От Аракчеева зависело очень многое. Вскоре после победы над Наполеоном Александр поставил своего любимца во главе комитета, призванного оказывать «воспомоществование неимущим и изувеченным» генералам и офицерам. Просьбы их царь распорядился «представлять… через состоящего при нем генерала от артиллерии графа Аракчеева». В комитет вошло и несколько вельмож. О том, как оказывалась помощь изувеченным воинам, рассказал Гоголь в «Повести о капитане Копейкине», вошедшей в «Мертвые души». Капитан Копейкин, потерявший в кампании 1812 года правую руку и ногу, кое-как добрался до Петербурга искать помощи у начальства. Ему указали на «высшую комиссию» и дали адрес ее начальника. Вельможа велел Копейкину наведаться на днях. И начались для Копейкина бесплодные хождения. А когда он, доведенный до крайности, вздумал возражать, то его с фельдъегерем препроводили к месту жительства.
Из дальних мест, из городов и деревень шли и ехали в столицу люди искать защиты и правосудия. Что же находили они? И в высших, и в низших инстанциях было беззаконие, произвол, мздоимство.
А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде.
Без синюхи10
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.
Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за все, про все давай!
Там же каждая душа
Покривится из гроша.
Заседатель,
Председатель
Заодно с секретарем.
Это строки из агитационной песни поэтов-декабристов К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. Тут нет никакого поэтического преувеличения. Вопиющее неправосудие было делом обычным. О многих преступлениях, творившихся в судах, знал и рассказывал в обществе друг Рылеева и Бестужева писатель-декабрист Ф. Н. Глинка, служивший чиновником по особым поручениям при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче. Вот один из его рассказов. Унтер-офицерская жена Ромашева нанялась в услужение «к двум сестрам-девицам, имевшим наружность знатных господ, но в самом деле во всем смысле развратным». Заподозрив Ромашеву в краже вещей, одна из сестер, состоящая в связи с квартальным надзирателем, подала заявление в съезжий дом, и безвинную Ромашеву бросили в тюрьму при Управе благочиния, «ужасную по зловонию и нечистоте». «Оттоле она перешла все узаконенные мытарства и через надворный суд в уголовную палату. Нигде не чинили ей допроса, никуда налицо не приводили, но, судя ее за глаза, приговорили к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь. По объявлении сего ужасного приговора и наказав плетьми, повергли опять невинную в ужасное заточение».
Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела – рабства грозный гений
И славы роковая страсть, —
писал Пушкин в оде «Вольность».
Так было при Александре I.
Что же сделал, вступив на престол, Николай I? Он еще более усилил «неправедную власть». Департамента полиции Министерства внутренних дел и городской петербургской полиции для наведения «порядка» в стране и в столице ему показалось мало. И, предугадывая желание царя, уже в начале января 1826 года генерал Бенкендорф представил Николаю «Проект об устройстве высшей полиции». В проекте говорилось: «События 14 декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более десяти лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнение».
Николай одобрил проект своего генерал-адъютанта. 25 июня 1826 года был издан указ о создании жандармской полиции во главе с Бенкендорфом. Еще через неделю Особую канцелярию Министерства внутренних дел преобразовали в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, и во главе ее был поставлен тот же Бенкендорф.
Третье отделение, разместившееся на Мойке в доме купца Таля, недалеко от Красного моста, первоначально было совсем небольшим – штат его составляли всего шестнадцать чиновников. Зато предоставленная в его распоряжение жандармская полиция (впоследствии отдельный корпус жандармов) была весьма многочисленна. Империю поделили на пять жандармских округов. Во главе каждого округа стоял генерал. В каждую губернию назначили одного штаб-офицера и нескольких обер-офицеров, в ведении которых находилась жандармская команда. Кроме того, Третье отделение пользовалось услугами многочисленных агентов – платных и добровольных.
Третье отделение обязано было искоренять крамолу, бороться с казнокрадством и взяточничеством, ловить фальшивомонетчиков и особо опасных уголовных преступников, следить за иностранцами и надзирать за русской литературой. Круг интересов Третьего отделения оказался столь обширен потому, что это учреждение призвано было контролировать деятельность и всего государства в целом, и каждого подданного в отдельности. В делах Третьего отделения имелись сведения о мужике, распространявшем слух про будто бы объявившегося где-то атамана Метелкина и утверждавшем, что «Пугачев пугал господ, а Метелкин пометет их». Здесь же находилась характеристика министра внутренних дел графа А. А. Закревского, в которой говорилось: «Гр. Закревский деятелен и враг хищений, но он совершенно невежда».
Как справлялась со своими обязанностями тайная полиция? Паническая боязнь «вольномыслия», которая определяла политику Николая I, особенно наглядно проявлялась в деятельности его тайных агентов и жандармов. Казнокрадство и взяточничество процветали, несправедливость и неправосудие по-прежнему были отличительными чертами государственной системы, а Третье отделение искореняло «крамолу». В инструкциях, рассылавшихся высшим жандармским чинам, говорилось, что обязанностью Третьего отделения является «охрана благополучия и достоинства жителей империи». На деле же роль этого учреждения свелась к установлению над всеми подданными мелочной, унизительной опеки и слежки.
Убедительный пример – отношение к Пушкину. Известна переписка Бенкендорфа с Пушкиным. Она велась из года в год, из месяца в месяц. Началась она вскоре после того, как Николай вернул поэта из михайловской ссылки, «простил» его и препоручил заботам шефа жандармов. Что ни письмо Бенкендорфа – то выговор, угроза, грозный запрос, предупреждение.
Генерал Бенкендорф обращался с Пушкиным как с неисправным поручиком. Тон, разумеется, задавал сам царь.
Поэту приходилось давать объяснения Бенкендорфу, Третьему отделению по поводу отрывка из элегии «Андрей Шенье», ходившего в списках с заголовком «На 14 декабря», по поводу виньетки на обложке поэмы «Цыганы», где изображены были опрокинутая чаша, змея и кинжал, по поводу чтения в частных домах трагедии «Борис Годунов», еще не разрешенной к печати высочайшим цензором, и в других случаях. Под бдительным оком жандармов был не только сам поэт, но и каждое его поэтическое слово.
Принципы и методы управления государством, взаимоотношения личности и государства – эти вопросы неотступно занимали Пушкина-мыслителя. Работая над «Историей Петра I», он беспристрастно оценивал деятельность царя-преобразователя в управлении страной: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Наследники Петра усвоили, главным образом, его грубые приемы, утратив его государственную мудрость.
В «Дневнике» Пушкина за 1834 год есть такая характеристика императора Николая I, данная поэтом от третьего лица: «Кто-то сказал о государе: Il’y a beaucoup de praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand»11. В 1830-е годы го». В 1830-е годы городом Петра Великого правил прапорщик. И в великом городе царил дух казармы.

Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе