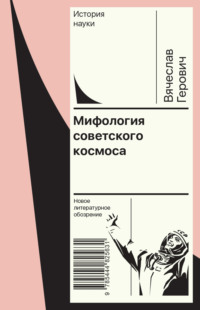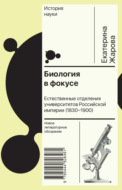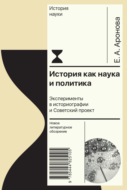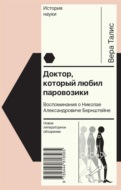Читать книгу: «Мифология советского космоса», страница 3
Мифологизация космонавтов
Всю космическую программу публично представляли несколько слетавших в космос космонавтов – как буквально, стоя на трибуне Мавзолея Ленина рядом с текущим руководителем партии, так и символически, в медийных репрезентациях. Организованные мероприятия вроде церемоний встреч в аэропорту «Внуково» и появлений у мавзолея создавали знаковые образы космической эпохи, широко распространявшиеся телевидением, газетами, на плакатах и почтовых открытках. Появляясь рядом с космонавтами, советские руководители купались в лучах их славы и одновременно наполняли историческую летопись образами с конкретным политическим смыслом. Когда руководители менялись, эту летопись приходилось соответствующим образом корректировать. В хрущевскую эпоху в документальных съемках послеполетной торжественной встречи Гагарина он всегда оказывался рядом с Хрущевым; сцены без Хрущева безжалостно вырезали из видео. Когда же к власти пришел Брежнев, режиссерам пришлось делать обратное: они изымали кадры с опальным Хрущевым и вместо них доставали ранее вырезанные сцены, чтобы сделать из них новый визуальный канон68. Конструирование культа Гагарина также сопровождалось систематической редактурой официальной версии его биографии и его собственных текстов69.
Медийный фокус на молодых, фотогеничных, улыбающихся лицах космонавтов привел к возникновению ряда подчисток и пробелов в культурной памяти космической эпохи, которые быстро заполнялись мифами. Во-первых, заметно отсутствие в публичном поле космических инженеров. Публичный фасад космической программы был лишь вершиной гигантского айсберга, основная масса которого была погребена глубоко в недрах военно-промышленного комплекса. Проектирование и производство космических ракет и кораблей были – по меньшей мере поначалу – второстепенной задачей конструкторских бюро и заводов, предназначенных прежде всего для создания межконтинентальных баллистических ракет. Режим секретности, характерный для советской оборонной промышленности, распространялся и на космическую программу. Официальное постановление партии и правительства напрямую запрещало любое появление на публике или раскрытие имен высших руководителей и ведущих инженеров космических проектов, в том числе многих главных конструкторов. В центре внимания медиа оказывались всем известные космонавты-герои и доверенные лица, которые зачастую совершенно не знали, что в действительности делается в советской космической сфере70. Такая публичная репрезентация переворачивала реальную властную иерархию космической программы, в которой решения принимали инженеры, а космонавты играли подчиненную роль.
Во-вторых, схожим образом отсутствовали и реалистические изображения космических ракет и кораблей. Поскольку космическими ракетами-носителями были усовершенствованные межконтинентальные баллистические ракеты, космические изделия тоже тщательно скрывали от публики. Космонавтов часто изображали на фоне воображаемых ракет. И снова публичная репрезентация переворачивала действительные отношения, на этот раз между человеком и машиной. Публичный образ космонавтов как бесстрашных исследователей, вручную ведущих свои космические корабли в неведомую даль, прямо противоречил их профессиональному опыту. На деле космонавты помещались в самую сердцевину сложных технических систем, а возможности ручного управления для них были жестко ограничены71.
В-третьих, сами космические полеты были окутаны завесой тайны. Границы секретности были настолько размытыми, что все спикеры, включая космонавтов, старались не рисковать и рассказывали как можно меньше. Публичные рассказы космонавтов о своих полетах были на удивление неинформативными. Они подолгу говорили о парении в невесомости, но не рассказывали никаких подробностей о своих тренировках или работе во время полета. Это создавало почву для всевозможных догадок о том, что же они на самом деле переживали в космосе – от болезненных припадков до духовных просветлений.
Публичный разговор о космической программе при строгих ограничениях секретности был серьезным испытанием. Сиддики выявил три базовые дискурсивные стратегии, разработанные советской космической пропагандой, чтобы исключить любые угрозы разглашения государственных тайн: устранение какой-либо неопределенности исхода (успех был неизбежен, а провал невозможен); «ограниченная видимость» (внимание следовало сосредоточить на ограниченном круге избранных действующих лиц и артефактов); выстраивание «единого главного нарратива» с «героическими и непогрешимыми» главными персонажами72. Секретность была лишь одним из факторов, способствовавших созданию мифов: она производила пробелы, которые надо было заполнить продуктами своего воображения. Еще один фактор – политическая пропаганда – действовал продуктивно, генерируя образы, на основе которых можно было строить мифы. Стоя на трибуне Мавзолея Ленина, космонавты представляли не просто советскую космическую программу, а гораздо более масштабный проект – строительство коммунизма.
В октябре 1961 года – спустя лишь шесть месяцев после первого полета в космос Гагарина и через два месяца после суточного орбитального полета Германа Титова – в Москве прошел XXII съезд Коммунистической партии. На нем с большой помпой приняли новую программу партии, в которой была поставлена цель построить коммунистическое общество еще при жизни нынешнего поколения. Двумя ключевыми компонентами программы были создание материально-технической базы коммунизма и воспитание нового советского человека, «гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство»73. Кто лучше космонавтов смог бы воплотить эту новую идеологическую конструкцию? Советские медиа быстро создали пропагандистское клише: «советский космонавт не просто победитель звездного пространства, не просто герой науки и техники, а прежде всего реальный, живой, во плоти и крови новый человек, являющий в действии все те бесценные качества советского характера, которые формировались ленинской партией на протяжении десятилетий»74.
В соответствии с идеологическими сигналами сверху идеализированные описания личных качеств космонавтов, широко освещавшиеся в медиа, точно следовали «Моральному кодексу строителя коммунизма» из новой программы партии. Кодекс провозглашал такие этические императивы, как «любовь к социалистической Родине», «добросовестный труд на благо общества», «высокое сознание общественного долга», «коллективизм и товарищеская взаимопомощь», «нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни» и «взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей»75. Этот моральный идеал подозрительно походил на образцово-показательный список личных качеств Гагарина, составленный Евгением Карповым, главой Центра подготовки космонавтов: «Беззаветный патриотизм. Непреклонная вера в успех полета. Отличное здоровье. Неистощимый оптимизм. Гибкость ума и любознательность. Смелость и решительность. Аккуратность. Трудолюбие. Выдержка. Простота. Скромность. Большая человеческая теплота и внимательность к окружающим людям»76. Описания качеств поразительно совпадают; по-видимому, биографы космонавтов были тщательно проинформированы об основных пунктах политического дискурса. В то же время Гагарин, вероятно, был специально выбран так, чтобы соответствовать мифу, который он должен был воплощать77. На всякий случай власти прошерстили архивы и изъяли кое-какие семейные документы, чтобы устранить любые свидетельства, противоречащие идеализированному публичному имиджу Гагарина78.
Публичный образ космонавтов создавался не одной инстанцией, а множеством акторов, отнюдь не всегда действовавших согласованно. Ключевую роль играл генерал-лейтенант Николай Каманин, высокопоставленный офицер Военно-воздушных сил, курировавший отбор и подготовку космонавтов. Он контролировал непосредственный доступ к космонавтам, заведовал расписанием их публичных мероприятий и зарубежных поездок, писал для них речи, репетировал их с ними, а также исправлял их «ошибки». Каманин был легендарным советским летчиком, имя которого стало нарицательным в СССР 1930-х годов. В 1934 году он одним из первых получил только что учрежденное звание Героя Советского Союза за смелую воздушную операцию по спасению команды парохода «Челюскин», исследовательского судна, потерпевшего кораблекрушение во льдах Арктики79. Вместе с другими известными летчиками он считался ролевой моделью для молодежи 1930-х. Его собственный опыт как культурного символа сталинской эпохи послужил ему моделью для создания публичного образа космонавтов. В результате мифология советских космонавтов во многих отношениях следовала рецептам сталинской героизации советских летчиков, служивших образцами нового советского человека 1930-х годов80.
Биографии космонавтов, написанные литературными поденщиками, во многом имитировали собственную автобиографию Каманина 1935 года, написанную, когда он был в том же возрасте, в каком теперь были космонавты, 26–27 лет. В этих биографиях повторялись одни и те же обязательные пункты: происхождение из бедной семьи; детство, отягощенное трудностями военного времени; поддержка семьи и учителей; хорошее образование, оплаченное советским государством; мудрый наставник, прививший основные коммунистические ценности; безупречная военная служба; выковывание характера и физической силы в «испытаниях огнем»; получение важной миссии от Коммунистической партии; достижение мечты всей жизни путем выполнения этой миссии; и, наконец, возвращение с важным посланием, утверждающим вышеупомянутые ценности. В биографиях как Каманина, так и космонавтов было мало подробностей о самих подвигах, зато в изобилии – благодарности партии, вдохновившей на подвиг, за всяческую поддержку. Всеведущего Сталина, который в роли отцовской фигуры занимал видное место в рассказах Каманина, в биографиях космонавтов ненавязчиво заменили на столь же всеведущего «Главного Конструктора» космической программы81.
Поскольку в памяти людей еще свежа была опустошительная война, первые космонавты – сплошь молодые летчики-истребители – неизбежно ассоциировались с образом воинов в бою. Как отмечала историк культуры Светлана Бойм, «советское освоение космоса унаследовало риторику войны; речь шла о „штурме космоса“, и космонавт стал героем мирного времени, готовым отдать всего себя Родине и, если необходимо, принести ради нее в жертву свою жизнь»82. Воинственная риторика покорения космоса опиралась и на более ранние культурные воспоминания: даже в дореволюционной России летчики традиционно изображались как «покорители воздуха», прямые потомки воинов из русских волшебных сказок83. Когда освоение космоса было помещено в этот традиционный контекст, образовалась символическая связь космических полетов с национальной гордостью. Представляя космонавтов на публичных встречах, Каманин часто говорил о них как о наследниках героев войны84. Тем не менее использование военной риторики в отношении космических полетов заключало в себе противоречие. Официально декларировалось, что советская космическая программа носит исключительно мирный характер, а военная форма космонавтов свидетельствовала об обратном. Руководители программы расходились во мнениях по поводу роли военной символики в публичном образе космонавтов. Вопрос о том, представлять ли первую космонавтку Валентину Терешкову на официальном фото в военной форме или в гражданской одежде, пришлось решать Центральном комитету партии. В итоге Терешкова появилась на фото в гражданском платье85.
Покорение космоса стало символически ассоциироваться с советской победой над нацистской Германией. В типичных биографиях Гагарина часто писали, как в ожидании запуска он сидит в космическом корабле и слушает музыку, которая вызывает у него воспоминания из детства: жизнь под нацистской оккупацией, лишения войны и радость освобождения советскими солдатами86. В этой идеологической апроприации частных воспоминаний весьма изобретательно переинтерпретировался реальный жизненный опыт Гагарина. Мальчиком он действительно пережил оккупацию, но, по имеющимся сведениям, был вынужден скрыть этот факт при поступлении в летную школу; это «темное пятно» на его биографии могло помешать зачислению87. Позднее он удивлялся, как власти разрешили ему стать космонавтом даже после того, как узнали об этом факте88. Музыка же, которую он слушал во время подготовки к полету, едва ли могла вызвать патриотические чувства: на самом деле он слушал «Ландыши», популярную тогда лирическую песню, слова которой космонавты спародировали, превратив в застольную песню89.
Миф о космонавтах играл важную роль в попытке Хрущева десталинизировать советское общество и возродить его связь с изначальными революционными устремлениями к коммунистической утопии90. В 1961 году, вскоре после полета Гагарина, Хрущев приказал изъять останки Сталина из Мавзолея Ленина на Красной площади и удалить его имя с фасада мавзолея. Монументы сталинской эпохи демонтировали, одновременно торжественно открывая новые мемориалы космической эпохи. По мере того как статуи Сталина – впечатляющие и травматичные напоминания о сталинском терроре – убирали с глаз долой, центральное место занимали футуристические образы освоения космоса. Преодоление земной гравитации стало для многих символизировать уход из сталинского прошлого: «Для советского человека космос был еще и символом тотального освобождения. Разоблачен Сталин, напечатан Солженицын <…> Выход в космос казался логическим завершением процесса освобождения и логическим началом периода свободы»91.

Рис. 2. Памятник Юрию Гагарину в Москве. Скульптор П. И. Бондаренко, 1980, титан.
Подобно любой иррациональной конструкции, предназначенной для того, чтобы в нее верили, а не подвергали критическому анализу, миф о космонавтах был полон внутренних противоречий. Космонавтов изображали исключительными героями, идеальными ролевыми моделями для молодежи. В то же время медиа подчеркивали, что они были обычными гражданами с такими же жизненными заботами и тревогами, как у остальных советских людей. В частности, Гагарин изображался как «простой советский парень, но при этом космический супергерой»92. У всех первых космонавтов были воинские звания, но их полеты представлялись как совершенно мирные. Космонавты были идеально дисциплинированны, но при этом способны идти на риск. В одних сообщениях о полетах подчеркивались личные заслуги космонавтов, а в других утверждалось, что все достижения были коллективными, а не индивидуальными93.
В июле 1980 года, незадолго до начала московских Олимпийских игр, в Москве был открыт памятник Гагарину (скульптор Павел Бондаренко; рис.2). Гигантская статуя космонавта на колоссальной колонне, похожей на шлейф взлетающей ракеты, парит на высоте 40 метров над зрителями. Космонавт и его ракета символически сливаются, представляя Гагарина как сверхчеловеческий синтез человека и машины. Непреодолимая дистанция между статуей и зрителем подчеркивает мифологические пропорции фигуры Гагарина, которая в своем футуристическом совершенстве возвышается над сегодняшним миром, погрязшим в своих человеческих недостатках.
Мифологизация инженеров
Если советские идеологи в пропагандистских целях культивировали идеализированный образ советской космической программы, то у руководителей космической отрасли были свои причины скрывать от публики сбои оборудования и экстренные ситуации во время полетов. Они опасались, что негативная огласка может поумерить энтузиазм советского руководства по поводу космической программы. Выгодная схема, благодаря которой космическая отрасль самостоятельно контролировала доступ к информации о космосе, помогла ее руководителям во многом контролировать советский публичный дискурс о космосе. Одной из задач ведущего аналитического центра этой индустрии, Научно-исследовательского института №88 (с 1966 года – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, ЦНИИмаш), была цензура всех связанных с космосом материалов, предназначенных для публикации в открытой прессе94. Публично не упоминались многочисленные поломки оборудования, неудачные запуски и приземления, ошибки экипажа и закрытые проекты. Существование целых программ – например, секретной программы по высадке человека на Луне – обходилось молчанием. В результате космическая история советского периода воспроизводила одни и те же клише: космонавты были безупречными героями, их полеты были полностью успешными, а бортовая автоматика всегда работала идеально.
Руководители космической промышленности хорошо понимали историческую значимость своих проектов, но в их представлении исторический рассказ должен был улучшать реальность, приближать ее к идеалу. Космические инженеры стремились запечатлеть реальность не такой, какой она была, а такой, какой она должна быть,– как если бы они писали соцреалистические романы. Как заметила Катерина Кларк, раннесоветский дискурс постоянно колебался между тем, «что есть», и тем, «что должно быть»95. С точки зрения космических инженеров, то, «что есть», было лишь неорганизованным и полным ошибок черновиком, в то время как зал славы истории заслуживал чистой, выставочной версии того, «что должно быть». Королев не пустил ни одного журналиста на стартовую площадку в день полета Гагарина 12 апреля 1961 года96. Впрочем, через несколько месяцев после запуска Титова он принял участие в съемочной сессии – делал вид, что общается с космонавтом на орбите. Один из сделанных тогда снимков до сих пор широко распространен как каноническая фотография Королева, якобы разговаривающего с Гагариным во время полета97. Рабочие встречи государственной комиссии, занимавшейся проверкой готовности к полету, тоже велись за закрытыми дверями. Однако перед каждым запуском эта комиссия проводила специальную протокольную встречу, во время которой отчитывались все главные конструкторы и происходило официальное представление экипажа. Королев активно поощрял фото- и видеосъемку таких протокольных встреч, а также других предполетных ритуалов98. Любые ляпы вроде неправильно произнесенной фамилии космонавта вырезались из записей99. Поскольку личности Королева и других членов комиссии в то время были государственной тайной, эти записи тогда не публиковались. Их делали для внутреннего пользования, то есть для участников космической программы, а также для потомков – как «чистую» версию исторических событий.
Королев высоко ценил символическое значение космических артефактов. До запуска Спутника было сделано два экземпляра аппарата: один для полета и один для наземных испытаний и моделирования. По чисто техническим причинам (чтобы максимизировать отражение солнечного света и избежать перегрева) поверхность полетного аппарата необходимо было отполировать. Королев настоял на том, чтобы отполировали и тестовый экземпляр: «Этот спутник в музеях будут показывать!» Он восхищался эстетической привлекательностью его шарообразной формы и считал, что Спутник как символ вторжения человека в космос должен «соответствующим образом смотреться»100. В 1958 году макет Спутника был представлен на Всемирной выставке в Брюсселе. Историк Льюис Сигельбаум, изучивший внутренние советские дебаты по этому поводу, утверждает, что целью этой экспозиции было «не столько исказить реальность, сколько показать идеализированную, или „высшую“, ее версию в надежде, что тем самым удастся вдохновить людей работать ради того, чтобы делать экстраординарное более обыденным»101.
Медийный фокус на фигурах космонавтов вызывал определенное недовольство среди космических инженеров, и они постоянно боролись с режимными ограничениями, чтобы получить возможность публично продемонстрировать свои достижения. Вскоре после полета Гагарина Королев предложил показать полноразмерный макет его космического корабля на авиапараде на Тушинском аэродроме в июле 1961 года. Поскольку «Восток» все еще был засекречен, Королев посоветовал своим подчиненным «немного пофантазировать»102. В итоге зрители увидели не настоящий аппарат, а только верхнюю ступень ракеты-носителя и внешнюю защитную оболочку «Востока». Возможно, чтобы оболочка выглядела «соответствующим образом», инженеры Королева присоединили к задней части макета кольцевой аэродинамический стабилизатор. Результат выглядел впечатляюще, но имел мало общего с настоящим космическим аппаратом Гагарина103.
Советские медиа искусно «улучшали» канонические изображения, чтобы подчеркнуть их идеологический смысл и устранить нежелательные ассоциации. Например, на обложке майского номера иллюстрированного журнала «Наука и жизнь» за 1961 год был размещен рисунок, изображавший стартовую площадку во время запуска Гагарина. Реальная сцена прощания космонавта с группой правительственных чиновников, военных, инженеров и техников была запечатлена верно – за единственным исключением: военную форму заменили на одежду разных цветов, и весь военный персонал, задействованный в запуске, волшебным образом превратился в гражданский104. Подчистке подвергались и фотографии космонавтов. Например, портреты кандидата в космонавты Владимира Бондаренко, смерть которого в результате несчастного случая на тренировке скрыли от публики, были стерты или вырезаны из групповых фото наряду с другими «нежелательными» личностями105. Такие манипуляции визуальными записями опирались на богатую советскую традицию, берущую начало в уничтожении изображений известных «врагов народа», которое практиковалось в сталинскую эпоху106.
После смерти Королева в 1966 году советская космическая мифология совершила поворот от воспевания космонавтов к канонизации инженеров. Имя Королева и его роль в космической программе уже не были государственной тайной. Его прах был публично захоронен в Кремлевской стене, и высшие советские руководители подписали посвященный ему некролог. В феврале 1966 года Центральный комитет партии и Совет министров СССР приняли секретное совместное постановление «Об увековечении памяти академика С. П. Королева». Документ предусматривал возведение трех памятников (два из них – на закрытых территориях, в конструкторском бюро Королева и на Байконуре) и установление двух мемориальных досок (одна – на закрытой территории ракетного завода «Прогресс» в Куйбышеве). Имя Королева присвоили Куйбышевскому авиационному институту и улице в Москве, где он жил. В последний момент подняли вопрос о том, чтобы превратить его московский дом в музей. В постановление не вошло решение о создании музея; содержался лишь призыв к дальнейшему обсуждению этого вопроса107. Основали музей только в 1975 году.
Хотя масштаб государственного увековечения памяти был весьма скромным, руководство советской космической программы и местные чиновники воспользовались этой возможностью и превратили Королева в символ советских космических достижений. В апреле 1966 года, всего через три месяца после смерти конструктора, дополнительная памятная доска была установлена в Житомире (Украина), где он родился; дом, в котором он провел только первые два года своей жизни, позднее превратили в музей. В 1967 году дом Королева на Байконуре стал музеем. Посвященные ему монументы впоследствии появились в Москве, Житомире, Киеве, на Байконуре, на стартовой площадке в Капустином Яре и в конструкторском бюро самого Королева. Подмосковный город Калининград (прежнее название Подлипки), где находилось бюро, был переименован в Королев, и еще один монумент возвели на его центральной площади. В честь конструктора были названы улицы в Москве, Киеве, Житомире, Калуге, Виннице, Магадане и на Байконуре, а также океанский корабль и горный пик108. Запечатлевая имя Королева в культурной памяти космической программы, инженеры отвоевывали себе законное место в советской космической мифологии.
Череда катастроф, случившихся в советской космической программе после 1966 года, вызвала ностальгию по славному прошлому, когда во главе программы стоял Королев. Трагическая гибель Комарова во время полета «Союза-1» в апреле 1967 года и гибель Гагарина во время тренировочного авиаполета в марте 1968 года создали ощущение развала в космической программе. Посадка «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года не просто означала поражение в космической гонке, но и добавила к нему унижение109. Эпоху Королева теперь вспоминали как «золотой век» советской космонавтики110. Его имя стало ассоциироваться с честностью, несгибаемой волей, с бескомпромиссной приверженностью безопасности полетов и сопротивлением административному давлению. Его историческая личность приобрела мифологический характер.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a3/Taganrog_Korolev_Gagarin_01.jpg
Рис. 3. Памятник Сергею Королеву и Юрию Гагарину в Таганроге. Скульптор О. К. Комов, 1975, бронза.
По мере того как Королев превращался в символ, его образ заметно менялся. Мифологический Королев вырос над людскими слабостями и стал визионером. Его личная увлеченность полетом человека в космос теперь служила воплощением неукротимого стремления всего народа к техническому и социальному прогрессу. Хотя до своих полетов большинство космонавтов встречались с Королевым лишь пару раз, в их биографиях он неизменно изображался их духовным отцом111. Постепенно историческая память стала ассоциироваться не столько с фотографиями, сколько с монументами, и мифологический Королев все дальше и дальше отходил от своего исторического прототипа.
Мифологизация хорошо заметна на примере двойного памятника Королеву и Гагарину, установленного в Таганроге (скульптор Олег Комов, 1975; рис.3). Монумент сделан по мотивам исторической фотографии 1961 года, но кое в чем заметно отклоняется от исходного изображения. На фото Королев и Гагарин улыбаясь смотрят друг на друга и ведут оживленную беседу112. В монументе же их лица мрачны, они не смотрят друг на друга и явно погружены в мечтания об освоении космоса. Королев больше не говорит с Гагариным, он говорит с «потомками»113. Образ Гагарина, в свою очередь, тоже мифологизирован. В реальной жизни он был ниже Королева, поскольку первые космонавты были невысокими, чтобы помещаться в небольшой космический аппарат. На памятнике же у космонавта примерно такой же рост, как у главного конструктора, что наделяет его фигуру достоинством и значимостью114. И Королев, и Гагарин потеряли свою индивидуальность, став официальными символами важной государственной программы.
Фильм «Укрощение огня» 1972 года стал основой мифологии Королева. Впервые в советском кино в нем показали работу космических инженеров, а также включили в видеоряд впечатляющие кадры реальных запусков ракет на Байконуре. Возвышенные устремления к освоению космоса тонко переплетались с романтической сюжетной линией115. Режиссер Даниил Храбровицкий пригласил заместителя и соратника Королева Бориса Чертока стать научным консультантом фильма. Тот быстро понял, что его роль состоит в выявлении технических огрехов, а не в том, чтобы помочь воссозданию настоящей истории. Его робкие попытки обсудить реальные события и сложные межличностные отношения были быстро пресечены. «Обычно я говорил: „Так не бывает“ или „Этого не было“,– вспоминал Черток.– Храбровицкий отвечал, что так надо, иначе фильм не выпустят»116. В фильме не упоминалось ни заключение Королева в ГУЛАГ, ни его последующая работа в «шарашке», тюремном конструкторском бюро, в 1940-х годах.
Конструирование мифа не всегда навязывалось сверху. Храбровицкий сознательно создавал миф. Чертоку он объяснял, что его целью было показать не то, как все происходило, а то, как все должно было произойти: «Я вовсе не обязан благоговейно относиться к действительным характерам и биографиям. Герои фильма мои, а не ваши, и зритель мне поверит потому, что этих героев он полюбит. Я сознательно идеализирую людей, хочу, чтобы они такими были. Это не должны быть отлакированные идеалы, но зритель должен полюбить каждого из моих героев. Злодеев, предателей, палачей, проституток, шпионов в нашем фильме не будет. Я восхищаюсь вами всеми такими, какие вы есть, но хочу сделать вас еще лучше». Храбровицкий сделал Андрея Башкирцева и Евгения Огнева – персонажей, изображающих в фильме Королева и главного конструктора ракетных двигателей Валентина Глушко,– близкими друзьями, не оставив между двумя главными конструкторами ни толики антагонизма. «Никакой зависти между настоящими друзьями Башкирцевым и Огневым быть не может. Они генетически должны быть лишены этого чувства»,– объяснял Храбровицкий117. Он утверждал, что зрители должны увидеть героев переживающими, тонко чувствующими и высококультурными людьми, а не холодными технократами.
Черток постепенно усвоил правила игры и даже сделал ценное предложение: ввести нового персонажа, который изображал бы высокопоставленного партийного деятеля Дмитрия Устинова, курировавшего космическую отрасль. Этот ход оказался чрезвычайно выигрышным, поскольку поддержка Устинова сильно помогла в преодолении барьеров цензуры. Устинов организовал специальный просмотр для членов Политбюро и обеспечил их согласие на выпуск фильма на экраны118.
«Укрощение огня» ждал большой художественный успех, однако многие лично знавшие Королева были разочарованы поверхностностью в изображении его жизни и характера. Ведущий космический журналист и биограф Королева Ярослав Голованов писал: «Прототипы документальны, но в то же время редкий фильм так пропитан ложью как „Укрощение огня“»119. Официальные советские критики, однако, не сочли мифотворчество недостатком. Напротив, они объявили фильм отличной иллюстрацией «художественной правды», оригинальной концепции в рамках социалистического реализма120.
Как и намеревался режиссер, «Укрощение огня» стало стержневым мифом советской космической истории для многих поколений зрителей. В 1972 году, когда фильм выпустили, его посмотрели 27,6 миллиона человек, а популярный советский киножурнал назвал Кирилла Лаврова, сыгравшего роль Башкирцева, лучшим актером года. С тех пор советское, а затем и российское телевидение ежегодно показывало «Укрощение огня» 12 апреля, в День космонавтики. В культурной памяти романтизированный Башкирцев занял место Королева. Вспоминая Королева, говорили на самом деле о Башкирцеве.
Героический миф советской космической программы был высечен в камне – в массивных монументах, которые помещали космонавтов, ведущих инженеров и советских политических лидеров на пьедестал исторического мифа. Руководство космической отрасли даже сделало показательный символический жест, замуровав капсулу с космическими документами и артефактами в основание настоящего памятника «Покорителям космоса», открытого в Москве в 1964 году. В недавно рассекреченном ходатайстве от группы руководителей отрасли советским политическим лидерам предлагается:
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе