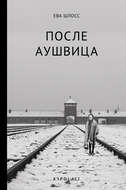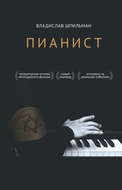Отзывы на книгу «Пианист», страница 2, 89 отзывов
Действительно завораживающая книга. Своей спокойной манерой повествования, автор как будто пытается вас спасти от того, о чем пишет. История одного человека, через 6 лет его адской жизни....
Человек, в котором живет музыка…
Владислав Шпильман – поляк, еврей и пианист. Он написал свою книгу в 1945 году, для того, чтобы не сойти с ума. Боль, ужас от пережитого, огромное чувство вины перед родными, которых он не сумел спасти – все это выплеснулось на страницы. Буднично и сухо, а от этого еще более жутко, льются его воспоминания…
Вторая мировая война. Сотни тысяч замученных, загубленных жизней. Наверное, миллионы людей задавали себе вопрос: «Как же это так вышло? Как можно было допустить ТАКОЕ?».
«…И так мы хотим выиграть эту войну, звери! Этим массовым уничтожением мы войну окончательно проиграли. Мы покрыли себя несмываемым позором и будем навечно прокляты. Мы не заслуживаем снисхождения. Мы все виновны…» Из дневника немецкого офицера. 16 июня 1943 года.
Варшавское гетто – горы трупов, бессмысленные казни. Там нацисты с варварским увлечением учатся уничтожать людей. Отрешенность, с которой Владислав Шпильман рассказывает о гибели своей семьи, просто потрясла меня. То, что он не захотел написать словами, читалось душой - ах, это жуткое слово «НИКОГДА»! Не вернешь ссор с братом, не узнаешь ближе сестру, не обнимешь отца, не увидишь маму. Вот что было между строк…
Когда Шпильман потерял всех своих близких, продолжать жить он смог именно благодаря своей любви к музыке. Лишенный возможности хотя бы прикоснуться к клавишам, в своей голове он проигрывал мелодии, которые надеялся когда-нибудь сыграть вживую… Безысходные безумные обстоятельства, в которых оказался человек искусства. Мешая раствор, таская кирпичи, замерзая, Шпильман все еще думает о пальцах рук – если получит травму, как же тогда он сможет играть?! Без лишних эмоций Владислав Шпильман упоминает о своей помощи Сопротивлению. Нет, он не считал себя героем, просто старался сделать хотя бы что-нибудь для своего народа. Шесть лет кошмара… Варшава превращалась в руины, а Владиславу Шпильману все еще везло, находились люди, которые помогали, хотя смерть все время дышала ему в затылок. А последним кто спас Владислава, стал немецкий офицер. Что это - насмешка судьбы или Божья воля?
На это раз я осмелился задать вопрос — он просто вырвался у меня: — Вы немец? Он покраснел и чуть ли не крикнул запальчиво, будто я его обидел: — Да, к сожалению, я немец. Я хорошо знаю, что творилось здесь, в Польше, и мне стыдно за мой народ.
Цените жизнь без войны…
Сказать, что книгу было морально тяжело читать - ничего не сказать. О дневнике я узнала посмотрев фильм «Пианист», и история Владислава Шпильмана так впечатлила меня, что я нашла первоисточник фильма, и прочла всё что было в интернете об этом удивительном человеке.
" - Подожди, в один прекрасный день всё закончится, потому что... - потому что в этом же нет никакого смысла, правда?"
...Правда. В нечеловеческой жестокости и истреблении целых народов нет никакого смысла. Но это происходило, и это жутко.
Это страшно, читать этот дневник и эту историю - волосы шевелятся. Хоть и читаешь подобное не первый раз, и все знают об изуверствах нацистской Германии и ужасах Холокоста - всё равно невозможно безучастно читать этот дневник. И я думаю, так и должно быть - нельзя человеку читать такое спокойно, не содрогаясь и не ужасаясь мысли о том, как уничтожили миллионы людей.
Мужество и воля к жизни Владислава потрясающе! Даже дневники не смогут передать всего, что он пережил. Наверное, такой опыт ничего не сможет описать в полной мере. Но «Варшавские дневники» дают возможность остро ощутить боль человека, жестоко потерявшего свою семью, почувствовать его одиночество, страх, голод, и безграничное желание жить.
Упомянутый фильм тоже горячо рекомендую к просмотру. Такие книги и фильмы нужны людям, чтобы не забывать, что простая, мирная жизнь - счастье, которое может кончиться в любой момент. И человечеству нужно сделать всё, чтобы больше никому не пришлось переживать такой ад на земле.
Вторая мировая война затронула огромное количество стран и народов, для каждого государства эта была своя особая война, возможно, воспринимаемая разными людьми по-своему. Поэтому, желая познакомиться с описанием прошлого каждой из стран-участниц, я не могла пройти мимо этого произведения польского автора, тем более, что название книги весьма известно благодаря фильму.
Хочется отметить, что книга легко читается, если не брать во внимание то, что моментами приходилось делать паузы, так как просто не было моральных сил продолжать чтение столь печального повествования (от некоторых эпизодов было ощущение, словно получил удар под дых, после других с трудом можно было сдержать слезы).
Однажды я шёл вдоль стены и увидел процесс детской контрабанды, который как будто бы завершился успешно. Еврейскому мальчику с той стороны стены оставалось лишь пролезть обратно через щель вслед за своей добычей. Его тщедушная фигурка уже частично проникла внутрь, но внезапно он закричал, и в тот же миг я услышал хриплый рёв какого-то немца с другой стороны стены. Я бросился к мальчику, чтобы помочь ему поскорее пробраться внутрь, но вопреки нашим усилиям он застрял в стоке на уровне бёдер. Я тянул его ручонки изо всех сил, а его крики становились всё отчаяннее, и ещё я слышал сильные удары, которые наносил полицейский снаружи. Когда я наконец протащил мальчика внутрь, он уже не дышал. У него был раздроблен позвоночник.
Эвакуация еврейского приюта под руководством Януша Корчака была назначена на то утро. Дети должны были уехать одни. У Корчака был шанс спастись, и он лишь с большим трудом убедил немцев взять и его. Он провёл с детьми многие годы своей жизни, и сейчас, в последнем пути, он не собирался оставлять их одних. Он хотел облегчить их участь. Он сказал сиротам, что они едут за город, поэтому им нужно быть радостными. Наконец они смогут сменить ужасные душные городские стены на цветущие луга, реки, где можно купаться, леса, полные ягод и грибов. Он сказал им надеть лучшую одежду, и так они вышли во двор, парами, нарядные и в весёлом настроении. Маленькую колонну возглавлял эсэсовец, который, как многие немцы, любил детей, даже тех, которых провожал в иной мир. Ему особенно понравился двенадцатилетний мальчик-скрипач, который нёс свой инструмент под мышкой. Эсэсовец сказал ему идти во главе детской процессии и играть – и так они тронулись в путь. Когда я встретил их на улице Генся, улыбающиеся дети пели хором, маленький скрипач играл для них, а Корчак нёс на руках двоих малышей, также сияющих улыбками, и рассказывал им какую-то забавную историю. Я уверен, что даже в газовой камере, когда «Циклон-Б» сдавил детям горло и вселил в сердца сирот ужас вместо надежды, Старый доктор из последних сил прошептал: «Всё хорошо, дети, всё будет хорошо», – чтобы, по крайней мере, избавить своих маленьких подопечных от страха перехода от жизни к смерти.
По тротуару бежал мальчик лет десяти. Он был очень бледен и так испуган, что забыл снять шапку перед немецким полицейским, шедшим навстречу. Немец остановился, без единого слова вытащил револьвер, приставил его к виску мальчика и выстрелил. Мальчик упал, взмахнув руками, застыл и умер. Полицейский спокойно вернул револьвер в кобуру и продолжил путь. Я взглянул на него – у него был не самый зверский вид, он не казался разозлённым. Это был нормальный благодушный человек, который выполнил одну из своих мелких повседневных обязанностей и немедленно выбросил её из головы, потому что его ждали другие, более серьёзные дела.
Солдаты выбирали в толпе людей, чью внешность находили особенно комичной, и приказывали им танцевать вальсы. Музыканты становились у стены одного из домов, на дороге расчищали пространство, а один из полицейских исполнял роль дирижёра, подгоняя музыкантов ударами, если они играли слишком медленно. Остальные следили за тщательным исполнением танцевальных па. Пары калек, стариков, очень толстых или очень худых, должны были кружиться на глазах замершей в ужасе толпы. Низкорослые или дети оказывались в паре с людьми огромного роста. Немцы стояли вокруг этой «танцплощадки», ревели от хохота и выкрикивали: «Быстрее! Шевелитесь! Всем танцевать!».
Я переходил Банковскую площадь; в нескольких шагах впереди меня бедная женщина несла бидон, завёрнутый в газету, а между ней и мной тащился оборванный старик. Его плечи были низко опущены, он дрожал от холода, пробираясь по слякоти, сквозь прорехи в башмаках виднелись фиолетовые ноги. Внезапно старик рванулся вперёд, схватил бидон и попытался вырвать его у женщины. Не знаю, то ли у него не хватило сил, то ли она слишком крепко держала бидон, – в любом случае, вместо того, чтобы попасть в руки старика, бидон упал на тротуар, и густой дымящийся суп потёк по грязной улице. Мы все втроём застыли на месте. Женщина утратила дар речи от ужаса. «Хапуга» посмотрел сначала на бидон, затем на женщину, и издал стон, похожий на всхлип. Затем он внезапно бросился ничком в грязь и принялся лакать суп прямо с тротуара, сгребая его руками со всех сторон, чтобы не упустить ни капли, и не обращая внимания на женщину, которая с воем пинала его ногами в лицо и в отчаянии рвала на себе волосы.
Они повскакали на ноги так быстро, как только могли, – все, кроме главы семьи, старика с больными ногами. Унтер-офицер кипел от злости. Он подошел к столу, опёрся на него, сурово взглянул на калеку и повторно прорычал: «Встать!». Старик вцепился в подлокотники кресла для опоры и сделал отчаянное усилие, чтобы встать, – напрасно. Прежде, чем мы успели что-то понять, немцы схватили больного, подняли его вместе с креслом, подтащили кресло к балкону и выбросили на улицу с третьего этажа.
Чувствуется качественная литературная обработка воспоминаний, а поиски информации в интернете позволили мне узнать, что не сам Владислав Шпильман записывал этот текст, а его друг Ежи Вальдорф, музыкальный критик, автор более двадцати книг.
Через какое-то время мой друг предложил мне записать его воспоминания о военном периоде. Я согласился на это не только потому, что опыт Шпильмана был таким захватывающим, уникальным, возможно, единственным в мире. Мне бы это не понравилось. Однако мне казалось и кажется до сих пор, что в переживаниях этого одного человека было место для всех видов страданий, которыми немцы жестоко обращались с покоренными ими народами. Что запись опыта Шпильмана будет в то же время своего рода срезом различных немецких недостатков, и поэтому мемуары должны быть написаны.
При написании этой книги я использовал некоторые рассказы Шпильмана. отчасти из его точных заметок. Хочу подчеркнуть, что в ней нет ни одного выдуманного мной факта. Все они подлинные, хотя может показаться, что их сочинил талантливый сценарист и режиссер нашумевших фильмов. При написании одиссеи Шпильмана я лишь старался донести ее до читателя в такой литературной форме, которая как можно точнее отражала бы и эмоциональное содержание рассказа моего друга, услышанного мною.
Пока мы работали над книгой, с Запада все чаще и чаще слышались голоса англо-саксонского мнения о том, что мы должны сжалиться над бедными немцами, смягчить курс по отношению к ним, поверить в их демократическое раскаяние и принять немецкое нация среди тех, кто любит Бога, справедливость и мир
Отчасти данная история напоминает книгу Мария Рольникайте - Я должна рассказать , начало дневниковых записей, где девушка повествует о создании гетто в Вильнюсе, только далее Машу отправили в концлагерь, а Владиславу Шпильману удалось избежать депортации. Тут показана та же пропасть, что разделила в прошлом мирных соседей, когда евреев отправили в специально огороженные районы, откуда они могли с завистью наблюдать за жизнью остальных поляков. Похожие описания все более и более ухудшавшихся условий жизни, рейдов, в результате которых захваченных жителей расстреливали или же отправляли на работу в Германию. Так же был приказ сдать все ценности и деньги, воровство немцами из еврейских квартир понравившихся вещей, трудности с пропитанием и поиском работы, которая обеспечивала выживание. Упоминает Владислав Шпильман и то, что положение жителей гетто не было одинаковым: пока одни голодали и с риском для жизни пытались пронести продукты, другие евреи сорили деньгами, веселились в баре или вели бизнес.
Реальной, налаженной контрабандой управляли такие магнаты, как Кон или Хеллер; она была куда более простой и вполне безопасной. Подкупленные полицейские просто закрывали глаза в условленное время, и тогда, под самым их носом и с их молчаливого согласия, в гетто въезжали целые обозы с продовольствием, дорогим алкоголем, роскошнейшими деликатесами, табаком прямо из Греции, французской галантереей и косметикой.
Я наблюдал контрабандные товары во всей красе каждый день в «Новочесной». Туда приходили богачи, увешанные золотыми украшениями и усыпанные бриллиантами. Под хлопанье пробок шампанского ярко накрашенные девицы предлагали свои услуги спекулянтам, рассевшимся за богато накрытыми столами. Там я утратил две иллюзии: веру в нашу общую солидарность и в музыкальность евреев.
К «Новочесной» не пускали попрошаек. Толстые портье прогоняли их дубинками. Рикши часто проделывали долгий путь, и расположившиеся там мужчины и женщины зимой были одеты в дорогое сукно, а летом – в роскошные соломенные шляпы и французские шелка. Прежде чем добраться до территории, защищаемой дубинками портье, они сами отбивались от толпы тростями, и их лица были искажены гневом. Милостыни они не давали – в их глазах благотворительность лишь развращала людей. По их мнению, если бы вы работали так же усердно, как они, вы бы и зарабатывали столько же – любой так может, а если вы не знаете, как устроиться в жизни, так это лишь ваша вина. Стояла зима 1941–42 года, очень суровая зима для гетто. Море нищеты плескалось вокруг маленьких островков относительного процветания еврейской интеллигенции и роскошной жизни спекулянтов. Бедняки уже были серьёзно ослаблены голодом и не могли защититься от мороза, так как не все были в состоянии приобрести топливо. А ещё их одолевали паразиты. Гетто кишело паразитами, с которыми ничего не могли поделать. Одежда прохожих, которых можно было встретить на улице, была полна вшей, как и салоны трамваев, и магазины.
Эти маленькие призраки появлялись из подвалов, переулков и подворотен, где ночевали, подгоняемые надеждой, что в последний час дня им ещё удастся вызвать жалость в людских сердцах. Они стояли у фонарных столбов, у стен и на дороге, запрокинув головы, и монотонно скулили о том, что голодны. Самые музыкальные дети пели. Другие дети пытались воззвать к совести людей, обращаясь к ним с мольбами: «Мы очень, очень проголодались. Мы так долго ничего не ели. Дайте нам корочку хлеба, а если у вас нет хлеба, так хоть картошку или луковицу, просто чтобы мы могли дожить до утра». Но мало у кого была эта луковица, а у кого и была, тот не находил в себе милосердия, чтобы отдать её, ибо война обратила его сердце в камень.
Мужчины в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет и женщины от четырнадцати до сорока пяти лет должны были уехать.... Совет решил действовать так, чтобы пощадить большую часть интеллигенции. За тысячу злотых с человека он посылал представителя еврейского рабочего класса как замену якобы зарегистрированного лица. Разумеется, не все деньги доставались самим несчастным, посланным на замену: чиновникам Совета тоже надо было на что-то жить, и жили они хорошо, с водкой и кое-какими деликатесами.
И, конечно же, рассказывает он о полицейских, которых набирали из жителей гетто и от которых не стоило ждать помощи попавшим в беду людям.
Стоит отметить необычный фатализм, смирение с судьбой, которым пронизано практически все повествование. Да, были моменты, когда главный герой напрягал все силы и возможности, чтобы спасти семью или выжить, но большую часть книги он просто «плывет по течению», поэтому во многом благодаря счастливой случайности, наличию друзей вне гетто и прошлой популярности как композитора и исполнителя музыки на радио ему и удается преодолеть весь этот кошмар военных дней.
Почти все мои коллеги-музыканты уехали и звали меня с собой. Но моя семья всё же решила остаться на месте.
Я не застал многих соседей. Их квартиры были заперты, в оставшихся женщины собирали вещи мужей или братьев, рыдая и готовясь к худшему. Теперь было ясно, что доктор говорил правду.
Я недолго размышлял и решил остаться. Нет смысла шататься за городом; если уж мне суждено умереть, дома я умру быстрее. И, в конце концов, думал я, кто-то же должен заботиться о матери и сёстрах, если отец с Генриком уйдут. Но когда мы обсудили этот вопрос, я обнаружил, что они тоже решили остаться. Мать, движимая чувством долга, всё же попыталась уговорить нас покинуть город. Она поочерёдно оглядывала нас расширенными от страха глазами и выдвигала всё новые аргументы в пользу ухода из Варшавы. И все же, когда мы настояли на своём, в её выразительных глазах невольно мелькнуло облегчение: что бы ни случилось, лучше уж быть вместе.
Все надеялись убраться из опасной зоны до комендантского часа. В соответствии с фаталистскими взглядами нашей семьи, мы остались на месте.
Отец выслушал его. В некотором замешательстве, но с доброй улыбкой он слегка пожал плечами и спросил:
— Почему ты так уверен, что они посылают нас на смерть?
Дантист стиснул пальцы: — Конечно, я не знаю наверняка. Да и откуда бы? Они нам, что ли, скажут? Но можешь быть уверен на девяносто процентов, что они намерены избавиться от нас! Отец снова улыбнулся, словно этот ответ придал ему ещё больше уверенности в себе: — Смотри, – сказал он, указывая на толпу на «Умшлагплац». – Мы не герои! Мы совершенно обычные люди, потому и предпочитаем рискнуть и надеяться на этот десятипроцентный шанс выжить.
Еще я заметила, что книга отличается от современных изданий тем, что тут почти нет упоминаний русских, а там, где о них говорит писатель, они или «нейтральная сторона» или долгожданные спасители.
Хотя все были встревожены суровостью немецких законов, люди не теряли мужества, утешаясь мыслью, что немцы могут в любой момент передать Варшаву Советской России и оккупированные только для виду территории будут в кратчайшие сроки возвращены Польше. В излучине Вислы всё ещё не была проведена граница, и люди приходили в город с обоих берегов реки, божась, что собственными глазами видели войска Красной армии в Яблонне или Гарволине. Но за ними сразу же приходили другие, и они говорили, что точно так же собственными глазами видели, как русские отступали из Вильны и Львова и оставляли эти города немцам. Трудно было решить, кому из свидетелей верить. Многие евреи не стали ждать, пока русские войдут в город, а продали своё имущество в Варшаве и двинулись на восток, в том единственном направлении, куда они ещё могли уйти от немцев.
На Варшаву был налёт советской авиации. Все ушли в бункеры. Немцы были встревожены и злы, евреи радовались, хотя и не могли подать вида. Каждый раз, когда мы слышали гул бомбардировщиков, наши лица светлели – для нас он был знаком близкой помощи и поражения Германии, единственного, что могло спасти нас.
Меня обрадовали новости, которые однажды принесла госпожа Богуцкая: советские войска отбили Харьков.
— Где советские войска? — Они уже в Варшаве – в Праге, на том берегу Вислы. Продержитесь ещё несколько недель – война закончится не позднее весны.
Он сказал, что покидает Варшаву вместе со своим подразделением, а мне ни при каких обстоятельствах не следует терять мужество, так как наступление советских войск ожидается со дня на день.
Но пол и стены тряслись от постоянного глухого гула, металлические листы кровли дрожали, с внутренних стен осыпалась штукатурка. По-видимому, этот звук издавали знаменитые советские «Катюши», о которых мы так много слышали до восстания. Вне себя от радости и возбуждения, я совершил то, что в моём нынешнем положении было непростительным безумием – выпил целую миску воды.
Я с неким волнением ожидала описания начала войны в Польше, интересно было, как сообщит автор о разделе страны, но, видимо, сказалось то, что мемуары были записаны в 1946 году, поэтому данный момент тут практически не освещен. Зато Владислав Шпильман часто упоминает украинских и литовских полицаев, описывая их еще в более негативном свете, чем немецких фашистов.
Я слушала аудиокнигу и она заканчивалась на постскриптуме Шпильмана, в бумажную же версию, второе издание конца 90-х годов, добавлены еще несколько страниц «дневника немецкого офицера», который спас главного героя. И уже тут будет сравнение французских и русских революционеров с национал-социалистами, упоминание о «диких зверствах» большевистской революции по отношению к правящему классу и прочие «приметы времени». В этих весьма выборочных страницах воспоминаний Вильма Хозенфельда, про которые говорится, что они были были переданы семье по почте (о_0), содержится обличение фашисткой власти. Немецкий офицер, почему-то не боясь, что конверт вскроет цензура и будут последствия для него или его родных, откровенно пишет в дневнике о зверствах в концлагерях, о которых он услышал от болтливых офицеров или сбежавших евреев. И, конечно, тут добавлено еще послесловие, что этот доблестный офицер, спасший столько евреев, был замучен в советском лагере и не дожил до смерти Сталина
В конце концов Хозенфельд умер в лагере для военнопленных под Сталинградом за год до смерти Сталина. В плену его пытали, так как советские офицеры сочли его рассказ о спасении еврея особо наглой ложью. Затем он перенёс несколько кровоизлияний в мозг. Перед смертью он пребывал в помрачённом состоянии сознания – избитый ребёнок, не замечающий ударов. Он умер полностью сломленным.
(понятное дело, что цитаты из множества посланий родным, написанных за более чем семилетний срок, тут не приводятся
Вильм Хозенфельд угодил в плен 17 января 1945 г. В мае его отправили в лагерь для офицеров под Минск, где на протяжении следующих месяцев трижды допрашивали сотрудники НКВД. Поскольку Хозенфельд служил офицером в разведке штаба командования варшавского гарнизона, они считали его участником антисоветских операций германских разведслужб и не верили в роль всего лишь организатора спортивных и учебных мероприятий. За полгода одиночного заключения здоровье Хозенфельда сильно ухудшилось. В конце 1945 г., с возвращением на обычный режим вместе с прочими 2000 пленных в лагере, он смог регулярно писать семье. Здоровье поправилось, и его перевели в лагерь под Бобруйск.
Последнее послание жене заканчивалось ободряюще: «Не беспокойся обо мне, со мной все в порядке, насколько позволяют обстоятельства. Шлю тебе все мою любовь, все самое лучшее! Твой Вильм».
)
Так что, подводя итог, советую читателям аудиокнигу, красивая начитка и музыка добавляют ещё большей трагичности этой истории, заставляют вспомнить жертв прошлой войны, страдания еврейского народа. Финал же бумажной версии мне кажется лишним, все же основная идея, на мой взгляд, заключается в рассказе о гибели людей в Варшаве, а не о том, как один офицер оказался не таким, как остальные (хотя о том, насколько он не такой и почему советские власти присудили ему 25 лет, можно прочесть в книге Николас Старгардт - Мобилизованная нация. Германия 1939–1945 , где он один из основных героев
Советские спецслужбы относились к офицерам разведки вермахта вроде Хозенфельда так же, как к сотрудникам гестапо и СД. 27 мая 1950 г. военный трибунал провел административное рассмотрение – проверку дела Хозенфельда – и без слушаний приговорил его к двадцати пяти годам трудовых лагерей, главным образом за ведение допросов пленных в ходе Варшавского восстания. В июле 1947 г. Хозенфельд пережил обширный инсульт и, несмотря на своевременное и квалифицированное медицинское вмешательство, приведшее к улучшению состояния, страдал от скачков кровяного давления, головокружений, головных болей и перенес еще несколько микроинсультов. В августе 1950 г. его отправили отбывать срок в Сталинград, где 2000 немецких военнопленных жили в сложенных из камней хижинах и в землянках, помогая восстанавливать город и строить Волго-Донской канал.
Это далеко не первая прочитанная мною книга на тему Холокоста, но каждый раз впечатления практически одинаковые: опустошение и боль. И тут не имеет никакого значения литературная ценность произведения, красота и отточенность его эпистолярного стиля. Потрясает больше всего, что все эти чудовищные события – не плод чьей-то больной фантазии и даже не пересказ с чьих-то слов. О страшных, невыносимых испытаниях, выпавших на долю миллионов людей, вся вина которых заключалась лишь в «неправильной» национальности, рассказывает человек, который видел собственными глазами все эти ужасы, прошел через невероятное количество испытаний, потерял всё, но сумел выжить и не сломаться. И, думаю, книга эта была написана в первую очередь для того, чтобы хоть немного облегчить тот стресс, в котором находился известный пианист после всего пережитого. Как пишет его сын:
Отец написал свои воспоминания сразу после войны, в 1945 году. Первое издание книги вышло в 1946 году. Оно, как мне кажется, сыграло свою роль, потому что помогло отцу освободиться от военного кошмара и вернуться к нормальной жизни.
И когда читаешь, заметно, что автор совершенно не думал о том, как будут воспринимать написанное потенциальные читатели. Здесь нет никаких художественных украшательств, излишней патетики или какого-то чрезмерного надрыва. Владислав Шпильман просто описывает самыми обычными, даже спокойными фразами всё, что ему довелось испытать в эти ужасные годы. Контраст между спокойным, ровным повествованием и чудовищностью происходящих событий настолько велик, что читать становится еще страшнее. Страшнее, когда понимаешь, сколько внутренней боли, напряжения, надлома скрывается за этими безыскусными словами. Когда уже не можешь ни кричать, ни плакать, настолько все выгорело внутри… Такие книги надо читать обязательно… рассказанные очевидцами, которых осталось очень мало, ничем не приукрашенные и страшные в своей откровенности. Чтобы и через века помнить о преступлениях чудовища, имя которому «нацизм». Это дань памяти жертвам и назидание потомкам, чтобы никогда вновь…
Среди военных фильмов «Пианист» находится у меня на первом месте, рядом со «Списком Шиндлера». Так уж вышло, что фильм я посмотрела раньше, чем прочла книгу, но нисколько об этом не жалею. Да, режиссёр всё снял по книге, но всё же были моменты, которые остались за кадром. Например, дневник того офицера СС, который в самом конце ему помог. И в фильме кажется, что это всего лишь история паренька по имени Владислав Шпильман, виртуозного музыканта и композитора, но это гораздо больше, чем история одного человека. Это история тех людей, кто выжил, кто умер и кто сохранил честное лицо, когда большинство становились зверьми. Та же самая Польша, что и у Оскара Шиндлера, только другой город, другие правила.
Кто-то говорит, что здесь могло быть больше информации. А что вас интересует? Кишки на асфальте, как сбрасывают стариков и детей с крыши или быть может вам упомянуть про массовые расстрелы с общими могилами? Да, в деталях тут это не описано, но примеры этого приведены. И не нужно больше, те приведённые факты уже вызывают приступ паники и тошноту. Сын Владислава написал в самом начале, что эти записи были написаны сразу же, после пережитых событий, не с целью коммерческой выгоды, а чтобы, наконец, отпустить от себя весь этот ужас, всё то, что оставило незаживающие раны. Шпильман везунчик, потому что ему всегда выпадала удачная карта, это действительно уникальная ситуация, потому что в большинстве своём он прожил эти годы в относительном комфорте, пытаясь сохранить свои руки – единственный инструмент, которым он владел, его возможность жить дальше. Но кто-то скажет, тогда зачем всё это? А есть вещи пострашнее, чем физическое надругательство, есть очень сильное психологическое давление. Потерять всю семью, ежедневно видеть, как убивают ни в чём неповинных людей и всячески самому пытаться выжить. Сломаться в такой обстановке очень легко. И единственное, что спасало – то, что он постоянно вспоминал музыкальные партии, которые он играл, придумывал нечто новое, и это укрепляло его в разрушенном городе.
Это то, что пережил Шпильман. Есть здесь взгляд со стороны немецкого офицера СС. Как многие любят делить всех на друзей и врагов, в данном случае были люди, кто был резко не согласен с тем, как поступали их политики. Молодой человек, солдат СС, у которого есть дома семья, близкие и которому даром не нужно всё это действие, оказывается, втянут во всю эту историю. Опять же становится невинной жертвой обстоятельств, которого уничтожили вместе с другими, хотя он ничего не совершал. В своём дневнике он пишет, что он увидел, какие чувства у него это вызвало. Неоднократно он говорил, что если бы все оказали сопротивление, все встали бы и сказали, что они против, ничего этого бы не произошло. Но те, кто был против, сажали в тюрьмы и убивали, скрывая от всех, поэтому весь мир думал, что немцы от всего этого не страдали. Он сам был свидетелем того, как убивали детей, как расстреливали ни в чём неповинных граждан. А его слова «как я хотел столкнуть этих мразей под поезд», сами говорят за себя. У него нет выхода, и ему приходилось быть наблюдателем со стороны. Именно поэтому, когда ему выпал шанс спасти музыканта, он им воспользовался. Не для очистки совести, он никого не убивал и не в кого не стрелял, а просто он поступил по совести.
Книга, пусть и небольшая, но очень сильная эмоционально. Я думаю, она идеально подойдёт для тех, кто считает, что в его жизни всё плохо и нет выхода. Прочтите её и вы поймёте, что у вас как раз всё в порядке. И заранее предупреждаю о том, что эту книгу не стоит читать тем, кого пугает тематика войны, убийств и жестокости.
Владислав Шпильман - знаменитый польский пианист и композитор. После Второй мировой войны писал мемуары, основанные на воспоминании о ней. Его записи случайно нашел его сын, отец до последнего не рассказывал, что пережил во время войны. Первую версию книги Владислав написал в 1945 году, когда вернулся на Польское радио. В 1939 году, когда Германия оккупировала Польшу, Владек и его семья оказались в Варшавском гетто. Чуть позже всю его семью увезли в концлагерь и сними он больше не виделся. Меня просто потрясла эта книга своею правдивостью, откровенностью. Какие зверства творились на улицах города, все это автор показывал без прикрас. Никого не щадили: ни детей, ни стариков, могли убить только за то, что не так взглянул. Я завидую такой целеустремленности, какая была у Владислава, который делал все, чтобы выжить. Он не ел неделями, спал практически на снегу, прятался на чердаках. Мне понравилось, что в книге, помимо плохих людей, ему встречались и хорошие. Они жертвовали своей жизнью, чтобы спасти его, только потому что он еврей. Попадались даже хорошие немцы, которые спасли его от смерти. И я верю автору что он не пытался приукрасить свою книгу, а рассказывал все как есть. Такие истории достойны того, чтобы их превращали в книги для широкого круга читателей. Они учат не сдаваться никогда, верить в добро и помнить, что жизнь это ценный подарок, который надо принимать и уважать.
Недавно к нам приходили гости и вот под вечер зашёл у нас разговор о нацистах, евреях и концлагерях. Она вспоминала как в подростковом возрасте их класс водили на экскурсию в концлагерь. И вот она была очень возмущена тем фактом что детей водят в такие места. На мои разговоры о том, что это нужно для того чтобы люди узнали, что было и как было, она очень долго возмущалась, говоря что неужели для того чтобы понять весь ужас нацистов, нужны такие исторические памятники и туда нужно водить детей. Спорили мы долго и каждый остался пи своём. Она что не нужно и что все эти концлагеря нужно закрыть и ничего из них устраивать музеи. А я доказывала с пеной у рта, что мало того что для евреев это память и таким образом они могут почтить всех погибших у которых даже и могил то нет, а для обывателя, а тем более подростка это наглядный пример того до чего люди не должны опускаться, пример того что не должно повторяться. Да мы изучаем историю, но иногда лишь увидев своими глазами мы начинаем всерьёз задумываться о степени проблемы и осознавать все те ужасы и всю ту безысходность войн. Так вот эта книга, для меня как раз часть того памятника евреям погибшим в тех самых концлагерях. Которые нельзя не закрывать, которые нужно нести в массы. Вы можете не читать мальчиков в полосатых пижамах и воров книг, но эту книгу, если вам интересна тематика, прочитать нужно. Это дневник музыканта, написанный в первую очередь не для публикации, из чего следует, что автор не выбирает душещипательные слова и слезодробительные повороты сюжета, он рассказывает пережитую им историю. Мы привыкли в первую очередь читать о Второй Мировой войне советские книги, в которых в первую очередь рассказывают о Великой отечественной войне, ну и немного немецких оппозиционеров таких как Ремарк например. Здесь интерес в том, что мы смотрим на войну глазами польского еврея. Как немцы пришли в Польшу, как потихоньку начали отделять еврейские гетто, стрелять не соблюдавших комендантский час детей, как начали вывозить евреев в концлагеря. Владислав Шпильман чудом спасся и избежал концлагерь. Невероятная внутренняя сила и жажда жизни помогла ему, а ещё один немецкий капитан, который стыдился к тому моменту быть немцем. И в связи с этим, очень ценны в конце книги глава составленная из записок этого самого капитана. Ну и конечно, если вы читаете книгу, не забудьте посмотреть прекрасный фильм Романа Поллански, снятый по ней. Хоть его сейчас весь мир и бойкотирует, но я продолжаю отделять Полански человека и Полански режиссёра, так вот режиссёр он отличный как и его фильмы.
О таких произведениях трудно говорить. Это страшно, больно и несправедливо. Почему?! Зачем?! За что?! Кто все эти существа, способные на подобные деяния... Эта хроника оккупации фашистами Польши, взгляд очевидица и пострадавшей стороны. Тут слово пострадавшей... даже страдающий кажется куцым. Это взгляд без желания оправдать хотя бы своих. Страшно жить в мире, рядом с подобными существами... недочеловеками... недозверьми.. Про такие книги трудно говорить. Лучше помолчать...
Говорят, у кошки девять жизней, так вот у Владислава Шпильмана жизней было, как у десяти кошек. Невероятно, в каких ситуациях он умудрялся выжить – сначала в печально знаменитом Варшавском гетто, потом скрываясь на улицах города. Выжил благодаря везению, уму, быстрой реакции, интуиции, помощи друзей и даже врагов. Каждого из тех, кто, рискуя собственной жизнью, помог ему, Шпильман назовет поименно.
Даже если вы, как и я, не читаете книги о Второй мировой, потому что боитесь, что не хватит душевных сил, прочтите эти дневники. Да, здесь есть описания зверств, которые творили нацисты, евреи-прихвостни, украинцы, литовцы: дети, которых убивают любимым немецким способом – взяв за ноги и размозжив голову об стену, старик в инвалидной коляске, которого выбрасывают с балкона, мальчик, которого застрелили только потому, что он не поприветствовал должным образом немецкого офицера – и еще много вещей, которые нам, довольным и благополучным, сложно себе представить.
Но главное не это. Главное – это история стойкости, силы духа, мужества одного человека. Я не люблю пафосные фразы, но как здесь не написать Человек с большой буквы? Поражает спокойный тон рассказа, а ведь «Варшавские дневники» были написаны сразу после войны, когда раны еще не затянулись. Черт, что я несу, разве такие раны могут затянуться? Но тем не менее здесь нет ненависти, истерики, призывов к мести. Шпильман умудряется совершенно спокойно рассказывать даже о том безымянном поляке, который натравил на него жандармов, или о том «друге», который присваивал себе деньги, предназначенные на покупку еды, а сам держал Владислава на таком скудном пайке, что тот едва не умер от голода. Поэтому самое потрясающее – это даже не то, что Шпильман выжил, а то, что он при этом не сошел с ума, не озлобился, не оскотинился. «Варшавские дневники» - это история о том, как оставаться Человеком в мире, который сошел с ума.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе