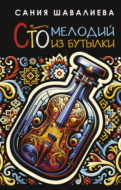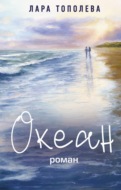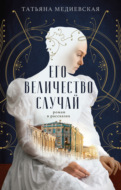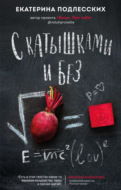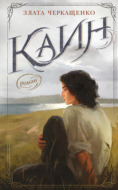Читать книгу: «Русский клуб», страница 2
Глеб тогда понял одно: «Дед Яков попросил у Бога дождя, и Бог дал…»
Дождь лил сутки.
Земля от воды набухла, как губка.
Река Пьяна вошла в свои берега.
По всей деревне, как прекрасная музыка, гремели у домов колодезные цепи.
Вечером следующего дня председатель, вернувшийся из райцентра, пришёл к деду Якову с бутылкой «чистой» водки, купленной в кооперации. Глеб в это время уже был на печи и подрёмывал.
Председатель побаивался по-трезвому спросить деда, как ему удалось дождь с неба вызвать.
Он боялся, что дед возьмёт и вдруг откроет ему тайну, да такую, что она перечеркнёт всю его жизнь.
Шёл он к деду Якову, трусливо спотыкаясь и чавкая сапогами по раскисшей от дождя дороге. Сам себе шептал: «Я не боюсь тебя. Я власть. Что ты мне сделаешь? И Бога нет. Последнего попа мой батя шлёпнул в семнадцатом».
Придя в избу к деду, он начал крутить разговоры на отвлечённые темы и всё подливал и подливал себе из своей бутылки.
– Вот ты, Яков Александрович, вроде весь седой, а сказать, что ты старый человек, нельзя. Почему? – уводил он деда от серьёзного разговора.
– Старым человек становится не тогда, когда опал с виду, а когда перестаёт обращать внимание на дела и заботы других. Когда начинает искать покой и все разговоры сводит к самому себе, к своим болезням и пустым проблемам. Когда думает только о своей смерти, а не о жизни других.
– Ты хочешь сказать, что о смерти не думаешь? Может, ты и смерти не боишься? – перебил председатель деда, стуча гранёным стаканом по столу.
– Человеку страшна не смерть, а бессмертие, – попытался закрыть эту тему дед.
– Это ты что-то странное говоришь! – всё больше пьянел председатель.
Вопросы его становились всё смелее.
– Так как же ты сумел дождь вызвать? В чём тут хитрость?
– Нет никакой хитрости. Надо верить, и всё тебе Господь даст, по делам твоим.
– А кто видел твоего Бога? – продолжил председатель. – Мы вот в космос спутник запустили и никакого Бога там не видели. Может, ты его встречал?
– Встречу с ним ещё нужно заслужить. А вот Сатана каждый день в твоём стакане.
– Зачем ты меня обижаешь, дед Яков? Я пью не потому, что хочется, а оттого, что тоска в сердце.
– Тоска у тебя оттого, что в душе твоей Бога нет.
– Значит, в твоей есть?
– Ты выгляни в окно, – отвечал дед Яков. – Дождь был? Был! Вот тебе и ответ: есть в моей душе Бог или нет.
– По дождю как бы есть. Но я считаю, что просто совпали явление природы и твои молитвы пустые. А по жизни? Что же твой Бог не спас Россию от революции?
– Что Богу не угодно, то царям не подвластно, – спокойно сказал дед. – Значит, так надо было.
– Надо? Кому надо? Богу вашему?
– Суета ты. Всё вам, коммунистам, скорее да быстрее. Послушаешь вас – так вы, как и Христос, зовёте к свободе, равенству и братству. Но способы у вас иные, торопливые, и живёте вы так, будто сами не верите в то, что говорите, а жизнь не терпит суеты. Жизнь – это покой под Божьим покрывалом.
– Вон ты как повернул. Мой покой – это вот… – И председатель постучал пальцем по стакану с водкой.
Глеб, засыпая, слышал разговор, но особо ничего не понимал. А услышав слово «спутник», навострил уши: председатель заговорил о том, что Гагарин летал в космос и никого там не видел, Глеб с ним мысленно согласился. Он помнил, как им, школьникам, вбивали в голову простым стишком, что Бога нет: «Села бабка в самолёт и отправилась в полёт. Приземлилась бабка эта и сказала: “Бога нету!”»
Дети без устали повторяли этот куплет как считалку.
Дед, услышав, что Глеб зашевелился, сказал председателю:
– Ты давай пей, закусывай, а что да как, на это день будет.
И дед налил председателю не из его бутылки, а из своей, с медовой настойкой. Председатель выпил и тут же уснул прямо за столом.
Дед Яков уложил председателя на кровать и позвал Глеба спать в садовый шалаш.
Председатель, протрезвев поутру, вышмыгнул из избы Якова как мышь, даже не извинившись за вчерашние пустые разговоры.
Глеб тогда мало понял из того, о чём говорили дед и председатель, но одно он точно усвоил: Бог есть, раз дождь был.
В то время Глеб был по-мальчишески влюблён в деревенскую соседку, дочку председателя. Она была не похожа на остальных, и звали её необычным именем Ида, и отца своего она называла непривычно – тятей. Относилась к нему ласково и с уважением.
Ходили слухи, что её бабка была дочерью князя Хованского. В дни послереволюционных событий князь метался по фронтам Гражданской войны, а в их деревню Миловку прибыл представитель большевиков для создания колхоза.
Это был молодой, красивый парень Семён Ашек из семьи разночинцев. Их идеи о всеобщем равенстве, любви и счастье отозвались в сердце молодой девушки учением Христа. И хотя она была княжеских кровей, но активно включилась в создание колхоза. Ходила вместе с Семёном на собрания, отдала под агитбригаду дом отца и сама не заметила, как стала женой большевика.
Ашека избрали первым председателем колхоза, и он навсегда остался в Миловке вместе со своей красавицей. В семье Семёна старались не говорить о происхождении его жены, а после её смерти и вовсе об этом забыли, но слухи остались. Бабка Иды, родив, прожила недолго, очевидно, была слабо приспособлена к крестьянскому труду.
Её внучка представлялась Глебу ангелом, сошедшим с небес: прекрасная и какая-то нездешняя. Ему было тогда очень легко, радостно и весело рядом с этой девочкой. Глеб ещё не понимал, что влюбился.
Конечно, в Миловке были ещё девчонки, но те, остальные, воспринимались Глебом как обычные земные существа, а Ида – как сказочное создание.
Иногда она совсем не замечала Глеба. И его детский мир тускнел и бледнел. Становился неинтересным. Но достаточно было одного её взгляда, как всё моментально менялось. И вместо проливного дождя светило солнце, вместо карканья ворон пели соловьи, и душа Глеба рвалась наружу от счастья. Хотя, как правило, длилось это недолго.
Ида считалась первой красавицей в Миловке, пользовалась повышенным вниманием ребят и часто, отвернувшись от Глеба, играла и разговаривала с ними. В это время внутри у Глеба возникало необъяснимое чувство неприязни к мальчишкам, с которыми только что дружил. И он, удивляясь сам себе, сердился на них непонятно за что.
Но стоило Иде заговорить с Глебом, все вокруг опять становились добрыми и верными друзьями.
Порой он замечал, что Ида наблюдает за ним: какие поступки он совершает и как ведёт себя в различных ситуациях. Глебу в такие минуты казалось, что она старше, умнее и опытнее его и знает что-то такое, чего не знает он.
Ради её расположения он даже дрался с деревенскими мальчишками. Но Ида так и не стала с ним дружить, обозвав драчуном.
И тогда Глеб решил обратиться к Богу, но не сам, а через деда, как недавно это сделали сельчане.
– Деда, – смущаясь, заговорил он, – попроси, пожалуйста, Боженьку, чтобы Ида стала дружить со мной.
Дед всё сразу понял.
Он усадил Глеба напротив себя и сказал:
– Хорошо, я попрошу. Предположим, Господь услышит меня, исполнит просьбу и Ида станет с тобой дружить. Но со временем она может тебе разонравиться, и ты больше не захочешь с ней водиться. А Ида, увидев, что ты к ней стал равнодушен, будет плакать и переживать. Тогда как?
Дед Яков, видя, что Глеб совсем смутился, предложил:
– Ты же мало знаешь её, да и с её родственниками не всё так просто. Давай-ка подождём обращаться к Боженьке с такой просьбой. Это дело серьёзное, это не концерт по заявкам. Хорошо?
– Хорошо, – подумав, согласился Глеб, но на деда обиделся. Он-то был уверен, что никогда не откажется от дружбы с Идой и будет всю жизнь рядом с ней.
Глеб, конечно, не знал, что его дед, при всей своей мудрости и правильности, имел грешок, известный всему селу.
После Великой Отечественной войны в Миловке остались одни вдовы. К ним и стал заглядывать Яков. Похаживал и думал, что никто об этом не ведает и видеть не видит. Вроде умный мужик, но «не разведчик».
Частенько в сумерках задами отправлялся он к очередной кумушке, а его собака у всей деревни на виду порядком шла к дому, куда дед пробирался тайно. Собака ложилась перед крыльцом счастливой бабёнки и ждала. Яков под утро опять задами, не замеченный никем, как ему казалось, пробирался к своему дому, а его собака через всю деревню весело бежала домой и там уже, радостно виляя хвостом, встречала своего хозяина на родном крыльце.
Чем он так привлекал вдов, уже будучи немолодым человеком, доподлинно не известно. При всей своей строгости характера с ними был всегда нежен и ласков. Что и нужно было одиноким женщинам.
Когда-то и Яков был официально женат.
В Миловке жила целая легенда про Якова и его жену Анну.
Яков в молодости был балагуром, хорошо играл на гармошке и пел красиво. Женился, но играть, петь и гулять не перестал. Анна, молодая жена Якова, терпела-терпела, собрала в охапку своё приданое и ушла к родителям.
Молодой муж явился за ней через день. Стал уговаривать вернуться.
Она ни в какую: «Не вернусь, пока не сожжёшь свою гармошку».
– Зачем же хорошую вещь губить? Да и не в ней дело, – ответил Яков. – Мы по-другому это решим. Гармонь я продам, а чтобы совсем соблазна у меня не было, сделаем так…
Он взял топор, положил правую ладонь на чурбан, три пальца подогнул, а два, средний и безымянный, отрубил одним ударом топора.
Анна вернулась, родила ему сына Андрея, отца Глеба, и вскоре умерла. Сына взяла на воспитание сестра Якова Дария, которая вышла замуж в село Бритово и жила там с мужем.
Андрея в восемнадцать лет призвали в армию, после службы он в деревню не вернулся. Стал работать шофёром на радиозаводе в городе Нижнеокске, женился, получил жильё в хрущёвской новостройке да так и остался в областном центре. Больше из истории семьи Глеб ничего не знал, пока не стал ездить на лето к деду.
А вот в деревне о его предках знали всё.
Предки деда Якова служили при дворе князей Хованских. А с начала Первой мировой войны отец деда Якова вместе со своим барином был призван на Германский фронт.
По одной из легенд, в марте 1917 года он вместе с князем Хованским находился в псковской Ставке Северного фронта, куда прибыл поездом Николай II, Верховный главнокомандующий, император Всероссийский. Хотя император и был всего лишь в звании полковника, он в эти тяжёлые годы войны решил сам возглавить войска.
И вот он под Псковом на линии фронта. Князь Хованский в этот момент был назначен Ставкой дежурным генералом в императорском поезде.
Туда же из Санкт-Петербурга приехала уполномоченная Государственной думой делегация. Привезли императору манифест об отречении от власти. Николай II, выслушав их, разослал всем командующим телеграммы с вопросом: согласны ли они с предложением о его отставке? Все, кроме командующего Черноморским флотом, ответили утвердительно.
Получив ответы на свои телеграммы, император понял, что большинство командующих его предали. Расстроенный, он ходил по своему кабинету в царском вагоне, потом прошёл мимо Хованского, стоявшего по стойке «смирно», и остановился у буфета. Налил в серебряный фужер водки почти до краёв и залпом выпил. Не закусывая, закурил папиросу. Подошёл к окну и заговорил, как бы обращаясь к кому-то:
– Отец мне наказывал: не уступай ничего, потому что, если дать им палец, они всю руку отхватят. Не допускай ограничения самодержавной власти. А я уступил, разрешил собрания, партии, Думу, и вот итог: они требуют, чтобы я отдал престол и подписал манифест о своём отречении.
Несмотря на начало весны, было холодно, офицеры и солдаты грелись у больших костров вдоль императорского эшелона. Среди них был и отец деда Якова, и он даже видел профиль Николая II в окне вагона.
На душе у императора было неспокойно – фронт трещал по швам. Феликс Юсупов, эксцентричный супруг племянницы Ирины, зачем-то застрелил Григория Распутина. Но главное: окончательно рушилась экономика. Страна медленно, но упорно превращалась из Российской империи в колонию Европы: банки под англичанами, заводы под немцами, нефть и горнорудные месторождения под бельгийцами. Вывоз капитала из страны в пять раз превышал годовой национальный доход.
Потушив только что раскуренную папиросу, император продолжил говорить вслух: «Отрекусь… Отрекусь! Заберу Аликс, детей и уеду в Англию к брату Георгию. Буду колоть дрова для камина и заниматься фотографией». Он взял со стола первый попавшийся под руку карандаш и быстро подписал отречение.
Князь Хованский настолько был потрясён тем, что произошло на его глазах, что немедленно сдал дежурство другому генералу и тут же подал в отставку. Не признавая никакую власть, кроме монархии, он вначале «окопался» в своём миловском поместье на Лысой горе, а с началом Гражданской войны, оставив на хозяйстве прадеда Глеба, уехал на фронт. И уже из Крыма уплыл за границу, поэтому увезти семью и нажитое богатство не смог.
Ходили слухи, что перед отъездом на фронт генерал Хованский успел зарыть десять чугунов с золотом. И поручил отцу деда Якова зорко охранять это тайное место, но предупредил, что за кладом приедет сам лично – никому иному богатство не отдавать. Очень доверял князь своему другу и верил, что вся эта «власть Советов» ненадолго.
О богатстве Хованских ходили легенды ещё с прошлых веков, когда князья «чудили».
Один князь предлагал всем своим холопам от Рождества до Рождества брить бороды каждый день. Кто брил весь год – тому золотой.
Другой награждал за самый интересный подарок на свой день ангела – будь то говорящий скворец, генеральские сапоги со «скрипом» или концерт местного виртуоза на деревянных ложках с прибаутками и акробатическими трюками.
Кто в престольный праздник в трёх варежках на гармошке плясовую сыграет – тому тоже золотой.
В общем, потрясли деньгами в своё время князья. Этим и убедили Миловку, да и всю округу, что золото у них было.
Раз в два-три года являлись люди к отцу деда Якова с устными указаниями от князя или с его письмами. Может, и вправду были они от князя, а может, от жуликов – кто их разберёт? Но клад так никто из них и не получил.
А в начале тридцатых, обнищав в эмиграции и потеряв надежду на возврат к старому, больной и немощный Хованский тайно вернулся в Миловку за своим золотом.
Отец деда Якова даже заплакал от счастья, что сможет теперь снять с себя этот наказ, освободит душу от исполнения воли своего друга и господина. И рассказал, что княжеская дочь была замужем за Семёном Ашеком, председателем колхоза, и родила князю внука, но буквально за месяц до возвращения Хованского умерла непонятно от чего.
И когда они в глухую ночь собрались за золотом, уже полусогнутый председатель колхоза Семён, боясь своего родства, донёс на них в ЧК. Их арестовали. Оба ни в чём не признались и сгинули в подвалах НКВД. А вот своему сыну, Якову, отец якобы успел шепнуть, где закопан клад. Но дед жил скромно, и никто никогда у него никакого особого богатства не видывал.
А ещё была легенда про жену Якова Анну и её предков.
В те давние времена царь Иван Грозный возвращался после взятия Казани, и путь его пролегал мимо Миловки.
Царь был мрачен, тёмен, победа, казалось, не радовала его. Тысячи были забиты и замучены под стенами вражьего города.
Шли уже седьмые сутки пути. Все валились с ног. Но царь не спал. Он никогда не спал после большой крови. В начале пути бражничал. Потом кучами таскал девок к себе в возок. Потом в кровь избил Малюту.
Наконец затих.
С неба непрестанно лил дождь со снегом. Кони не шли по раскисшей дороге, и вместо них впрягли полуголых, тощих, измождённых пленных. И они, чуть не по горло увязая в чёрной, как дёготь, жирной земле, медленно двигали возок государя. Сотнями их оставляли по пути, захлебнувшихся в дорожной жиже или задавленных по нечаянности.
Мостов через реки не наводили. Просто заваливали теми же пленными, которые тянулись огромными шевелящимися колоннами по обе стороны от царского обоза.
Казалось, отдыха не будет до самой Москвы.
Но однажды, уже под вечер, занавеска за окошечком в царском возке вдруг шевельнулась. Конник, ехавший рядом, от этого шевеленья метнулся в сторону и, столкнувшись с телегой, гружённой утварью, слетел с коня. Телега не успела остановиться и проехала по нему задним колесом, вдавив конника в хлипкую землю, с хрустом переломав ему рёбра. Дикий его крик нарушил привычный гул долгого, тяжёлого похода.
Царь выглянул.
Возок остановился.
Дверка открылась. С десяток рабов рухнули в жижу, чтобы было куда ступить царю.
Царь вышел.
Все вокруг упали на колени, кто где стоял. Даже собаки поджали хвосты и униженно заскулили, вертясь на месте.
Царь по живой гати вышел на небольшой пригорок, огляделся вокруг и велел ставить лагерь.
При царе находился писарь. Ивану Грозному нравилось, как старательно тот выводит буквы, как правильно излагает государев глагол на бумаге.
В тот вечер он, записав, что ему надиктовал государь, и найдя сухое место под ореховым кустом, завалился туда и заснул как убитый.
Поутру с первым холодком проснулся. И не от того, что выспался, скорее, от того, что вокруг стояла сказочная тишина, от которой сон сам собой прервался. Писарь встал, тихо отошёл подальше от царского шатра и обогнул холм, поросший низкорослым орешником. Солнце едва-едва побелило облака на востоке. В низине, накрытой туманом, затаилось несколько болотин. Прямо за ложбиной, начинаясь редкими берёзами, вырисовывался громадный лес.
Писарь подошёл к липке, случайно проросшей в кустарнике, и срезал веточку чуть потолще пальца. Обрезал её с двух концов, обстучал и, присев на кафтан, брошенный на сырой бугорок, смастерил дудочку. Пока колдовал над липовой веточкой, солнце уже обозначило день.
Начали просыпаться птицы. Побежали кулики, шарахаясь от спящих походников.
Он облизал губы, встал и потихоньку заиграл мелодию – она сама вдруг пришла ему на сердце. Потом забылся, стал играть громче и громче, покачиваясь из стороны в сторону, и вдруг почувствовал: сзади что-то не то. Перестал играть и быстро обернулся. За спиной стоял царь, а за ним – войско, молчаливое и страшное.
Писарь онемел. Ноги подкосились. Он упал на колени, уткнулся головой в землю.
– Встань, – донёсся приказ.
Писарь встал, дрожа всем телом.
– Пошто играл на дудке? – спросил государь.
– Красиво, – через силу выдавил слуга.
– Красиво? – переспросил государь, удивлённо вскинул грозные брови и, медленно повернув голову, посмотрел на восход, набирающий силу. – Да-а, красиво… – протянул медленно и добавил, уже глядя в упор на писаря с дудкой в руках: – Быть здесь монастырю. – И царь ткнул посохом в болотину. – Ты строить будешь.
Он и строил.
Как-то на второй год бывший писарь, с охоты едучи, завернул к роднику. Слез с коня и не спеша шёл, огибая низкие ветки молодых дубков. Родничок был небольшой, но чистый, свежий. Он наклонился и стал, пофыркивая, пить вместе с конём. И вдруг заметил, что уши у коня насторожились и пошли вправо: кто-то был рядом. Лук остался на седле, однако нож – на поясе. Осторожно, из-под конской морды, осмотрел ближайшие кусты и наткнулся взглядом на голубые, как васильки, глаза. За кустами сидела, замерев от страха, девка.
Так вот он познакомился с Варей.
И закрутило, завело их, молодых, по рассветам да стожкам.
Была Варя как свежая тёплая белая булочка; небольшого росточка, в сарафанчике под упругие, как спелая антоновка, грудки, добрая, ласковая, нежная, смешливая.
Писарь и загулял. И подзабыл, зачем он тут, по чьей воле и с каким наказом. Церковь успели закончить, а вот ямы под угловые башни монастырской стены только начали, но – без присмотра – миловские строители бросили работы и занялись своими делами.
Зато недруги не дремали и доложили царю, что стройка встала. А писарь будто и не замечал ничего. Всё ходил целыми сутками пьяный без вина.
Однажды, утомлённый Варей, спал у себя в избе, и на него накинулись царские люди, и вот – он уже под кнутом.
В воздухе свистнуло.
Тягуче, быстро, хлёстко.
Спину от поясницы к шее обожгло.
Как писарь ни ждал этого удара кнутом, как ни готовился, боль была такой пронзительной, что его выгнуло коромыслом и в глазах заломило, как от вспышки яркого света, но не крикнул, не забился в припадке. Сжал до хруста зубы и ещё плотнее прижался к шершавой лавке, на которой его распластали.
Опять свист.
На этот раз кнут задел ухо и рассёк его пополам. Он подкинул голову и тут же с размаха, гулко ударился лицом о лавку. Писарь знал эти кнуты. Сам не раз плёл такие из сырой бычьей кожи, порезанной на длинные тонкие ремни.
Опять свист.
И опять – удар с оттяжкой, на этот раз поперёк туловища. Показалось, что тело перерубили пополам. Так глубоко врезался тонкий конец кнута. Он снова выгнулся в дугу, снова гулко ударился о лавку.
Но не крикнул. Только выплюнул разгрызенные свои зубы.
После четвёртого удара он затих.
На пятом даже не вздрогнул.
Лавка под ним стала скользкой от крови. Он сполз на правую сторону, его пинками вернули на место. Кнутобоец поднял за волосы, посмотрел и заключил:
– Пока хватит.
И палачи вышли из избы.
Мухи роем облепили его, потного, мокрого, окровавленного. Тело уже начало подсыхать со спины, и тут снова вошли его мучители.
Сытые с обеда. Весёлые от бражки.
Перекрестились на образа в углу и начали допрос. Куда да сколько? Где деньги царёвы? Почему стены монастырские до сих пор не стоят?
Он молчал. Не оттого, что не хотел отвечать, а потому, что боялся открыть рот: если разомкнёт крепко сжатые губы, то пытки не выдержит – кричать будет. А допытчики от этого распалялись всё сильнее и сильнее. Зверели.
Вот пошёл двенадцатый удар.
Спина была уже без кожи – белели рёбра. Ударов он больше не чувствовал. Тело содрогалось, но существовало как бы отдельно от сознания. Писарь лежал на лавке, оцепенев от боли.
И вдруг перед глазами стало светлеть. Показалось, будто над ним склонилась Варя, капая слёзками на его сухие губы.
Он разжал губы и прошептал:
– Варенька, милая… я умираю… Прощай, любимая.
Варя уплыла куда-то, и в лицо ему плеснули холодной водой.
Он увидел бороду с крошками сдобы в ней, потом ухо.
Борода покачалась из стороны в сторону и заключила:
– Что-то бормочет, а не поймёшь. Наверное, всё, кончается. Огрей-ка ещё разок, пока не помер.
И в воздухе опять свистнуло.
Мокрый от крови кнут последний раз хлюпнул в его теле и затих, свернувшись в клубок на прохладном земляном полу. Бесчувственное тело спихнули с лавки и за ноги выбросили за порог.
Через три избы в руках людей билась Варя.
Но её не выпустили.
А шесть месяцев спустя она родила сына, далёкого предка Глеба по линии бабушки Анны.
После смерти жены дед Яков жил один, сам за собой ухаживал, сам себе готовил, но с годами стал слабеть.
А когда его собака умерла, он, почувствовав, что и его путь на земле заканчивается, решил покинуть село.
Яков раздал соседям посуду, скотину, ульи и остальной скарб. Заколотил окна в избе, поклонился родным могилам. Односельчанам же сказал, что на «мир» не в обиде, а уходит по старости своей поближе к Богу, в Печёрский монастырь. Хороший пчеловод везде нужен.
Но похоронить себя просил в Миловке.
Уходил дед Яков из Миловки, опираясь на посох и с лёгкой котомкой за плечами. Провожали всем селом. На прощание, зная его мудрость, многие спрашивали: что их ждёт впереди?
Дед отвечал:
– Скоро страну захватит «Меченый», и она развалится. Наступит смута большая. К власти придут предатели. Народ страдать будет от несправедливости и мерзости. Одни будут в золоте, а другие в голоде. Но как только к власти придёт «Солдат», Русь опять возродится, как птица Феникс. Станет ещё сильнее и ещё богаче. Со всех концов света потекут реки людские на Русь спасать свои души. Народ российский сплотится, и наступит на земле русской время счастья, справедливости и милосердия. Руководить страной станут те, кто рисковал своей жизнью, защищая её.
Все слушали, охали, но деду верили. Хотя не понимали, кто этот «Меченый» и кто «Солдат»
В деревне только и разговоров было, что о предсказании деда Якова о будущем страны. И когда к власти пришёл Михаил Сергеевич Горбачёв с родимым пятном на голове, все ахнули: «Вот он, “Меченый”, о котором предсказывал дед Яков! Скоро беда придёт!»
Поговаривали и о мифическом золоте князя Хованского, часть которого, по слухам, Яков где-то у себя хранил.
Лихие люди, понимая, что дед ушёл налегке, перерыли весь его сад и перебрали по брёвнышку его дом, но клад так и не нашли. С этим и успокоились.
Глеб часто приезжал к деду в монастырь.
Дед Яков считал, что настоящая жизнь – это жизнь в монастыре. Только здесь приходит понимание, что путь у всех один: от Бога до Бога, а остальное – суета и ничего больше.
По началу жизни в монастыре Яков ещё был крепок и решил выкопать там колодец. Глебу была интересна эта идея, и он напросился в помощники.
Началось всё с поиска места.
Дед, взяв в руки по веточке липы, стал тщательно обходить территорию монастыря. Ходил долго, наконец веточки пересеклись, он опустился на колени, перекрестился, сотворил поклон и сказал:
– Копать будем здесь.
С утра им в помощники определили монаха. Они напилили метровых брёвен и очистили их от коры. Глеб с монахом стали копать яму под колодец, а дед, вооружившись топором, сооружал первый колодезный сруб.
Откопали с метр, поставили в яму этот сруб, собранный дедом. Тот вписался как родной.
Глеб с монахом по очереди стали копать дальше, а дед – собирать второй сруб. Они поставили его на первый, надавили – и первый сруб опустился ниже. Потом третий, четвёртый… А на пятом Глеб почувствовал под ногами жижу.
После шестого сруба дед сказал: «Хорош».
Глеб вылез, и они втроём присыпали наружные стены колодца глиной и утрамбовали землю.
– Теперь пусть постоит, – сказал дед Яков.
Глеб через неделю приехал в монастырь, там всё было готово к освящению колодца главным пастырем области владыкой Николаем. Был сооружён навес с лавочкой и прикреплён ворот с цепью и ведром.
Так в Печёрском монастыре появился «Яков-колодец».
С тех пор Глеб любил посиживать около него и слушать деда Якова. А рассказывал он много интересного:
– В молодости я объездил почти всю нашу огромную страну, но самое интересное путешествие, от которого не устанешь, – это путешествие в себя, если твой внутренний мир так же богат, как и внешний. И вот пришёл я в Печёрский монастырь и наткнулся на келью монаха-затворника, из которой двадцать лет он не выходил. Только захотел пожалеть этого монаха, как почувствовал, что на меня от этого «затвора» веет таким счастьем, спокойствием и благополучием, что я замер. Как же так?
И в этот момент на лице деда, который, казалось, в жизни видел всё, возникло удивление, и он, просветлённый неожиданно возникшей высшей идеей, радостно продолжил:
– Вот мы суетимся, счастье ищем, ощущений добиваемся, а оказывается, самые сильные ощущения и впечатления – внутри себя, в себе: надо только прислушаться к своей душе. Душа, а не тело – главный накопитель красоты в жизни. Самое прекрасное путешествие – это путешествие в свою душу. Закрыться, запереться и побродить по закоулкам своей души. Если душа твоя светлая, богатая и многообразная, то и путешествие будет интересное и долгое. И вспомнится много, и передумается о многом. И не скучно будет, а наступят покой и ощущение вечности. Так и ты, внучек, если устанешь от жизненной суеты, попробуй заглянуть внутрь себя. Зачастую человек живёт, не зная свой внутренний мир, не поняв себя и своих возможностей.
Глеб пообещал деду Якову, что обязательно воспользуется его советом, но потом, в будущем, а сейчас некогда лазить по своей душе, надо действовать: началась перестройка.
Дед слушал, кивал головой и говорил:
– Да, наступило новое время. Ваше время. Время молодых и дерзких. Кто-то в эти дни потеряет всё. Кто-то получит всё. Богатые станут бедными. Бедные – богатыми. Кто-то упадёт. Кто-то взлетит. Один род неожиданно поднимется, другой опустится. Атеисты станут верующими. Болтуны станут пророками. Каждый покажет свою настоящую сущность, своё истинное лицо. Пробуй себя, не бойся. Дорогу осилит идущий. Только тот, кто слабее, по ней мечется, как таракан в щели, а другой, сильнее духом, идёт прямо. Так и ты должен идти вперёд, а если возникнет проблема, делай шаг ей навстречу, а не назад или в сторону. Знай, что опасность надо преодолевать, а не бежать от неё… Не оставляй в своей жизни нерешённых вопросов. Если оставишь – они к тебе вернутся. Перестройка – это испытание, а испытание – это путь. Через него ты поймёшь истину и обретёшь покой.
– Ты многого в жизни добьёшься, если не скатишься в сторону, – ещё говорил он Глебу.
– Это как: «скатишься в сторону»? – не понимал Глеб.
– Это так, что Господь тебе по твоим способностям уже определил дорогу, по которой ты должен пройти в своей жизни, но дьявол соблазнами может тебя сбить с пути. Поддашься ему – и покатишься непонятно куда и зачем. Но, я думаю, с тобой этого не произойдёт. Ты парень правильный. А чтобы тебе легче было идти, я дам тебе свой посох. Он тебя поддержит в трудную минуту.
Глеб тогда удивился: зачем ему дедов посох, какой от него прок?
Дед же почувствовал это и добавил:
– Прок будет. Как определишься со своим местом в новом времени, тогда посох тебе и поможет.
«Сказки какие-то стал дед рассказывать», – подумал Глеб, но ничего не сказал деду, не хотел его обижать. Принял этот подарок за старческую причуду, а приехав домой, внимательно рассмотрел посох.
Он был тяжёлый, тёмно-серого цвета, вверху удобно вырезан под кисть руки. Заканчивался посох вкрученной в него металлической нашлёпкой. Чувствовалось, что он изготовлен давно, но им мало пользовались.
Что с ним делать, Глеб не знал и убрал посох под кровать, куда с детства складывал все свои ценные вещи.
В последнюю встречу дед Яков сильно кашлял.
– Да, видно, недолго осталось мне жить, – прокомментировал он сочувствующие взгляды и вздохи Глеба.
– Ну что ты, деда, – пытался возразить ему Глеб, – ты же не пророк.
– Конечно, не пророк, я всего лишь посредник и говорю то, что передаёт мне Господь – это Его откровения.
Глеба тогда поразили эти слова деда, и он, смущённый, свернул общение, заторопился и, наскоро простившись с ним, уехал. Но вскорости и это предсказание сбылось. Через две недели дед Яков умер.
Похоронили его, как он и просил, на кладбище в Миловке.
Глебу вовремя не сообщили о его смерти. И он приехал в Миловку на похороны прямо к кресту. Удивился, прочитав на табличке, что дед умер на девяносто шестом году жизни. Никогда бы он не подумал, что тот был в таком возрасте.
Он помнил, как в детстве с дедом Яковом приходил на деревенское кладбище. Тот говорил:
– Внучек, будет тебе тяжело, приезжай сюда, к родным могилам, сиди и рассказывай о своих бедах.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе