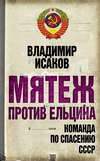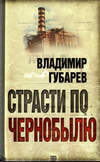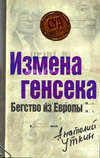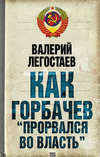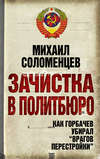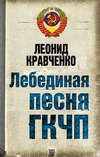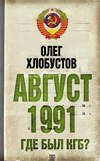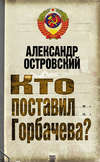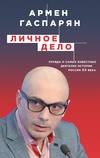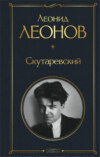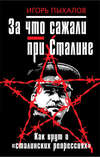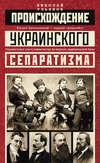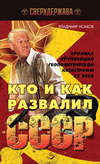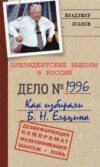Читать книгу: «Мятеж против Ельцина. Команда по спасению СССР», страница 3
Следующим постановлением съезд изменил редакцию статей 6 и 7 Конституции, закреплявших руководящую роль коммунистической партии. Новая редакция устанавливала, что «политические партии, профсоюзные, молодежные и другие общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики государства, в управлении государственными и общественными делами». Принятая съездом поправка обязывала все политические партии, общественные организации и массовые движения действовать в рамках Конституции и законов.
Таким образом, первый съезд сходу отменил руководящую роль коммунистической партии и установил для всех организаций принцип законности. Будущим исследователям российского парламентаризма будет трудно, наверное, понять, каким образом съезд, состоящий почти на 90 процентов из коммунистов, конституционным большинством голосов ликвидировал руководящую роль коммунистической партии. Но таковы факты. И они никак не вписываются в сформированный позже стереотип об «изначальной порочности» и «консерватизме» съезда, его противостоянии демократическим реформам.
На съезде обсуждалась, но так и не была принята поправка о реформе постоянно действующего представительного органа власти – Верховного Совета. Докладывал этот вопрос я. К сожалению, «демократически» настроенная часть зала перевела его в плоскость политической конфронтации, использовала для сведения счетов с политическими противниками. Некоторые депутаты настаивали на совершенно нереалистичной идее преобразования всего съезда в Верховный Совет. Не сумев договориться между собой, «демократы» проиграли – ни одна из поправок не прошла. Съезд ограничился тем, что снял требование о «паритетных началах» формирования комиссий и комитетов, которое практически парализовало избрание этих рабочих органов Верховного Совета. В Конституции было закреплено, что отныне комитеты и комиссии формируются палатами на «совместных началах».
* * *
Политические цели «демократической» оппозиции были с наибольшей полнотой и открытостью выражены в документе, внесенном на съезд группой ленинградских депутатов – В. Варовым, В. Дмитриевым, И. Константиновым. В первых его строках провозглашалось: «Настоящим декретом Съезд народных депутатов РСФСР заявляет о взятии всей полноты государственной власти на территории РСФСР». Взятии – у кого? У кого может взять власть Съезд, и без того являющийся по Конституции высшим органом государственной власти? Очевидно – у коммунистической партии и союзного руководства.
Естественно, что вокруг этого документа заварилась крутая политическая интрига. У меня в архиве сохранились около десятка альтернативных вариантов «Декрета о власти», внесенных различными депутатами и депутатскими группами, множество поправок к ним. Из них видно, что первоначальный проект постепенно эволюционировал в сторону кодекса абстрактных общедемократических призывов и лозунгов: «власть осуществляется народом», «совмещение государственных и партийных постов не допускается», «запрещается бюджетное финансирование деятельности политических организаций и партий» и так далее. Но и в этом явно выхолощенном виде «Декрет о власти» сохранял конфронтационный дух, наводил на мысль об «антисоветском и антикоммунистическом перевороте». После многочисленных голосований проект был принят съездом лишь за основу для дальнейшей работы.
Б. Ельцин «Декрет о власти» поддержал, но особенно его не педалировал. Как более опытный политик, он понимал, что преждевременно «прокукарекать» о взятии власти – не поможет, а скорее помешает взять ее реально.
Несмотря на поручение съезда Конституционной комиссии, «Декрет о власти» так и не был принят в окончательной редакции. Жизнь его обогнала. Провозглашенные в нем задачи и цели были фактически реализованы в ходе августовского (1991 года) и октябрьского (1993 года) государственных переворотов.
* * *
Съезд шел к концу. В один из последних дней меня вновь позвал Ельцин и вручил несколько густо исписанных листков: «Вот, написал ночью. Надо успеть принять». Это был написанный лично им проект постановления «О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР». С трудом разбирая ломаный ельцинский почерк, я переписал проект на машинке, исправив в нем неточности терминологии и явные погрешности стиля.
С первого взгляда было видно, что проект носил конфронтационный характер. Совет Министров РСФСР выводился из подчинения союзного правительства и передавался в ведение Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. Тем самым рушилась единая вертикаль исполнительной власти. В юрисдикции Союза ССР оставлялись лишь девять министерств и ведомств – все остальные переводились в ведение России. МВД РСФСР переподчинялся Совету Министров РСФСР. Учреждались российская банковская и таможенная системы. Совету Министров РСФСР предлагалось заключить прямые договоры с союзными республиками и иностранными государствами, оформить в договорном порядке с Правительством СССР отношения по управлению союзной собственностью и осуществлению функций союзных ведомств на территории РСФСР… По существу это был ультиматум союзному руководству, неприкрытое требование о переделе экономической и политической власти.
Куда ведет этот шаг? Я подавил нахлынувшие сомнения: «Река сносит. Для того чтобы достичь цели, надо править выше». Да и подзаголовок постановления – «Основа нового Союзного договора» – успокаивал, намекал, что объявленные в нем цели будут достигаться мирным путем, через диалог, а не через войну и конфронтацию.
Постановление было вынесено на голосование в последний день работы, когда изнывающие на чемоданах депутаты мечтали только об одном – чтобы этот бесконечный съезд когда-нибудь закончился. Проголосовали сходу, без обсуждения. Уставшие от заседаний депутаты поверили на слово: все будет нормально.
* * *
Пока в Большом кремлевском дворце кипели страсти – депутаты спорили, голосовали, вносили и отвергали поправки, давали интервью, выступали по телевидению, переводили дух в буфетах и вновь возвращались в зал, жизнь огромной страны шла своим чередом. Как раз в дни работы съезда праздновалось 85-летие со дня рождения М.А. Шолохова. Выступая на вечере в Большом театре СССР, выдающийся российский прозаик Анатолий Калинин, признанный наследник шолоховского таланта, сказал в украшенный золотом и красным бархатом зал:
«Родина моя, что же это творится с тобой и со мной? Ибо над родиной Григория Мелехова и его творца, к подножью которого принесли мы цветы своей любви и благодарности, нависла сегодня угроза и опасность самому существованию ее как единого могучего государства. Я не только о России говорю, которая является матерью Шолохова, но и обо всем нашем многонациональном Союзе, сыном которого он всегда себя считал и оставался преданным ему до последнего часа жизни. Однако, конечно, в первую очередь о России – и потому что без нее невозможно представить себе наш Союз, и потому что тот праздник души, который объединил нас сегодня под сводами Большого театра, знаменательно совпал с теми днями и часами, когда под другими державными сводами решается сама судьба российского государства. Судьба потомков Мелеховых, которые в таких муках и страданиях, наперекор ввергнувшим их в обман и братоубийственную войну силам, вырвались из замкнутого круга к свободному труду на свободной земле, к любви и всеобщему братству.
Неужели же и теперь, уже в наши дни, они поддадутся обману тех, кто, отлучая их от коммунистов, готов уже объявить вне закона и всю партию, без которой неминуемо развалятся, распадутся на кровоточащие куски и вся Россия, и весь наш Союз народов? Понимают ли это те, кто, поднимаясь на самую высокую трибуну родины и призывая к национальному согласию, обрекает провозглашаемую ими суверенность России на самоизоляцию от братских народов?
Не представляю себе, что у нее, даже самой великой и могущественной, не может быть в наше время суверенности вне незыблемой и выстраданной столетиями суверенности границ всего нашего Союза. Иначе и Россию, и все наше союзное единство немедленно разбазарят, разворуют и растащат, опять ввергнув, но теперь уже потомков Мелеховых, в кровавую междоусобицу, в братоубийственную войну…»
Многие ли были способны осознать так ясно угрозу, которую уже почуяло, обливаясь слезами и кровью, чуткое писательское сердце?..
Часть 3. Методы работы Ельцина
Ни на йоту не верю в совпадения, приметы и чертовщину. Но председателем палаты – Совета Республики Верховного Совета РСФСР – меня избрали почему-то именно тринадцатого числа—13 июня 1990 года.
Первое организационное заседание палаты открыл и вел Б. Ельцин – Председатель Верховного Совета РСФСР. На должность председателя палаты выдвинули четыре кандидатуры, в том числе – мою. Предлагая свою кандидатуру, Б. Ельцин счел необходимым «развеять подозрения»: «Я давно знаю товарища Исакова, и самое интересное – мы земляки. Он во многом помогал мне в подготовке всей этой работы. Но как раз, может быть, из этих соображений мне и не хотелось назвать именно его кандидатуру. Мы вот посоветовались, и решили, что это будет не совсем этично».
В первом туре голосования вообще никто не прошел. Во втором депутат В. Мазаев задал вопрос: «Кто, на ваш взгляд, должен разрабатывать стратегию внутренней и внешней политики страны: ведущие политические партии, Съезд или Верховный Совет?» Я на это ответил, что стратегию разрабатывать не запрещено никому, но определять ее должен высший орган государственной власти. Ответ понравился, вызвал аплодисменты. Это, похоже, и склонило чашу весов в мою пользу.
В качестве своего заместителя я предложил избрать Александра Альбертовича Вешнякова, рекомендованного Б. Ельциным на пост председателя палаты. Из зала отчетливо прозвучало (обо мне): «Молодой, да ранний!» В конце концов, А. Вешняков был избран моим заместителем. Я в нем не ошибся: он оказался отличным помощником – надежным, организованным, аккуратным.
Вскоре последовал и первый «рабочий конфликт». Пытаясь как-то упорядочить обсуждение вопросов (депутаты «блокировали» микрофоны и превращали заседание в митинг), я предложил предоставлять членам Верховного Совета приоритет по вопросам повестки дня. Предложение было принято. Н.Травкин, который не был тогда членом Верховного Совета, в ярости кричал на весь зал: «Мы тебя переизберем на ближайшем же Съезде!».
Но эти «рабочие моменты» вполне можно пережить. Были, конечно, и более серьезные обстоятельства.
* * *
Первоначально Б. Ельцин завел практику еженедельных встреч со своими заместителями и председателями палат. Это очень помогало в работе, позволяло снять массу текущих вопросов. Но постепенно эти встречи стали короткими, формальными, а затем и вовсе прекратились.
Разумеется, у меня как у председателя палаты был установлен с ним телефон прямой связи. Помощник председателя Верховного Совета Виктор Илюшин, опытный аппаратчик, разъяснил мне правила его эксплуатации: «Сначала звонишь по «вертушке» мне, узнаешь, кто у «шефа». И только после этого снимаешь трубку прямого телефона». То есть и по прямому телефону не всякий раз попадешь.
Оставались еще встречи на Президиуме Верховного Совета. Но Ельцин явно ими тяготился. Молчаливо слушал выступления, нетерпеливо посматривал на часы. Во всей его фигуре читалась мысль: «Ну, когда же вы, наконец, закончите?» Постепенно и Президиумы Верховного Совета стал вести за него Р. Хасбулатов.
То, что Ельцин – не сторонник «коллективного руководства», я знал и раньше. Но вот то, что он не умеет координировать работу коллективного органа, каким является Верховный Совет, было для меня открытием. Ельцин любил, чтобы обращались к нему лично. Еще лучше – конфиденциально. И совсем хорошо – секретно, тайно. Такой «информации» он доверял больше. Зная эту его слабость, подхалимы из его окружения даже самую обычную открытую информацию стремились оформить как «конфиденциальную». Тогда больше шансов, что заметит.
Будучи председателем палаты, отвечающей за социально-экономическую политику России, я столкнулся с тем, что в палату не поступает никакой правительственной документации. Обратился к руководителю аппарата. Тот развел руками: извините, вас нет в списке. Пришлось побеспокоить Бориса Николаевича. После этого стали приносить обычную «тассовку» да еще – сборники Госкомстата. Большего добиться так и не удалось. Борис Николаевич четко знал, кому что давать.
* * *
Как провинциал и человек в Москве новый, я решил встретиться с первыми лицами Союзного государства и даже наметил соответствующий план. А.А. Вешняков, мой заместитель, этот план энергично поддержал.
Первым в этом списке был Председатель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов. Анатолий Иванович принял меня с Вешняковым в своем кабинете в Кремле. Принесли чай с фирменными кремлевскими печеньицами – больше таких я нигде не видел. Разговор, насколько я помню, шел о перспективах Союзного договора и о тонкостях взаимоотношений союзных и автономных республик в этом процессе. Лукьянов проявил завидную эрудицию в истории этого вопроса, сказал, что специально изучал его по первоисточникам в кремлевском архиве. За 70 лет мы прошли полный круг и вернулись практически к тем же самым проблемам…
Очень доброжелательно встретил нас и председатель родственной палаты – Совета Союза – И.Д. Лаптев. Договорились о взаимном обмене информацией, документами палат. Буквально на следующий день у меня на столе лежали свежие бюллетени заседаний Совета Союза, законопроекты… соглашение действовало вплоть до распада Союзного парламента.
Осталась в памяти встреча с премьер-министром СССР Валентином Павловым. Он оказался человеком остроумным, с хорошим чувством юмора. Разговор как-то сразу пошел в доверительном тоне. Однако неприятно царапнула такая деталь: в тех местах, где разговор выходил на острые темы или нелицеприятные оценки, Павлов переходил на шепот, а отдельные фразы даже писал на бумажке. Как, выходит и здесь тоже?..
Во время разговора позвонил массивный белый телефон, стоящий в стороне от других. Павлов ответил: «Слушаю, Михаил Сергеевич!» – и по выражению его спины я понял, что пора уходить… К сожалению, не всех из моего списка удалось посетить, в частности, Ахромеева, Пуго… Жалею об этом до сих пор.
Во время этих встреч я невольно сравнивал союзных руководителей с российскими, с которыми приходилось часто общаться. Надо сказать, что общее впечатление было в пользу первых. По уровню образованности, эрудиции, культуры, понимания экономических и социальных проблем союзные руководители того времени были на голову выше российских.
Как я теперь понимаю, это и было одной из главных причин лютой неприязни российского руководства к «союзному центру» – обыкновенная человеческая зависть к тем, кто умнее, удачливее тебя, имеет большую власть и большие привилегии. Как им было приятно, наверное, видеть союзный «центр» униженным, поверженным в прах…
Торжество зависти… Может ли быть что-либо опаснее для общества, для государства, как безнаказанное торжество темных человеческих страстей? И думали ли те, кто свергал союзное руководство, что пройдет год-другой – и их подопрут свои, местные элиты, столь же жадные до власти и привилегий?..
* * *
Постепенно в Верховном Совете установился порядок, а точнее беспорядок, при котором невозможно определить происхождение документа, обнаружить ответственных за тот или иной вопрос. График работы сессии, утвержденный на Президиуме, мог быть перекроен задним числом до неузнаваемости. Состав официальной делегации – пересмотрен в «рабочем порядке» и т. д. Все это мешало наладить нормальный рабочий ритм, расхолаживало людей. Именно на этой почве у меня начали возникать разногласия с Б. Ельциным. Зашел к нему раз, другой. Затем написал докладную записку, черновик которой у меня по случайности сохранился:
«Уважаемый Борис Николаевич!
Обращаюсь к вам в связи с тем, что работа Верховного Совета РСФСР и его Президиума вызывает у меня все большую тревогу и озабоченность.
В нашей работе отсутствует четкая политическая линия, организация исполнения принятых решений, увеличивается разрыв между словом и делом. Заявив о суверенитете РСФСР, мы сделали преступно мало, чтобы наполнить свою декларацию конкретным содержанием.
В нарушение решений Съезда народных депутатов не решен вопрос о разграничении собственности с Союзом ССР. Заявляя о переходе имущества в руки республики, мы не создаем практического механизма управления этим имуществом. Недопустимо медленно и бессистемно решаются ключевые вопросы экономической реформы – демонополизация, приватизация и другие. Совместная рабочая группа Верховного Совета и Совета Министров, созданная для координации всей этой работы, практически прекратила свое существование.
В Верховном Совете РСФСР отсутствует нормальная рабочая обстановка. Серьезнейшие решения выносятся на заседание и голосуются практически без подготовки и проработки. В результате мы приняли незаконные решения, которые не сумеем реализовать (например, по газете «Советская Россия»). По многим принятым решениям уже сорваны сроки реализации.
Обсуждение вопросов на пленарных заседаниях зачастую носит формальный характер. Нет серьезного анализа, отсутствует конструктивная дискуссия. Небольшая группа депутатов имеет возможность беспрепятственно навязывать свою точку зрения Верховному Совету. Решения не принимаются, а продавливаются с грубыми нарушениями регламента, вопреки аргументированным возражениям депутатов.
Вошли в практику нарушения парламентской процедуры. Минуло уже более половины сессии, а мы до сих пор работаем без утвержденной повестки дня. Председательствуя на сессии, Р.И. Хасбулатов позволяет себе грубо обрывать депутатов, комментирует их выступления, по своему усмотрению ставит на голосование или игнорирует поступившие предложения.
В результате упала рабочая дисциплина депутатов, их уважение к деятельности парламента. Депутаты перестали посещать заседания палат, многие не работают в комиссиях и комитетах. К сожалению, палаты лишены возможности вмешаться и поправить дело, так как комитеты Верховного Совета вашим распоряжением полностью выведены из подчинения палат.
Серьезные недостатки характерны и для деятельности Президиума Верховного Совета. Ответственные решения принимаются без обсуждения и при отсутствии кворума. Большинство из них даже не голосуется.
Распространилась совершенно недопустимая и противоправная практика принятия постановлений Президиума первыми руководителями единолично. Большинство таких решений касаются конкретных хозяйственных вопросов, не относящихся к компетенции Президиума. В этих условиях я, как член Президиума Верховного Совета, вынужден заявить, что не был информирован об их принятии и не могу нести за них ответственность.
Вышел первый номер газеты Президиума Верховного Совета РСФСР «Россия». В титуле значится Президиум Верховного Совета как один из соучредителей. Однако Президиум не утверждал ни устав, ни редактора, ни состав редколлегии. Не было и решения об учреждении.
Вызывает самые серьезные опасения практика создания привилегированных хозяйственных организаций – освобожденных от налогов, наделенных правом валютных операций, пользующихся покровительством органов государственной власти. Мировая практика неоднократно подтверждала, что такие организации – рассадник коррупции. Наше собственное законодательство запрещает совмещение статуса депутата с хозяйственной деятельностью, тем не менее, это положение не соблюдается.
Депутаты и руководители местных органов власти высказывают серьезные замечания о деятельности Конституционной комиссии. В ее рабочей группе подобрался тесный круг единомышленников, которые практически монополизировали работу над проектом Конституции РСФСР. Все иные мнения, не укладывающиеся в принятую ими концепцию, по существу игнорируются.
Не завершен конкурс на лучший проект Конституции РСФСР, не подведены его итоги. Конституция не обсуждена в Верховном Совете РСФСР. Тем не менее проект Конституции вынесен практически на всенародное обсуждение.
Негативное влияние на работу Верховного Совета РСФСР оказывает то обстоятельство, что вопросы структуры, штатов, аппарата высшего органа власти, вопреки регламенту, решаются келейно, выведены из-под контроля самого Верховного Совета. Это приводит к принятию решений, вызывающих серьезные возражения. Так, распоряжением первого заместителя председателя Верховного Совета при нем образована аналитическая группа. Штаты этой группы определены в составе 91 человека, им выделены 13 помещений и почти на 1 млн. рублей импортной вычислительной техники. Решение принято без Верховного Совета, в обход Президиума и без внесения каких-либо изменений в смету и в бюджет.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в деятельности Верховного Совета РСФСР и его Президиума воспроизведены многие недостатки, характерные для прежних созывов. Без их исправления вряд ли возможна деятельность Верховного Совета РСФСР как эффективного, пользующегося влиянием и уважением в республике органа государственной власти…».
Сегодня я понимаю, что такая «докладная записка» ничего, кроме раздражения, вызвать не могла. Но тогда я искренне верил, что она возымеет действие, что элементарный порядок в работе Верховного Совета будет наведен. Однако шел день за днем, неделя за неделей, а положение не только не улучшалось, а даже ухудшалось…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+2
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе