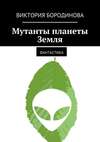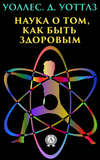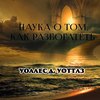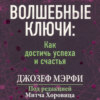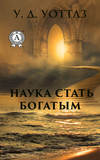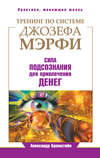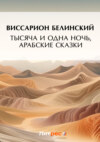Читать книгу: «Грамматические разыскания. В. А. Васильева…», страница 4
В то же время оно не только прочло Гоголя и Лермонтова, но перелистывает иногда и не столь крупных писателей, заглядывает даже в журналы. В чем же упрекают его? – Разве в том, что оно не проглатывает всего, что производит досужество российских сочинителей? – Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно и боится индижестии10… Но оно не говорит по-русски? – Правда; и это оттого, что, как сказал Пушкин,
и оттого, что он еще менее привык к разговору: местоимения его такие длинные, например, который, без которого между тем нельзя составить фразы; а его причастия, и действительные и страдательные, так долговязы, главное же – так отзываются «высоким слогом»; его фраза так пахнет книгою.
Для устранения всех этих препятствий еще очень мало сделано и высшим обществом и литературою, но «мало» не значит еще «ничего». Немного сделано, но уже делается: с одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говорит по-русски; а когда русская литература будет ежегодно производить хорошего и интересного столько же, сколько ежегодно производит французская литература, или хоть около того, – тогда наше высшее общество будет и читать и говорить по-русски, без сомнения, больше, чем по-французски. А то ведь, согласитесь сами, – две или три, много-много пять порядочных повестей в год, роман в иной год да десяток журналов, которые больше чем наполовину наполняются переводами и из которых разве только два удобны для чтения, – согласитесь, что такая литература, если только она и в самом деле – литература, немного времени возьмет у самого жадного до чтения, но хотя немного разборчивого читателя. С другой стороны, русская литература теперь на доброй дороге для того, чтоб выработать из языка книги язык общества и жизни. Она давно уже стремится к этому, – с тех пор, как заговорили о важности так называемой легкой поэзии и легкой литературы12. Перебирая наших деятелей в этом отношении, пропустим Сумарокова, Богдановича, даже Хемницера и начнем с Фонвизина, потом упомянем Крылова и Дмитриева (басни и сказки; в особенности «Модная жена»); от них перейдем к бессмертному созданию Грибоедова «Горе от ума», к «Евгению Онегину» и «Графу Нулину» Пушкина, причем упомянем о прозаических опытах Пушкина (преимущественно об «Арапе Петра Великого»). С Гоголя начинается новый период русской литературы, которая, в лице этого генияльного писателя, обратилась преимущественно к изображению русского общества. Пуристы, грамматоеды и корректоры нападают на язык Гоголя13, и, если хотите, не совсем безосновательно: его язык точно неправилен, нередко грешит против грамматики и отличается длинными периодами, которые изобилуют вставочными предложениями; но со всем тем он так живописен, так ярок и рельефен, так определителен и точен, что его недостатки, о которых мы сказали выше, скорее составляют его прелесть, нежели порок, как иногда некоторые неправильности черт или веснушки составляют прелесть прекрасного женского лица. Возьмите самый неуклюжий период Гоголя: его легко поправить, и это сумеет сделать всякий грамотей десятого разряда; но покуситься на это значило бы испортить период, лишить его оригинальности и жизни. Гоголь дал направление прозаической литературе нашего времени, как Лермонтов дал направление всей стихотворной литературе последнего времени. И направление, данное Гоголем, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые поэтому учатся и научатся хорошо говорить о простых вещах, и уже не поучать, как прежде, торжественно и, важно публику, а беседовать с нею. С другой стороны, еще с появления «Московского журнала» и «Вестника Европы» Карамзина наша журнальная литература оказала стремление объясняться с публикою не парадным языком книги, а живым языком общества. Но Карамзин не долго действовал на журнальном поприще, – и потому только с появления «Московского телеграфа» начинается период настоящей журнальной деятельности, полезной и для общества и для языка. И нельзя сказать, чтоб в этом отношении журналистика наша не сделала с тех пор значительных успехов.
Ср. в «Евгении Онегине» (глава третья, строфа XXVI):
Доныне гордый наш языкК почтовой прозе не привык.
[Закрыть]
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе