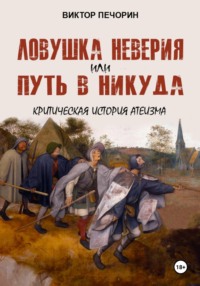Читать книгу: «Ловушка неверия или Путь в никуда. Критическая история атеизма», страница 3
Правда, высказывания Демокрита о богах непоследовательны и противоречивы.
Отрицая бессмертную природу богов и их роль в сотворении мира, Демокрит не отрицал само их существование, считая богов такими же материальными существами, состоящими из атомов, как и все прочие материальные объекты. Правда, атомы соединяются в них таким образом, что их комбинации обычно не воспринимаются нашими органами чувств. Тем не менее, боги, если захотят, могут дать о себе знать образами, которые чаще всего являются людям во сне. Эти образы могут приносить вред или пользу. Иногда они разговаривают с людьми и способны предсказывать будущее.
Секст Эмпирик приводит следующее пояснение Демокрита по этому поводу:
«Демокрит говорит, что к «людям приближаются некие идолы (образы) и из них одни благотворны, другие зловредны. Поэтому он и молился, чтобы ему попадались счастливые образы». Они – громадных размеров, чудовищны [на вид] и отличаются чрезвычайной крепостью, однако не бессмертны. Они предвещают людям будущее своим видом и звуками, которые они издают. Исходя от этих явлений, древние пришли к предположению, что существует бог, между тем как [на самом деле], кроме них [этих образов], не существует никакого бога, который обладал бы бессмертной природой24».
То есть «боги» Демокрита представляют собой нечто вроде бесплотных призраков, которые только при определенных условиях могут быть различимы человеком. Оккультисты более поздних времён назвали бы их «астральными существами».
Можно ли считать атеистом (буквально – «богоотрицателем») Демокрита, если он не отрицал существование богов, – с этим предоставим разбираться атеистам. Зато насчет героя следующей главы сомнений, вроде бы, не возникает: «атеистом», сиречь «безбожником» его прозвали его современники ещё при жизни.
Глава третья. Тринадцатый подвиг Геракла
Весной 423 года до н. э. на празднике Великих Дионисий25, впервые была представлена комедия Аристофана под названием «Облака» – едкая сатира на «учителей мудрости», софистов, с их новомодным трендом отрицать отеческую религию и традиционные ценности, выставляя напоказ безбожие, цинизм, и моральный релятивизм.
Намёк на это содержится уже в названии комедии. «Облака» – это новые божества софистов, естественные природные явления, которыми, в соответствии с модным трендом, стало принято заменять прежних богов. Подробное разъяснение дано в тексте пьесы в виде диалога между главным героем – простаком Стрепсиадом. и «учителем мудрости» Сократом.
– Объясни, заклинаю Землей, нам не бог разве Зевс Олимпийский? – спрашивает удивлённый Стрепсиад.
– Что за Зевс? – слышит он в ответ. – Перестань городить пустяки! Зевса нет.
– Да как же так? А кто же посылает дождь на землю?
– Да вот они и посылают, облака, – разъясняет Сократ, – Видал ли ты хоть раз, чтоб без помощи туч Зевс устраивал дождь? Почему бы ему не пролить дождь из безоблачного неба? Не может? Значит, это делает не Зевс, а облака.
– Ладно, а. кто тогда делает гром?
– Опять же они. До отказа наполнясь водой, и от тяжести книзу провиснув, друг на друга они набегают и давят друг друга, и взрываются с треском они, как пузырь, и гремят перекатами грома.
– Ну а кто же навстречу друг другу их гонит? Не Зевс ли, колеблющий тучи?
– Да не Зевс никакой! Это делает Вихрь.
– Ну и ну! – изумляется такому открытию Стрепсиад, – Значит, Вихрь? Я и ведать не ведал, что в отставке уж Зевс и что вместо него нынче Вихрь управляет Вселенной…
Вихрь, управляющий Вселенной, отсылает нас к учению Демокрита, согласно которому Вселенная зародилась благодаря Вихрю в Пустоте.
Аристофана упрекают за то, что главному отрицательному персонажу пьесы, беспринципному софисту, он дал имя Сократа. Из-за этого его остроумная и злободневная комедия провалилась во время первого представления на Великих Дионисиях: ей было присуждено только третье место, уступив куда более слабым произведениям Кратина и Амписия. Говорят, на членов конкурсной комиссии надавил влиятельный олигарх Алкивиад, возмущённый тем, что главным объектом насмешек в этой комедии оказался его учитель Сократ, а в образе избалованного сына Стрепсиада он заподозрил намёк на себя самого.
На самом деле персонаж комедии по имени Сократ, и реальный философ Сократ – не одно и то же. В тексте комедии, Аристофан характеризует своего персонажа как «безбожника с Мелоса».
Настоящий Сократ родился и всю жизнь прожил в Афинах, и атеистом никогда не был. Все сохранившиеся источники указывают на то, что он был очень набожным человеком, который молился восходящему солнцу и верил, что дельфийский оракул изрекает божественную мудрость от имени бога Аполлона. На суде, которому его подвергли сограждане по политическим соображениям, он яростно отрицал обвинения в атеизме.
Создав яркий пародийный образ софиста, ловко выдающего ложь за правду и эпатирующего публику пренебрежением к отечественной религии. и. дав ему узнаваемое имя популярного учителя мудрости, Аристофан имел в виду другого человека. В «безбожнике с Мелоса» афиняне без труда узнали. софиста Диагора по прозвищу «атеист», о котором пойдет речь в настоящей главе.
Диагор, сын Телеклейда (по другой версии Телеклитуса), действительно родился на острове Мелос, одном из Кикладских островов, который в 426 году до н. э., в ходе Пелопонесской войны, подвергся агрессии со стороны Афин. Тогда островитянам удалось отстоять независимость. Однако, сочтя родной остров захолустьем, где он не сможет проявить себя в должной мере, ещё в юности Диагор перебрался в материковую Элладу, где и провел большую часть своей жизни.
Прежде чем приобщиться к философии, Диагор получил известность в качестве лирического поэта. Его имя упоминается вместе с такими известными поэтами-лириками как Симонид, Пиндар и Вакхилид. Хотя поэтические произведения Диагора не сохранились, остались упоминания как минимум о трёх энкомиях26 – хвалебных песнях, из которых одну он посвятил Арианту Аргосскому, другую Никодору из Мантинеи, а третью – жителям Мантинеи27, что указывает на то, что Диагор был как- то связан с этим городом. По свидетельству римского писателя и философа Клавдия Элиана, Диагор был любовником Никодора, государственного деятеля и законодателя Мантинеи, и помогал тому в его законодательной деятельности.
Судя по упоминанию в комедии Аристофана. в 419 году до н. э. Диагор уже был известен в Афинах в качестве софиста и приверженца атомистических воззрений, из- за чего возникли предположения, что он был учеником Демокрита. В «Суде», византийском энциклопедическом словаре X века, приводится история о том, что после захвата афинянами Мелоса в 416 году до н. э. и устроенного ими геноцида тамошних жителей, Демокрит выкупил Диагора из плена за десять тысяч драхм и сделал своим учеником, однако эти сведения ничем не подтверждены и, скорее всего, имеют легендарный характер.
В соответствии с модой софистов, высмеянной Аристофаном в его комедии, Диагор был склонен объяснять все происходящие явления не волей богов, а действиями естественных сил природы.
По свидетельству Диодора Сицилийского около 415 года до н. э. афиняне обвинили Диагора в нечестии (греч. асебейа), то есть в оскорблении религии. Поводом к обвинению послужило обнародование им тайных ритуалов элевсинских мистерий, которые строжайше запрещалось разглашать непосвящённым. Публике попроще была предложена другая версия: якобы мелосец пустил деревянную статую Геркулеса на дрова чтобы приготовить себе обед, и похвалялся, что таким образом он заставил Геркулеса совершить ещё один, тринадцатый подвиг – превратить сырую репу в варёную. Если бы Геркулес, почитаемый афинянами за божество, действительно существовал, – пояснял Диагор, – он не стерпел бы такого оскорбления, и наказал бы кощунника. Но поскольку даже столь святотатственный поступок остался без последствий, значит, какие бы преступления ни совершали люди, – боги не в состоянии их за это наказать, а стало быть, никаких богов нет.
Власти Афин, конечно, смекнули, что под «преступлением» мелосец подразумевает не порубленного в щепы идола, а зверскую резню, которую годом раньше афиняне устроили на его родном Мелосе, перебив всех взрослых мужчин, а женщин и детей продав в рабство. Посчитав Диагора опасным, они решили устроить над ним показательную расправу. Нашего героя наверняка постигла бы та же участь, что и Сократа, которого афинский суд приговорил к смерти по аналогичному обвинению, если бы он не сообразил вовремя исчезнуть из города. Преследователи долго не могли успокоиться. Была объявлена награда за поимку беглеца: один талант тому, кто доставит его мёртвым, и два таланта тому, кто приведёт живым. Вознаграждение осталось невостребованным. По свидетельству того же византийского словаря, Диагору предоставил политическое убежище враждебный Афинам Коринф, где он и провёл остаток жизни.
Историки не исключают, что религия послужила в этом деле лишь предлогом, а настоящей причиной преследования Диагора стало его мелосское происхождение или его участие во внутриполитической борьбе в Афинах на стороне проигравшей олигархической партии, одного из лидеров которой, Алкивиада, тоже обвиняли в дискредитации элевсинских таинств.
Тем не менее, в трудах античных авторов можно найти записи легенд и анекдотов об этом человеке, которые позже, даже вплоть до нынешних времён, стали использоваться в качестве аргументов пользу атеизма.
Согласно Цицерону, римскому автору. I в. до н. э., Диагор первым сформулировал так называемый «эффект выжившего»28. Когда ему указали как на доказательство существования богов, – рассказывает Цицерон, – на множество выставленных в храме изображений, сделанных по обету людьми, спасшимися в кораблекрушениях, Диагор ответил, что возможно гораздо больше было тех, кому, несмотря на мольбы и обеты, боги не помогли спастись, только по понятным причинам эти несчастные не оставили своих изображений.
В другой раз, – продолжает Цицерон, – Диагор попал в сильный шторм, находясь на корабле, и матросы подумали, что навлекли на себя эту неприятность, взяв на борт такого нечестивого человека. Тогда Диагор, указав им на другие корабли. также терзаемые штормом, спросил: как вы думаете, на тех судах тоже я?
История с порубленным на дрова изваянием Геракла в качестве экспериментального доказательства бездеятельности богов, скорее всего тоже имеет характер исторического анекдота.
Был ли Диагор действительно атеистом, то есть считал ли он несуществующими любых богов, или отказывался верить в личное существование только афинских богов, их человеческий образ действий и возможность их прямого вмешательства в жизнь людей – вопрос дискуссионный. поскольку его подлинные сочинения до нас не дошли. По-видимому, он, как и многие софисты, не вёл записей, предпочитая излагать свои мысли в устной форме. Но из того, как учение «безбожника с Мелоса» передал в своей комедии Аристофан, можно предположить, что Диагор сделал следующий шаг от ограниченного атеизма Демокрита к полному атеизму, заявив, что если боги никакого участия в судьбе мира не принимают, так, может, и нет никаких богов.
Глава четвёртая. Гражданин мира
Если нет богов, управляющих нашей жизнью, если мы в этом мире только одни, как дети без родительского пригляда, то следующий логический шаг состоит в том, чтобы признать: у человека нет иного смысла жизни, кроме как успеть получить как можно больше удовольствий.
В Древней Индии к такому заключению пришла школа локаята, она же чарвака. В Древней Греции этот шаг был сделан Феодором Киренским или «Феодором – безбожником», как его называли современники.
Феодор родился столетием позже Диагора, около. 340 года до н. э., в городе Кирене, в Северной Африке, где существовала собственная философская школа, основанная Аристиппом, учеником и другом Сократа. Эта киренейская философская школа оказала влияние на мировоззрение Феодора.
Киренаики, как называют философов этой школы, односторонне истолковав этическое учение Сократа, считали высшей ценностью жизни наслаждение, понимая его по преимуществу в телесном смысле. Такая позиция получила название «гедонизма» – от древнегреческого «эдонэ» (ἡδονή) – «наслаждение, удовольствие».
В отношении религии философы киренской школы занимали скептическую позицию. Они не отрицали существование богов, но говорили, что есть ли боги на самом деле или их нет – определить невозможно, а потому бесполезны и все рассуждения об этом. Исходя из этой скептической позиции, вопросу существования богов они большого внимания не придавали, но делали из этого вывод, что религия в любой её форме не имеет смысла. Строго говоря, они не были ни агностиками, ни тем более атеистами, а скорее игнорантами – демонстрировали полное равнодушие к этому вопросу.
Другое дело – Феодор. Согласно Диогену Лаэртию, он «совершенно отвергал все мнения о богах»29, считал их человеческой выдумкой и отрыто насмехался как над богами30, так и над их служителями31. благодаря чему получил прозвище Atheus (др. – греч. ἄθεος, «безбожник»). Под этим прозвищем, помимо упоминания у Лаэртия, он фигурирует также в трудах Цицерона, Секста Эмпирика и Псевдо-Плутарха.
После Аристиппа младшего, который систематизировал учение основателя киренейской школы, своего деда, придав ему законченный вид, логика дальнейшей эволюции гедонизма закономерно привела к разделению этого учения на три ветви, наглядно проявившиеся в деятельности трёх последователей Аристиппа.
Один из них, Гегесий, пришел к пессимистическому выводу, что провозглашение стремления к удовольствиям единственной целью жизни, неизбежно приводит к разочарованию.
Мы получаем удовольствие, – рассуждал Гегесий, – удовлетворяя свои потребности. Но пока потребности не удовлетворены, это доставляет нам страдания. Страдания от неудовлетворенности могут длиться долго, тогда как процесс удовлетворения скоротечен. Средства удовлетворения потребностей ограничены, а потому достаются с трудом и доступны лишь немногим, доставляя страдания проигравшим. Но и тем немногим это не приносит счастья, поскольку то, что дается легко, большого удовольствия не доставляет.
Таким образом, заключал Гегесий, удовольствия неотделимы от страданий. Страдания предшествуют удовольствиям, сопровождают их и являются их последствиями. Следовательно, провозглашенная гедонизмом цель обманчива и недостижима.
Другой ученик Аристиппа, Анникерид, видел выход из этого тупика в более широком понимании удовольствия. Он говорил, что удовольствие воспринимается нами не непосредственно, а как некий акт сознания. Стало быть, нужно понимать удовольствие не как чувственно-телесное состояние, а как состояния духа и разума. Признание духовных и интеллектуальных наслаждений расширяет круг возможных удовольствий. Человеческий разум способен испытывать удовольствие не только от краткого мига телесного наслаждения, но и от его предвкушения, которое может иметь гораздо большую длительность. При определенных обстоятельствах даже отказ от телесного наслаждения может доставлять удовольствие. Причем духовные наслаждения, в отличие от телесных, не скоротечны. И удовлетворение духовных потребностей не предполагает потребления материальных ресурсов, а значит, не приходится за них конкурировать и испытывать страдание от отсутствия доступа к ним. Учение Анникерида, в отличие от Гегесия, было оптимистичным.
Феодор, который по одной версии был учеником Аристиппа младшего, а по другой – Анникерида, под влиянием своих атеистических убеждений предложил третий вариант дальнейшего развития киренейской философии, доведя учение о наслаждении до крайности.
Если наслаждение – это абсолютное и единственное «благо», значит всё, что препятствует наслаждению, есть. безусловное «зло», с которым следует вести бескомпромиссную борьбу. Первым делом, по мнению Феодора, следовало устранить религию и веру в существование богов.
В отличие от других киренаиков, индифферентных к религии, Феодор занял по отношению к ней непримиримую позицию. Почитание несуществующих богов – считал он, – занятие не только бессмысленное, но и вредное, идущее вразрез с благом людей. Требуя совершения обременительных обрядов, налагая на человека запреты и ограничения, объявляя греховными его естественные стремления, религия препятствует человеку получать удовольствие, а потому должна быть объявлена злом и совершенно изгнана из. человеческой жизни.
Если Сократ, Демокрит и Диагор отвергали и высмеивали простонародные представления о богах, называя их суевериями, то Феодор, по свидетельству Цицерона, отрицал не только суеверия, но и любые, даже самые благочестивые проявления религии32.
Правда он не только религию отвергал, но и науку, считая, что в науках и логике пользы нет, и что «достаточно постичь смысл добра и зла, чтобы говорить хорошо, не ведать суеверий, и быть свободным от страха смерти»33.
Ничто не должно препятствовать получению удовольствий, ничто не должно сковывать, – ни логика, ни вера в богов, ни законы государства, ни общественное мнение, ни обычаи, ни правила морали и нравственности.
В античном мире к числу несомненных добродетелей относились любовь к отечеству, готовность жертвовать ради него даже самой жизнью. твердость в клятве, дружба, правдивость, а предательство, измена, клятвопреступление, лжесвидетельство категорически порицались.
В качестве примера самоотверженного патриотизма древние авторы приводили подвиг римского юноши по имени Гай34 из патрицианского рода Муциев, который, будучи схвачен осадившими Рим врагами, на их глазах сжег свою правую руку на горящем жертвеннике «будто ничего не чувствуя». Поступок юного римлянина так поразил и напугал противников, что они отпустили его, и, сняв осаду, покинули римские земли.
Противоположный пример – предательство Эфиальта, который за вознаграждение указал враждебным персам путь в обход Фермопильского ущелья, что позволило персам перебить всех воинов, защищавших Фермопильский проход, включая спартанского царя Леонида, и вторгнуться в Грецию. Все греки. презирали и ненавидели предателя Эфиальта. Его имя стало нарицательным. Этим именем даже назвали мифологического демона. виновника ночных кошмаров.
По какой причине общественное сознание. порицало предателей и превозносило самоотверженных героев, понятно: от действий тех и других зависела судьба всего народа. Сколько городов не было бы разрушено и сколько людей остались бы живы, если бы не предательство Эфиальта? Сколько граждан осажденного Рима, включая женщин и детей, спас от голода, болезней и вражеских стрел Гай Муций, пожертвовавший своей правой рукой?
Однако для Феодора атеиста всё это не имело значения. На его шкале ценностей было только две отметки: удовольствие и страдание. Все остальные явления, не подпадающие под эти понятия, он считал этически нейтральными. Предательство, патриотизм, лжесвидетельство, прелюбодеяние – всё это само по себе не хорошо и не плохо. Если совершение этих поступков приносит вам удовольствие – их можно оценивать как добро, а если заставляет страдать – это зло.
С точки зрения Феодора, поступок Гая Муция не достоин похвалы. Парень причинил себе дикое страдание, сжигая собственную плоть, и остался без правой руки, из-за чего получил прозвище Сцевола (лат. Scaevŏla) – «левша». А вот Эфиальт наверняка получил удовольствие, тратя деньги, полученные за свое предательство, на вино и девочек. Мудрый человек, по Феодору, должен поступать как Эфиальт, а не как Гай Сцевола.
А как же патриотизм? Любовь к своей стране, к своему городу? А это всё тоже значения не имеет, – учил Феодор. Для таких понятий на его шкале ценностей места не было. Он первым провозгласил космополитическую формулу: весь мир моя страна, я – гражданин мира. Моя родина там, где мне хорошо, где я могу получать удовольствие. А до всего остального мне нет дела.
Одной из безусловных ценностей античные авторы считали дружбу.
«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы, – утверждал Цицерон; – исключить из жизни дружбу – все равно что лишить мир солнечного света… Без истинной дружбы жизнь – ничто».
«Друг – это другое я» – изрек один из величайших мудрецов древности Зенон Элейский.
«Ничто, кроме самих небес, не лучше друга, который действительно друг» – соглашается с ними Тит Макций Плавт.
«Нам помогает не столько помощь наших друзей, сколько уверенность в их помощи», – уточняет Эпикур, последователь киренейской школы.
Эти высказывания, сохранившиеся в истории, показывают, насколько ценной людям античности представлялась дружба.
А вот у Феодора атеиста и здесь было своё особое мнение. Мудрец, – говорил он, – не имеет друзей и рассматривает дружбу лишь как взаимную выгоду, а сам по себе ни в ком не нуждается.
Довольно циничный подход, не правда ли?
В дальнейшем развитии мысль Феодора принимает откровенно аморальный характер.
Законам надо повиноваться, только если это тебе выгодно. Мораль – всего лишь средство для «обуздания толпы», а следовать надо своим эгоцентрическим побуждениям.
Если единственное благо – это наслаждение, а единственное зло – страдание, – говорит Феодор, – не следует считать злом ни кражу, ни святотатство, ни клятвопреступление, ни измену. Нет ничего постыдного в воровстве, прелюбодеянии или святотатстве. Можно делать что угодно: красть, прелюбодействовать, святотатствовать, если к этому имеется природная склонность35, игнорируя при этом общественное мнение, которое сформировалось с согласия глупцов. Мудрый человек избегает таких поступков не потому, что считает их дурными, а потому что не желает быть наказанным, то есть чтобы избежать страдания. Имей же он гарантию безнаказанности, он, не колеблясь, пошел бы на любое «преступление», если бы его совершение сулило ему наслаждение.
Этим оправданием аморальности наш герой пробивает последнее дно, доведя атеизм. до его логического завершения.
Лаконичную, но при этом исчерпывающую характеристику учению Феодора можно найти у Епифания Кипрского, который указывает на. прямую связь между безбожием Феодора и его аморализмом:
«Феодор, прозванный атеистом, утверждал, что слова о Боге – пустословие, ибо он думал, что божества нет, – и ради этого убеждал всех красть, нарушать клятву, грабить и не умирать за Отечество; он говорил, что одно для всех отечество – мир; говорил, что только счастливый хорош, но что несчастного должно избегать, хотя бы он был и мудрец, и что неразумного и непокорного должно считать богачом»36.
Современники восприняли эту теорию по- разному.
«Учение», оправдывающее совершение поступков, осуждаемых обществом и религией и позволяющее ради собственного удовольствия не считаться с интересами других, нашло немало приверженцев, из которых в скором времени. сформировалась целая секта, названная «феодореи», по имени их духовного лидера. Доктрины этой секты Феодор сформулировал в ряде написанных им книг, в которых оправдывал и обосновывал своё учение. В том числе он написал книгу под названием «О богах» (др. – греч. περὶ Θεῶν), в которой отрицал существование богов. и высмеивал религиозную веру.
Несмотря на свою непримиримость по отношению к богам, Феодор, по свидетельству Диогена Лаэртия, не возражал, чтобы его самого называли… Богом. Не исключено, что Богом своего лидера стали называть члены его секты, предположив, что отвергнутые им «боги, которые всё запрещают» (др. – греч. ο θεός απαγορεύει) – это ненастоящие боги, а настоящий Бог, тот, кто дарует свободу делать всё, что хочешь (др. – греч. θεός δωρητής), то есть сам Феодор, имя которого можно перевести как «Бог дарующий».
У здоровой части общества деятельность секты феодореев и учение их лидера, оправдывающее асоциальное поведение и попирающее традиционные ценности, вызвало отвращение и отторжение, что послужило поводом к изгнанию проповедника аморализма из Кирены.
Изгнанный из родного города Феодор нашел пристанище в Афинах, где продолжал проповедовать свое учение. Однако афиняне, усмотрев в деятельности софистов-атеистов и поддерживающей их аристократической партии угрозу традиционным ценностям и демократическим институтам, предъявили ему обвинение в нечестии37, такое же, как Диагору и Сократу. Избежать суда Феодору помог сочувствующий ему Деметрий Фалерский, бывший в ту пору диктатором Афин. Правда, через некоторое время и сам Деметрий, лишившись поддержки афинян, вынужден был бежать в Египет (ок. 297 года до н. э.), где его приютил тамошний правитель Птолемей I Сотер. Не дожидаясь, пока разгневанные афиняне привлекут его к суду, наш герой последовал за своим покровителем. Но ничто не вечно под луной. После смерти Птолемея I (это случилось в 283 или 282 году до н. э. ) отставной афинский диктатор и в Египте оказался не в чести. Новый правитель страны отправил его в ссылку, в деревню, где тот вскоре и умер. Атеисту по прозвищу «Бог» ничего не оставалось, как искать себе другого покровителя. И он нашел его в лице авантюриста Магаса, который сначала был египетским наместником Кирены, а потом провозгласил себя царем этого города. Покровительство самопровозглашенного царя позволило. Феодору провести остаток жизни в родном городе. После его кончины секта феодореев разбежалась, оставив по себе у граждан Кирены недобрую память.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе