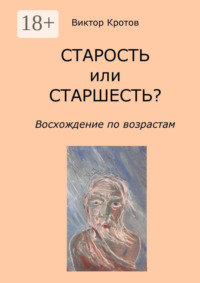Читать книгу: «СТАРОСТЬ или СТАРШЕСТЬ? Восхождение по возрастам», страница 3
Беспомощность и помощь
Болезни старости ослабляют нашу привязанность к жизни по мере того, как мы приближаемся к смерти.
Джонатан Свифт, 1667—1745
Существует соблазн думать, что до старости не доживёшь, а значит и готовиться к ней нечего, да и вообще думать о ней. Вкус такого соблазна и мне самому знаком по юношеским годам. Но стоит иметь в виду, что с такой позицией мы ухудшаем качество не только будущей старшести. Наше воздействие шире. Своим невниманием к старшести второй половины жизни ухудшаешь общее состояние окружающего его социума. Ведь всякое наше отношение к чему-то воздействует и на тех, кто рядом с нами. своей
Один из страхов, связанных с представлением о старости и мешающей думать о ней заранее, – это страх стать беспомощным, зависимым от окружающих. Но давайте посмотрим на это с точки зрения старшести. Чтобы лучше наладить внутреннюю оптику и привыкнуть к реальному взгляду на беспомощность.
(Старец:) – Каждый, каждый во многом беспомощен. Потому что не всемогущ.
Смысл беспомощности не в лишении многих возможностей и соответствующих сетованиях на свою плачевную ситуацию. Смысл в переходе от прежних возможностей, ставших невозможными, к новым.
Беспомощность во многом – не означает беспомощность во всём. И очень важное дело – бороться за эту разницу между «во многом» и «во всём». В этой борьбе можно обнаружить свои особые возможности, новые для тебя и говорящие о чём-то глубинном.
Почитайте книги Ника Вуйчича – человека без рук и ног, живущего интереснейшей жизнью… Прочтите «Скафандр и бабочка» Жана-Доминика Боби, у которого после аварии действовал только один глаз из всех членов тела, но он сумел стать автором этой удивительной книги: самого значительного своего достижения…
Будучи беспомощным, можно сосредотачиваться на том, чего ты лишён – или, напротив, на том, на что ты можешь быть способен. Если говорить о возрастном восхождении, здесь мы встречаемся с очередным различием между старостью и старшестью.
Существуют также и вспомогательные обстоятельства, смягчающие возрастную беспомощность. Например, спутником реальной беспомощности становится определённая примирённость с тем, что невозможно быть настолько активным, как это происходило раньше, как хотелось бы и сейчас. Кроме того, меняется внутреннее восприятие происходящего. Психические механизмы, не очень зависящие от нас, берут на себя роль амортизаторов, примиряя человека с вынужденным изменением обстоятельств.
Но лучше бы нашей задачей, иногда даже вопреки этим амортизаторам, оставалось постоянное нащупывание грани, отделяющей невозможное для нас в теперешнем состоянии – от всё-таки возможного. За возможное необходимо бороться, не скатываясь в горемычное отчаяние или в покорную примирённость с происходящим. И уж точно не стоит подыгрывать своей беспомощности, усиливая её страдальческой позой. Там, где старость не прочь использовать беспомощность как предлог для прекращения борьбы, старшесть воспринимает возникшие условия как суровый вызов к преодолению.
В то же время не забудем, что беспомощность – это не только внутреннее испытание для тебя, но ещё и внешнее, относящееся к другим: испытание для тех, кто способен тебе помочь. Тебе, пожалуй, даже дана привилегия – быть непритворным источником возможности заботиться о тебе. Быть тем , – особая работа, уважительная к задаче того, кто помогает, и требующая творческого подхода. человеком, который нуждается в помощи
Уважение состоит, прежде всего, в том, чтобы стремиться к предельной реализации тех возможностей, которые остались в твоём распоряжении. Или могут быть сформированы твоими усилиями. И лишь затем – с благодарностью принимать помощь.
Случается и так, что человек с возрастом оказывается инвалидом. Тогда есть чему поучиться у тех, кто оказался инвалидом с детства или в результате несчастного случая. Ведь инвалидность – это невалидность для каких-то возможностей, но всё-таки валидность для многого другого. Это индивидуальная тема ежедневного преодоления.
Мне довелось много лет общаться с инвалидами в реабилитационных лагерях: с детьми и с уже выросшими. Эти люди преодоления многому меня научили. Впрочем, как и те Старшие, которые, встретившись с инвалидностью в пожилом возрасте, не признали её власть над собой.
В любом возрасте можно быть человеком преодоления – вместо того, чтобы в тяжёлой ситуации превратиться в несчастного страдальца, вызывающего только сочувствие. На это испытание нужно быть внутренне готовым к тому неизвестному моменту, когда оно настанет.
Время физической беспомощности может оказаться очень полезным для осмысливания того, о чём не выбрался подумать раньше. Оно может стать простором для усиления деятельности души. Может стать основой для того, чтобы принять урок беспомощности и уроки оказанной тебе помощи, понять их и усвоить
(Старец:) – Не забудем, что помощь бывает разная. Это или дар, или товар.
(ВК:) – Да, разная может быть помощь. И купленная за деньги – как товар. И положенная или заслуженная, то есть такая, за которую платит общество. Но значительнее всего – помощь благодатная, идущая от сердца, или хотя бы продиктованная чувством долга. Впрочем, не всегда это можно разделить, так что всякая помощь заслуживает благодарности.
(Старец:) – Что ж, принять дар помощи тоже нужно уметь.
Слабоумие – или отрешённость?
Но для души ещё страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья…
Фёдор Тютчев, 1803—1873
Когда мы говорим про старческое выживание из ума, про слабоумие, деменцию, мы видим здесь лишь удручающие стороны. Но мы слишком слабо представляем себе это явление как процесс изменения внутреннего мира.
Скорее всего, такое «выживание из ума» необходимо конкретному человеку, чтобы вжиться в иную, не известную нам до поры до времени реальность. Его энергия перераспределяется, в ущерб привычному земному мышлению, для подготовки к будущему существованию, ожидающего его, как и всех нас, в Иномирье, за смертным переходом.
Когда человек в преклонном возрасте становится беспомощным и забывчивым, нуждается в уходе, подобно ребёнку, или даже кажется порою невменяемым, это не означает, что душа его деградирует. Смысл таких метаморфоз – именно в переносе центра внимания с житейской сферы на незримую и недоступную для оценки извне. Человек кажется впавшим в детство или в маразм в силу ослабления телесно-мозговых свойств – но необходимо помнить об уважении к Тайне. Помнить о том, что все внешние житейские проблемы и трудности могут быть непростым испытанием, «скорбями души» перед грядущим смертным переходом, близок он или далёк.
Диагноз «старческая деменция» говорит – да, об ослаблении ума, чтобы не такими тугими были его путы, чтобы могла по-новому вздохнуть душа.
Нарушаются возможности выражать себя?.. Да, за счёт усиления трудно выразимых и невыразимых переживаний.
Нарушается привычное бытовое поведение?.. Да, потому что оно уже не имеет особого значения в сравнении с предстоящим.
Всё существеннее проблемы с памятью?.. Это знак перераспределения внимания с земных ориентиров на другие – ещё очень смутные, неясные и требующие освоения.
То, что можно называть слабоумием, связано с переходом сознания в область Тайны, с постепенным обрывом связей человека с обыденностью. Этот обрыв связей заметен нам, сохранившим пока свои привязанности к земному. Но как заметить перенос внутреннего внимания в другую сферу, относящуюся к глубинным восприятиям?.. Отрешённость от привычного бросается в глаза тем, кто снаружи. Во внутреннем мире она, скорее всего, подобна настойчивому вихрю, уносящему оттуда, где ты пока есть, туда, где тебе предстоит быть.
«Это всё недоказуемо!» – воскликнет скептик, и я с ним соглашусь. Но доказуемость не единственный способ улавливать смысл явлений.
«Это всё пахнет религиозной мистикой», – скажет атеист, умудрённый усердным отрицанием Тайны. Но умудрённость не равнозначна мудрости, и Тайна никуда не исчезнет от усердия в её отрицании.
Надеюсь на читателя восприимчивого, чувствующего осмысленность мироустройства. Такой читатель может понять, почему мне хочется обновить нашу привычную лексику. Почему хочется увидеть различие между старостью и старшестью. Почему за нарастающим беспамятством и кажущимся слабоумием хочется разглядеть отрешённость от земных забот и обязанностей, вызванную необходимостью вхождения в новую, иную реальность. Может быть, всё устроено ещё тоньше и таинственнее, но уловить даже общие контуры осмысленности жизни в целом – большое дело.
(Старец:) – Тайна природы слабоумия и беспамятства ещё и в том, что они вовсе не обязательны для человека. Многое зависит от того, чем сумел обзавестись на жизненном пути.
Одиночество возрастного подъёма
Нормальный человек – тот, кто, живя в своём мире, понимает, что их, миров, бесчисленное множество, легко, однако, сводимое к двум – его миру и всем прочим.
Александр Пятигорский, 1929—2009
Если бы моей целью было озадачивать читателя парадоксами, я бы сказал, что с одиночеством только две проблемы. Одна в том, что его не существует, вторая – что оно неизбежно. Но такой цели у меня нет. Поэтому скажу помягче.
Возраст способствует нарастанию одиночества – уже в силу ухода из жизни близких людей. Но не только. Оно усиливается и с развитием личности, её своеобразия. То, что когда-то казалось общим, индивидуализируется и всё больше различается от человека к человеку. Кроме того, возникают и накапливаются различные житейские обстоятельства, которые могут тоже разделять сплетённые нити судьбы или препятствовать возникновению новых.
Идти по широкой ровной дороге можно рядом с теми, кто тебе близок. Но путь наверх понемногу становится всё уже. Раньше или позже начинаешь понимать, что идёшь в одиночестве, даже если близкие люди неподалёку. К тому же «неподалёку» всё больше относится к физической стороне жизни. Душе предстоит самой подниматься к вершине своего земного существования.
Вместе с тем вопрос в том, что же считать одиночеством, – если каждый из нас буквально наполнен человечеством и теми людьми, с кем взаимодействовал хоть немного (память о человеке – тоже вид взаимодействия с ним). Вот почему быть одиноким в абсолютном смысле человек не может. Одиночество – это скорее внутреннее состояние сознания, работающего на разобщённость с окружающими. Причём работающего уже достаточно давно и достигшее определённых «успехов» в деле самоизоляции.
А раз дело в состоянии сознания – можно заранее укреплять в нём иммунитет против отчуждённости от других людей. Можно развивать в себе чувство родства с человечеством, каким бы это человечество ни было. Чувство родства, которое будет способствовать улучшению этого самого нашего человечества.
Может быть, самое лучшее средство от одиночества – учиться полноценно сосуществовать с любым человеком, который рядом с тобой, и помнить о каждом, кто близок. Учиться, потому что не всегда это легко и просто, не всегда получается само собой.
Впрочем, просто сосуществования маловато. Тяготящее одиночество сигнализирует о том, что человеку не хватает какого-то важного элемента в отношениях с людьми. Причиной часто бывает привычка отсчитывать всякие отношения от себя самого, от своих желаний и потребностей. Человек, который внимателен к своим возможностям помочь другому – тому, чья жизненная ситуация особенно трудна, – обладает особой связью с людьми. Быть нужным, умея ничего не требовать взамен, – это охранная грамота от одиночества.
Верующему знакомо и ещё одно обстоятельство, благодаря которому одиночество невозможно. Это присутствие в твоей жизни Высшего. Но здесь не буду углубляться в эту тему, отошлю к книгам о дружбе с жизнью (особенно «Пространства Тайны»), «Человек среди религий» и «Моя христианская надежда» (см. список в главе-завершении).
Не всегда одиночество бывает мрачным и опустошённым. Оно может быть и светлым, творческим, созидающим. И если стремиться придать ему такое качество, оно может оказаться даже совсем не одиночеством.
(Старец:) – Должен сказать ещё об одном инструменте преодоления одиночества: это фантазия. Я сам тому пример. Ведь автор придумал меня, чтобы не в одиночестве сочинять эту книгу. И меня это вполне устраивает, поскольку речь идёт о близкой мне теме.
Однако есть особые факторы одиночества, связанные с уходом из земной жизни того, кто незаменим для тебя. Но, вбирая воздействие другого человека, можно либо усиливать свою психологическую зависимость от него, либо расширять свою духовную самостоятельность, опираясь на опыт его участия в своей жизни.
Яснее всего это для верующего, которого смерть близких – как элемент жизни – приучает к расставаниям и даёт возможность учиться внутреннему душевному и духовному нерасставанию. Это представление о нерасставании тоже становится частью снаряжения для возрастного подъёма.
В некотором смысле, несёт в себе и своё одиночество, и свой круг общения. Реальное общение становится для него лишь пополнением запасов. Даже если старший очень общителен, всё равно он с возрастом постепенно уходит в одиночество. Дело тут не в степени расположенности к общению, а в нарастающем отстранении своего внутреннего мира от других внутренних миров. От миров, всё более других – по возрасту, по исходной фокусировке, по навыкам распределения внимания… И самому старшему это нужно – чаще побыть в себе, ближе к своей светящей сущности… человек старший
Можно даже сказать, что одиночество является исходным состоянием человеческой души. Но оно должно быть не отталкивающим других состоянием, а впитывающим. Тогда тебя будет обогащать и появление другого человека в твоей судьбе, и взаимодействие с ним, и расставание. Всё это будет питать внутренней энергией, а не забирать её. И тогда – снова повторю – одиночества как такового не существует.
Насколько таинственным и тонким может быть баланс отношений Старшего со своей памятью, мы с женой видим, общаясь с нашим другом семьи Борисом Ивановичем Сударовым. Порою его юмор и сдержанность неотличимо переплетаются с чем-то забытым или с чем-то вытесненным в подсознание. Живой интерес к происходящему чередуется с погружением в нечто своё, особое, одинокое и уводящее его к глубинам, недоступным стороннему восприятию. Рад, что могу отослать читателя к проникновенной книге о нём и общении с ним. Это книга Марии Романушко «Борис Сударов: человек, прошедший через эпицентр атомного взрыва». Наше общение продолжается, будет продолжение и у книги. Недавно мы отметили девяносто первую годовщину Бориса Ивановича…
От обычного к чудесному
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн, 1879—1955
Никакой мистики. Речь о великом чуде самой жизни. Оно состоит из множества отдельных чудес, связанных друг с другом, – лишь бы нам хватало приметчивости к ним. Чудесным образом живёт природа… С невероятной тонкостью устроен всякий живой организм… Конечно, нарушение нормальной жизни любого существа вызывает проблемы, но куда удивительнее сама его необычная «нормальная жизнь», полная тех внутренних соответствий, без которых она не могла бы существовать.
Здесь и определяется фокусировка нашего внимания. На что оно настроено: на спокойное (чтобы не сказать равнодушное) восприятие нормального хода жизни среди благоприятных обстоятельств – как должного? Или на осознание чудесного содержания этого «нормального хода жизни»?
Склоняясь к первому, мы уподобляемся капризному ребёнку, который не столько радуется тому, что у него есть, сколько огорчается (или даже негодует) на отклонения в досадную для него сторону.
Другое дело – восхищаясь самой возможностью той жизни, в которую погружён, быть готовым к любому изменению обстоятельств и к тому, чтобы достойно с ними взаимодействовать. Тогда вопрос уже в том, как именно взаимодействовать с условиями, в которых жизнь продолжается иначе, чем раньше.
Капризное недовольство сигналит о старческом отношении к своей судьбе. Готовность сотрудничать с ней – о старшести.
Для восприятия чуда жизни, необходимо, чтобы наше восприятие не оставалось в рамках рационально-выстраивающего мышления. Развивать улавливающее мышление, способность прикасаться к Тайне – это необходимая часть возрастной работы.
Житейский материализм не должен противоречить идеализму души. Конечно, у материализма имеется своя мифология и своя мораль. Но с возрастом они всё менее убедительны.
Атеизм, активно отрицающий смысл чувства веры, осуществляет самоизоляцию человека от Тайны. Чем старше, тем такая изоляция болезненнее для души. Ведь чувство веры прокладывает путь улавливающему мышлению без специальных интеллектуальных ухищрений.
Что касается религии, считается иногда, что с возрастом, слабея, человек склоняется к ней как к опоре, необходимой ему по его слабости. Но гораздо весомее то, что с возрастом усиливается понимание себя, происходит освобождение от многих иллюзий и от соблазнов самости. Это куда более сильные предпосылки для веры в Высшее – то есть для чувства, которое улавливает смысл чудес и ведёт к религиозному восприятию жизни.
(Старец:) – Да, старение – это неизбежность, ведущая либо к чуткости на чудеса, либо к отгораживанию от них.
Старший может прикоснуться к твоей жизни всего лишь эпизодом общения, но запустить этим процесс изменения, который много лет будет делать свою работу. Таким мне вспоминается долгий ночной разговор в плацкартном вагоне поезда, идущего в Потьму. Разговор со священником Илиёй Галкиным (1897—1982) из далёкого пензенского села Новые Пичуры. Впервые со мной, полемичным и самоуверенным юношей из советской атеистической среды, долго и всерьёз беседовал глубоко верующий человек. С него и началось моё позднее христианское развитие: со встречи в поезде, нескольких писем и его молитв за меня. И только много лет спустя я понял, что эта встреча была чудом.
Тормозящие ускорители подъёма
Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблём или конём, то есть направляют их туда, куда нужно и полезно.
Аристотель, 384—322 до н.э.
А существует ли способ облегчить и даже ускорить восхождение по возрастам? Увы, существует. Даже много разнообразных способов…
Увы – потому что эти способы в каком-то смысле ускоряют проживание земной жизни, но за счёт того, что тормозят процесс становления человеческой личности.
Пользуясь таким способом, человек движется к старости как бы в экскурсионном автобусе, предаваясь дрёме или иному пассажирскому времяпровождению. Вехи возраста мелькают за окном, не позволяя как следует сосредоточить внимание на очередном отрезке пути. Мы лихо проскакиваем события собственной жизни и удивлённо озираемся, когда нас высаживают, объявляя: «Всё, приехали. Старость. Дальше – пешком».
(Старец:) – Добираться к вершине шаг за шагом, осваивая каждый очередной уступ возраста, становится всё интереснее. Это даёт возможность и оглядеться вокруг, и наметить очередной шаг.
Существует немало способов ускорить и облегчить подъём по возрасту. Но – за счёт снижения полноценности этого подъёма.
Ускорение может быть таким, что создаётся то иллюзорное ощущение движение вниз, которое искажает само понимание возраста. Вместо свершений и событий всё быстрее мелькают дни и годы. Хотя в реальности совершённое тобой должно не мелькать мимо, а поднимать к новому этапу судьбы. И события, в которых действительно участвуешь, тоже обозначают твой восходящий маршрут.
Не очень приятно приводить примеры таких облегчающих ускорителей, которые вместе с тем противодействуют смыслу человеческого развития. О них и так все знают: ведь человечество издавна примеривает к себе всякие облегчающие возможности, примиряясь, к сожалению, с их обессмысливающим характером. Так что лишь перечислю.
Это алкоголизм и прочая наркомания разных степеней (иногда даже таких, по поводу которых не принято тревожиться).
Это трудоголизм в его патологических формах (отличных от трудолюбия).
Это бездеятельность: отсутствие заботы о поисках своего призвания или ответственности за его осуществление.
Ещё – хлопотливая текучка, оправданная на житейском, но не на духовном уровне. Она может быть очень милой и приносить пользу окружающим, но при этом убаюкивать душу покачиванием на зыби бескрайних забот об удобстве жизни. Забот, которые не оставляют места для чего-то гораздо более важного.
Стоит добавить и привычную эйфорию мечтательных ожиданий. Она может быть естественной в начале жизни, но чем дальше по возрасту, тем больше мешает развитию. Это было бы похоже на бездеятельность, но нет, такая бесплодная мечтательность вполне совместима с «нормальной жизнью», загруженной скучной работой. Было бы похоже на текучку, но укачивающей силой тут служат вовсе не хлопоты, а бесконечное «хорошо было бы…» без реальной тяги к поступкам и настойчивости в осуществлении.
А глубинные причины этих психических механизмов кроются, по-видимому, в том традиционном иллюзорном восприятии возраста, о котором уже сказано.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе