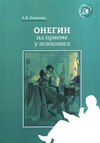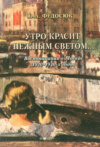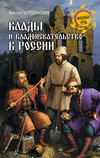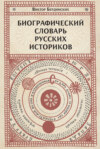Читать книгу: «Рассказы о русской культуре»
© Бердинских В. А., 2023
© Издательство «Редкая птица», 2023
Раздел 1
Рассказы о русской книге. Пространство книги и человек
О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!
Николай Гумилёв
Венок Книге (вместо вступления)
В XX веке книга вошла в большинство домов России, хотя бы в виде учебников. Связано это с модернизационным рывком – от России лапотной к России фабричной и городской. Пришла и тотальная грамотность советской эпохи, хотя земства свой рывок в эту сторону начали задолго до 1917 года. Мало обращают внимания на то, что качество образования, литературы и книги существенно снизилось по многим параметрам. Пришли массовая книга и массовый читатель (не штучный).
Такая примитивизация оказалась неизбежна, когда разбуженная всеобщим образованием страна встала к котлованам и станкам. Но все же рабочие и колхозники в основное ядро читателей страны Советов не входили. А массовое высшее образование готовило многомиллионную рабоче-крестьянскую интеллигенцию: учителей, врачей, инженеров, техников… – для всей страны. Здесь иногда иные классики (А. И. Солженицын) вставляют термин «образованщина», имея в виду людей, поверхностно усвоивших начатки городской культуры, неосознанно тоскующих по отточенной веками крестьянской традиции жизни.
В реалиях эпохи – это как преодоление пропасти в два прыжка. Получается очень плохо. От старого берега отстали – к новому берегу не пристали. Не проварились в городской культуре нужного срока (поколения хотя бы два – три). Крестьянами быть перестали, в горожан не превратились. Не с этим ли связан такой невероятный разгул массового мужского пьянства и алкоголизма в послевоенной стране? Иногда суровые или просто злые исследователи для этой категории читателей вставляют термин – «маргинальная, промежуточная, ублюдочная культура». Не будем за ними следовать.
Будем искать позитив. Как говорится: кто празднику рад – тот до свету пьян. Превращение России из деревенской в городскую державу – в таких критичных коллизиях XX века, как у нас, и в такой сжатый срок – это социальный феномен. Советские читатели и советские писатели… В данной книге мы попробуем порассуждать и об этом.
Но сейчас перенесемся в начало XXI века. С книгой произошло остранение – превращение привычных вещей в странные, непонятные и допотопные. Бумажная книга умирает, уходит от нас в прошлое, все сильнее маргинализуется. И это, видимо, неизбежно. Компьютеры, ноутбуки, электронные книги – легко и просто заменяют ее. Особенно у молодых поколений. В этой неизбывной трагедии книжников есть светлая сторона. Значит, можно подводить итоги целой эпохи. Они (итоги) вылазят на поверхность и колют наш замыленный взгляд.
Таким образом, и возникла эта потребность – принести на памятник русской Книге не букет, а венок. Мы, действительно, живем в переломную эпоху, когда бумажные книги еще с нами, но мы уже оплакиваем их как приговоренных… При этом электронная книга не только механически вытесняет бумажную книгу, но и изменяет сущностную природу чтения. Реально электронка – это уже и не книга вовсе, а предмет масскульта, как айфон, например.
Так вспомянем же старые добрые времена в России XVIIIXX веков, когда каждая книга жила в обществе как принцесса – предмет поклонения или обожания, восторга или негодования, цензуры или коллекционерства. Лист перевернут, эпоха закончилась. Бросим же луч нашего слабого фонарика на громады сокровищ прошлого, погрузившихся в кромешную мглу. Читатели ушли из библиотек, книги ушли из домов, пыльная бумажная кровь ушла из жил книжного мира. Как сказал последний русский классик-поэт: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины…» Порой – невероятно прекрасные!
10 поколений русских читателей XVIII–XX веков
Нам в XXI веке кажется, что книга в России была всегда. Советская массовая книга XX века высится за нашей спиной как Эверест, и уже невозможно разглядеть, что там было до нее. А там жили 10 поколений русских читателей и 10 поколений русских писателей. Как минимум… ведь иногда поколение пробегало свой путь быстрее, чем за стандартные 25 лет.
А ведь, по сути дела, книга в России – явление совсем недавнее и ненадежное. Это была какая-то эфемерность, пыль на ветру, морок и редкость для избранных. Как и грамотность русских людей вообще. 10 поколений русских читателей – это ведь совсем немного! Мало-мальски массовое книгоиздание начинается у нас даже не с Петра I, вставшего у истоков всей нашей современной повседневной культуры и европеизации (одежда, газета, кофе, здания, работа и служба…), а с Николая Новикова во второй уже половине XVIII века, начавшего массово торговать по всей империи книгами, как холстами, горшками или водкой: распивочно и навынос…
Ежели на каждое поколение читателей мы условно положим по 20–25 лет, то эпоха матушки Екатерины II окажется на расстоянии вытянутой руки, и в этой самой руке книга согреется человеческим теплом. Читатель при этом – как маяк в своем поколении для предыдущих эпох и последующих – освещает путь в неизвестно куда.
Оговорюсь сразу – не будем брать церковную или учебную книгу. Притом книга – не синоним культуры. Так что на богатейшую русскую культуру последнего тысячелетия я никоим образом не хочу бросить тень. Основная масса крестьянского населения России всегда до XX века обладала своей глубоко оригинальной и самостоятельной культурой – до которой нам сейчас во многих отношениях, как до Луны, вообще не дотянуться.
И все же вновь сосредоточимся на книге – светской книге. Обойдем всяческие псалтыри, арифметики, лубки стороной. Письменная культура основана на грамотности. Чтобы читать – надо научиться грамоте. Петр I насаждал ее свирепо среди дворян, вплоть до запрета жениться неграмотному. Но дело шло туго. Вспомним, что светлейший князь Меншиков читать и писать вовсе не умел. С трудом подписывал свою фамилию – как зомби, не понимая букв. Обучение грамоте стало первоначально тяжкой повинностью для русского дворянства, из коего и сформировалось во второй половине XVIII века первое поколение русских читателей.
Жизнь и приключения Андрея Болотова
Читатель XVIII века
Маяком этого поколения (идеальным просветителем) я назвал бы поразительного человека того времени – Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833). Это был великий читатель! Конечно, и писатель и помолог и садовод и много чего еще. Но прежде всего – читатель! Книга сделала его тем, чем он стал. Не будь его службы в Кенигсберге (в Семилетнюю войну) и свободного знания немецкого языка и чтения немецких книг – он не вырос бы до таких высот. Все-таки русская книга была еще во младенчестве. А как любил он книги! Как вез их из Германии, заказывал в Москве, дружил с Николаем Новиковым – своим издателем! Книга была для него главным счастьем жизни! Она разбудила, а также сформировала его творчество во всех областях.
В предуведомлении к своим великолепным «Запискам» он горестно восклицал: «Мне всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о том известий, и через то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия, чтоб иметь о них, и о том, как они жили, и что с ними в жизни их случалось и происходило, хотя некоторое небольшое сведение и понятие. Я тысячу раз сожалел о том и дорого б заплатил за каждый лоскуток бумажки с таковыми известиями, если б только мог отыскать что-нибудь тому подобное. Я винил предков моих за таковое небрежение, а не хотя и сам сделать подобную их и непростительную погрешность… – рассудил употребить некоторые праздные и от прочих дел остающиеся часы на описание всего того, что случилось со мной во все время продолжения моей жизни…»
Новый человек в России, новая культура памяти, оторванная от старой традиции, новая книга… Все это выросло из читателя.
Книга родила книгу. Остранение от привычного ритма жизни в университетском городе Кенигсберге – много тому способствовало. Кстати, из 29 рукописных томиков его «Записок» (по 400 страниц каждый – «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков») опубликована по сей день лишь меньшая часть. И то благодаря редактору журнала «Русская старина» М. И. Семевскому, издавшему в 1871–1873 годах четыре объемистых тома в виде приложения к своему журналу.
А в XX веке эти тексты публиковались лишь частично – по изданию Семевского. Полное издание, увы, никого не интересует. А между тем неутомимый читатель Андрей Болотов дал в них настоящую энциклопедию русской жизни и быта второй половины XVIII века. Ничего интереснее я в жизни не читал! Недаром в 1970‐е годы маленький трехтомничек Болотова изд-ва «Академия» начала 1930‐х годов стоил на «черном рынке» 100 рублей. Большие тогда деньги! В деньгах отражался настоящий «гамбургский счет» общественного интереса к конкретной книге.
Так что в истории с Болотовым – книга родила книгу. Чтобы стать писателем, надо вначале стать настоящим читателем. Чтение книг в детстве, юности, молодости форматирует мозги человека, и он действует по усвоенной кальке, переводя бумагу. При этом записки для себя и своих близких, а также потомков – не воспринимались как литература. Это было вхождение и глубокое погружение в книгу своей жизни – как они ее видели.
Болотов пишет книгу своей жизни с таким обилием мелочей жизни, деталей, меняющихся впечатлений (сейчас вдвойне-втройне драгоценных), что пространство книги становится безразмерным. Это весь мир, остраненный автором. Не дневники, но эпопея всей жизни – предтеча «Войны и мира» Льва Толстого. Только Болотов писал свои «Приключения», используя дневник своей жизни как первичный материал для обработки. И получилась история, литература, наука, что, впрочем, до сих пор никто не признает.
«Болотов – не историк», – сказал мне мой наставник в науке А. А. Формозов, прочтя книгу «Ремесло историка в России», где был очерк про Болотова. А с моей точки зрения – один из лучших в стране XVIII века. История русской повседневной жизни и быта без него немыслима. И все эти мельчайшие детали жизни у него органично вписаны в историю, переварены автором внутри себя – своего ума, таланта, кругозора, самостояния в жизни. Все это оригинально и никоим образом не напоминает графоманские потуги бытописателей позднейших эпох.
Автор ушел от всех возможных образцов и создал свой самостоятельный жанр. Во введении он подчеркивает: «При описании сам старался я не пропустить ни единого происшествия, до которого достигала только моя память, и не смотря, хотя бы иные были из них и самые маловажные… А как писал я сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей… и будущих потомков…, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико, а старался только, чтоб чего не было пропущено…»
Великая задача и великое исполнение. Из сего как из яйца и вылупилась затем великая русская литература XIX века, породившая затем нашу литературу века XX.
Пишут тогда записки о своей жизни многие люди XVIII века. Писали их (с разными целями, но вовсе не альтруистично) неутомимый трудолюбец Екатерина II и подруга ее молодости Екатерина Дашкова, строптивый поэт Гавриил Державин и мистик князь Гагарин, превеликое множество грамотных персон разных чинов и званий. Но всем им до Андрея Тимофеевича Болотова – как до Луны. Это – непреходящий маяк своего поколения! Настоящий читатель, отрывший в своей душе, благодаря книгам, клад.
Как же он читал книги? Подпоручик Андрей Болотов в Кенигсберге 1758 года начал посвящать все свое свободное время, не занятое службой, чтению немецких романов. До этого он читал книги, по его словам, только «ущипками и урывками». А тут стал запойным читателем: «Ум мой преисполнился множеством новых и таких знаний, каких он до того не имел, а сердце нежными и благородными чувствованиями, способными не преклонять, а отвращать меня от пороков и худых дел, которым я только бы мог сделаться подверженным (…)
Второю и не менее важною пользою, полученною мною от того чтения, можно почесть ту, что я, читая описываемые происшествия во всех государствах и во всех краях света, нечувствительно спознакомился гораздо ближе со всеми оными, а особливо с знатнейшими в свете городами. Я узнал и получил довольное понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошего и худого, и как люди в том и другом государстве живут, и что у них там водится. (…) Что касается до моего сердца, то от многого чтения преисполнилось оно столь нежными и особыми чувствованиями, что я приметно ощущал в себе великую перемену и совсем себя власно как переродившимся». В той или иной мере это справедливо для любого читателя любой эпохи. А в ту эпоху русский читатель открывал для себя мир за пределами страны и европейскую культуру.
Свет фантазий, мыслей, невероятных сюжетов пленил и захватил молодого русского офицера. В общем-то, для детей чтение и сейчас дает такой эффект. «Мне и поныне еще памятно, как увеселялся я не только во время чтения, посиживая без всякой скуки длинные вечера, но голова моя так наполнена была читанными повестями и приключениями, что во время самого скучного хождения по ночам из канцелярии на квартиру они не выходили у меня из памяти, и я ими и в сии скучные путешествия не менее занимался мыслями и веселился, как во время чтения, и чрез то не чувствовал трудов и досад, с шествием по грязной и скользкой мостовой сопряженной».
Здесь у Болотова речь идет не о хорошем послевкусии после интересного чтения. Здесь он говорит о полном погружении себя (с головой) в мир книги и при этом закрывшим дверь изнутри этого сияющего и переливающегося всеми цветами радуги фантазийного вымышленного двойника жизни. Сейчас такое возможно только в детстве и ранней молодости и только у народов с молодыми и яркими чувствами, не состаренными европейской цивилизацией.
О грамотных людях XVIII века
В следующей за болотовской (или новиковской) эпохой в жизни русской книги – пушкинской эпохе, инфраструктура книги выросла неимоверно, стала плотной и повсеместной – в узком кругу потомственных и наследственных читателей. Книжные лавки и типографии, журналы и библиотеки, университеты со студентами и гимназии с учениками, духовные семинарии и духовные академии… – все это расширяется и развивается непомерно (по российским меркам, понятно). Читательский бульон! Ведь книга не может жить без читателей. Лишь в симбиозе с ними она оживает и двигает горы, вычерпывает моря и меняет одну эпоху на другую. Но в конце своей недолгой жизни (поколение-два) книга все же не умирает, а становится неким реликтом прошлого, засушенной мертвой бабочкой, сохранившей цвет и очертания, но утратившей жизнь. Булавка памяти, коей она пришпилена в витрине цивилизации, тоже важна. Людям нет надобности повторять достижения прошлых эпох, начинать с ноля, теперь у них есть эта мертвая память, и можно смело, отталкиваясь от нее, двигаться дальше.
Такой образ дал поэт Евгений Баратынский:
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний рев,
Храня движенья вид.
Обратимся же вновь к трудным временам проникновения грамотности в толщу русской жизни XVIII века. Россия, сдвинутая мощным плечом Петра I в сторону европеизации, медленно плыла туда и после кончины монарха. Настолько толчок был силен. Но одиночество царя удивляло современников. Иван Посошков, философ по собственным надобностям, писал тогда: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного: он на гору аще и сам – десять тянет, а под гору миллионы тянут: то како дело его споро будет?» Сила инерции была огромна.
Принуждение к грамоте – дело архитрудное, даже в ту эпоху государственного насилия в России над человеком. Главным европейцем в азиатской стране надолго стало центральное правительство. Мелкие чиновники, канцеляристы, писцы, прочее «чернильное семя» нашли себе в грамоте главный источник пропитания и жизни. Государству они тоже нужны. И эта грамота перетекала в самые низы русской бюрократии из другого, помимо дворянства, наследственно грамотного сословия общества – духовенства. Попы, дьяконы, дьячки, пономари, псаломщики были (в разной мере) регистраторами течения времени в жизни любого русского человека. Они крестили, брачили, отпевали каждого – отмеряли ход времени. Потому-то впоследствии в XIX – начале XX века столько русских историков выйдет именно из духовенства. Все эти Соловьевы, Ключевские, Богословские, Рождественские, Покровские… – и несть им числа.
Духовенство – наследственно грамотное сословие со своими учебными заведениями (училищами, семинариями, академиями). Надо сказать, заводились последние в России в 18 веке с большим скрипом, хотя более-менее повсеместно. Самотеком и самоуком грамоте наших попов и дьячков больше не учили – изволь на каторгу – в школу!
История одной школы
Народ же в русской глубинке школе долго и успешно сопротивлялся. Глубинный народ… Толща русской жизни очень медленно поддавалась внедрению грамотности. Обратимся к занятному эпизоду открытия архиерейской школы в городе Вятке, в глухом северо-восточном углу Европейской России, местным архиереем Лаврентием Горкой (1671–1737), другом и почитателем Феофана Прокоповича. При Петре I много ученых южноруссов из Киева пошли в дело.
Школа эта предназначалась вятским владыкой (годы правления 1733–1737) для детей местного духовенства и «лучших градских людей». Образцом для обучения (недосягаемым) служила Киевская духовная академия. Но дело оказалось многотрудное. Никто в школу добровольно учиться идти не желал. По словам самого архиерея, нравом весьма крутого, – «иные бегают, другие укрываются; а когда что и послушают – на вред моему смирению чинят и неисповедимые пакости мне делают. Хотел я и учения славяно-греко-латинского для робят в епархии Вятской заводить и учителей с Киева двух мирских человек вызвал. Но за таким гонением и противностями невозможно!» Светские местные власти поддерживали врагов епископа; где тайно, а где и явно.
Но энергия дряхлого Горки сотворила невозможное. Славяно-латинское учение было заведено в начале 1735 года. А латынь – это язык европейской науки! Ведь все учение в университетах там идет на латыни. Сопротивление непокорного вятского духовенства епископ сломил с помощью рассыльщиков и приставов, кои неблагодарных деток от 7 до 20 лет, а также сопротивлявшихся родителей доставили в школу скованными и в «железах».
Пришла на помощь епископу и центральная власть. Все-таки его дело шло в общем тренде политики Петербурга. Главный враг Горки местный архимандрит Александр, утекший в центр с доносом на епископа, был казнен в Тайной канцелярии. Только такие действия помогли открыть школу для 400 «робяток» в глухой провинции. Впрочем, ненадолго. Уже 23 сентября 1736 года более сотни посадских жителей и рассыльщиков местной провинциальной канцелярии с «дубинами и кирпичьем» ринулись на штурм архиерейского дома и школы. Пораженный уже параличом Лаврентий Горка пал духом от такого унижения и оскорбления, тем более что его покровитель и друг Феофан Прокопович незадолго до того (8 сентября) скончался.
И едва Горка умер (10 апреля 1737 года), как последовал новый взрыв ненависти к школе. Местное общество просто восстало против нее. Местные монахи, попы, чиновники, лучшие и простые жители с дубинками, палками и прочими подручными средствами бросились на штурм школы и приступом взяли ее. Захватили некоторых учителей с лучшими учениками и посадили их под караул. Уже 18 апреля из школы бежало 159 школьников.
В доношении в Синод старшего учителя школы Финицкого (выписанного из Киева) сказано: «Студенты, оставя школьное учение, бежали и в школу не ходят, а 18 апреля, видя меня заарестована их промыслом (управителями архиерейского дома: казначеем Трифоном и секретарем Протопоповым. – В. Б.) и тыи студенты, которые имели охоту к учению, в конец разошлися. Вси соборяне и вси причетники церковные, – как градские, так и уездные, – враждуют сему (школьному латинскому) учению – весьма неблагодарны суть, и говорят, что де сие учение не на пользу нам есть, паче же и противное церкви, понеже де мы латынь гнушаемся…»
Ближний к покойному архимандрит укрылся в келье своего монастыря и не смел даже поехать на панихиду по усопшему епископу. К нему же бежали два учителя из школы. Один из них попытался утечь далее, но был схвачен в дороге и с ликованием возвращен в оковах в архиерейский приказ, где его долго морили в заточении. Школьники разбежались полностью при такой безнаказанности. Затея покойного епископа «заморозилась» на пару лет, пока не прибыл на Вятку новый архиерей в 1739 году. Синод настаивал на жизни с таким трудом открытой школы. И постепенно учение пошло легче.
Дела церковные и ортодоксальные переплетались со светскими. Но убеждение, что в попы можно на отцовское место встать и без всякого учения, мало-мальски самоуком дойдя до всего, бытовало на Вятке еще чуть не весь XIX век. Вхождение в книги русской провинции шло медленно, с трудом и отдельными сегментами жестко сословного общества. Купцы и простые горожане грамотели уже больше в XIX веке. А крестьяне, в значительной своей массе уже в веке XX. Я до сих пор помню письма своей тетушки (точнее, двоюродной бабушки) из Алдана (с Колымы, куда они попали после раскулачивания), где все слова писались слитно без пробелов. Это поражало. Просто она ходила в школу одну зиму, еще до революции, и дальше не продвинулась.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе