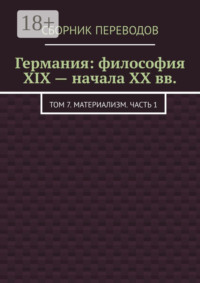Читать книгу: «Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 1», страница 3
Но давайте рассмотрим, что такое антиномии в глазах самого Канта. Он объявляет их заблуждениями рассудка и, разумеется, неразрушимыми (необходимыми) заблуждениями, поскольку рассудок не в состоянии освободиться от них непосредственно, а лишь опосредованно, через реализацию трансцендентальной идеальности пространства, времени и причинности. Поддавшись инстинктивной видимости объективности, интеллект тем самым попадает в противоречие, которое состоит в том, что обе стороны кажущегося противоречия утверждаются как ложные (только через косвенные доказательства как истинные). Но, открыв трансцендентальную идеальность мира, интеллект получает новое родовое понятие, которое сводит казавшееся ранее общим противопоставление тезиса и антитезиса к частному. Как только противоречие становится конкретным, оно перестает быть противоречивым; пропозиция исключенного третьего (что мир должен быть либо конечным, либо бесконечным), таким образом, перестает быть применимой к нему, поскольку теперь уже найден allo genos [другой род – wp], и противоречие оказалось лишь кажущимся, несуществующим. В этом нет ничего от диалектических принципов Гегеля. Далеко не разум подходит к противоречию, с которым может справиться понимание, и осуществляет умозрительное объединение его, все решение затруднения исходит скорее от понимания, осуществляется чисто по правилам формальной логики понимания и заканчивается тем, что единство противоречивого выдается за осуществленное, а противоречие представляется лишь кажущимся, возникающим из неполноты знания и отменяемым завершением знания. Если, тем не менее, Кант представляет антиномии как непосредственно неуничтожимую видимость, то только потому, что практический инстинкт eo ipso вынужден воспринимать мир как реальность, и это практическое инстинктивное убеждение не может быть уничтожено никаким исправлением со стороны рассудка. Но этот инстинкт практически необходим, потому что без него мы бы умерли с голоду.
Наконец, что важно у Канта для дальнейшего использования, так это понятие разума. Особенностью критического метода Канта было то, что для каждой особой деятельности разума он выделил особый факультет. Если остальные десятки факультетов вскоре были преданы справедливой участи забвения, то его факультет разума, к сожалению, имел несчастье вначале причинить много бед дурным примером органа для непосредственного познания, не опосредованного никакой интеллектуальной деятельностью, даже если она все же была исчерпана самим Кантом в практических постулатах. Если позволительно взглянуть на бессознательный психологический генезис этого поглощения в сознании Канта, то его, вероятно, следует представить себе таким образом, что смелый мыслитель, содрогаясь перед зияющей, всепожирающей бездной небытия, которую разверзла его первоначальная «Критика чистого разума» (ср. Kant, Werke II, стр. 477 ниже), под влиянием пиетистского воспитания своей юности и тоскуя в глубине души по внушительной позитивности христианства, которая еще не была преодолена никакими средствами, прибег к последнему средству покаяния и с помощью простого постулата: «Я желаю, я надеюсь, я верю» отказался от идолов, которые только что были сметены разумом: Бог, свобода и бессмертие, тайком пробравшиеся обратно через заднюю дверь, торжественно реституировались с благочестивым духом. Если, тем не менее, он иногда пытается обмануть себя, будто моральный закон со всем его содержанием может быть выведен из чисто формального принципа, а остальные постулаты теперь следуют из него, то эта ошибочная попытка самообмана, даже если она нашла в Фихте охотного подражателя и передатчика в теоретическую область, является лишь доказательством того, как сильно Кант жаждал заменить прямой категорический характер практического разума, если это возможно, на тот, который опосредован формальными принципами понимания. Если он не преуспел в этом для практической области, то он никогда не пытался сделать это для теоретической области.
Конечно, Кант и здесь признает различие между разумом и пониманием; но Шопенгауэр уже показал в своей «Критике» (W. a. W. u. V., op. cit., pp. 511—513, 521—523), насколько нечетко он определяет и разграничивает эти понятия, особенно понятие разума. Единственное, что для нас здесь важно, – это признание самого Гегеля, что разум Канта не дает ничего положительного в теоретическом отношении, т. е. что он фактически не выходит за пределы признанной способности рассудка (Werke VI, p. 114:
«Но теперь, по Канту, деятельность разума состоит, собственно говоря, только в том, чтобы систематизировать материал, доставляемый восприятием, путем применения категорий, т. е. привести его во внешний порядок, и его принципом в этом является только принцип непротиворечия».
И (Сочинения VI, стр. 116):
«В то время как, как было отмечено в предыдущих параграфах, теоретический разум, по Канту, должен быть лишь отрицательной способностью бесконечного и, не имея никакого собственного положительного содержания, ограничиваться пониманием конечной природы эмпирического знания, он, с другой стороны, прямо признает положительную бесконечность практического разума».
Насколько сам Кант был против всех диалектических начинаний, всех попыток вывести новые неизвестные истины из логической обработки известных понятий, он выразил так открыто и категорично, как будто предвидел всю аферу, которая должна была подняться над его могилой («Критика чистого разума», второе издание, стр. 630):
«Человек не больше желает стать богаче в проницательности от одних только идей, чем торговец в богатстве, если для улучшения своего состояния он захочет добавить несколько нулей к своему денежному балансу».
Сочинения II, стр. 62:
«Эти (формально-логические) критерии, однако, касаются только формы истины, то есть мысли в целом, и являются вполне правильными, но недостаточными. Ведь хотя познание и хотело бы полностью соответствовать логической форме, то есть не противоречить самому себе, оно все же может противоречить предмету. Таким образом, чисто логический критерий истины, а именно соответствие познания общим и формальным законам понимания и разума, действительно является conditio sine qua non [основной предпосылкой – wp], следовательно, отрицательным условием всякой истины: но логика не может пойти дальше, и логика не может обнаружить ошибку, которая касается не формы, а содержания, никаким пробным камнем».
Страница 63-я:
«Тем не менее, есть нечто настолько манящее в обладании столь очевидным искусством придавать форму разума всему нашему знанию, хотя можно оставаться очень пустым и бедным в отношении его содержания, что эта общая логика, которая является просто каноном для суждения, была использована, как органон для реального производства, по крайней мере, для ослепительного произведения объективных утверждений, и таким образом, в действительности, была злоупотреблена. Общая логика теперь, как отрицаемый органон (эта логика видимости), называется диалектикой».
Ср. также изложение этих положений на с. 64—65. Истинность содержания, с другой стороны, по Канту, может быть получена только из опыта (Кр. д. р. В., указ. соч., с. 194—195):
«Для того чтобы познание имело объективную реальность, т. е. относилось к объекту и имело в нем значение и смысл, предмет должен быть способен быть каким-то образом дан. Без этого понятия пусты, человек действительно мыслит, но на самом деле ничего не познает посредством этого мышления, а просто играет с идеями. Дать объект, если это опять-таки не означает лишь косвенно, а прямо представить его в созерцании, – это не что иное, как соотнести его концепцию с опытом (реальным или возможным)».2
7. Фихте
В «Фихте», когда вещь-в-себе превращается в абстрактное Не-Я, задаваемое Я, и, таким образом, все содержание сознания эксплицируется как произведенное Я, то он оказывается рядом с обвинением в попытке с позиций субъективного идеализма повторить усилия, предпринятые Спинозой с точки зрения наивного безразличия субъективного и объективного. Речь идет о том, чтобы вывести систему философии чисто дедуктивным путем, отталкиваясь уже не от определения абсолютной субстанции, данного Спинозой, а от формальных предпосылок всякого мышления: закона тождества и противоречия. Спиноза мог эффективно дедуцировать из своей субстанции, потому что он изначально охватывал все содержание в ней. В отличие от него, Фихте в своей «Науке познания» допустил существенную ошибку, пытаясь вывести все содержание из чисто формального принципа, лишенного всякого содержания. Между тем, Гегель прекрасно понимает, что «из абсолютной формальности не может быть достигнута никакая материальность» (Сочинения I, стр. 281). Поэтому Фихте был настолько далек от того, чтобы оспаривать законы тождества и противоречия, что вместо этого он выставляет их в качестве формальных принципов, из которых он выводит всю свою систему.
Цели, которые Фихте изначально ставил перед собой, заключались, с одной стороны, в дедукции категорий Канта и, с другой стороны, в дедукции этики Канта. Если мы рассмотрим способ его дедукции, то он говорит («Wissenschaftslehre», первое издание, стр. 25) примерно следующее:
«Результат предыдущего таков: если Я = Я, то Я не=Я. Если бы этот вывод был верен, то тождество сознания, единственное абсолютное основание нашего знания, было бы отменено. Здесь возникает задача найти нечто, с помощью чего этот вывод может быть верным без отмены тождества сознания. Мы должны спросить себя, как А и -А, бытие и небытие, реальность и отрицание могут быть мыслимы вместе, не аннигилируя и не отменяя друг друга. Не следует ожидать, что кто-то ответит на этот вопрос иначе, чем следующим образом: они будут ограничивать друг друга. Ограничить что-либо означает: отменить его реальность отрицанием, но не полностью, а лишь частично. Поэтому понятие ограничения включает в себя и понятие делимости (квантитативности вообще). Решение вышеуказанного противоречия таково: эго устанавливает себя как ограниченное не-эго, а эго устанавливает не-эго как ограниченное собой; то есть и эго, и не-эго устанавливаются как делимые, и часть реальности, а именно та, которая приписывается не-эго, изымается из эго, так что ему остается только остальное».
Таким образом, принцип диалектики Фихте четко выражен.
Он никогда не выводит антитезис из тезиса, как это делает Гегель, но оба они даны ему одинаково либо как принципы, либо развиты из третьего. Тезис и антитезис всегда выражены в пропозициональной форме, а не просто как понятия; их следует понимать как одно и то же суждение, один раз с положительной, другой раз с отрицательной копулой; таким образом, они представляют собой противоречие в его чистом виде. Однако сразу же становится ясно, что это противоречие было введено в дело лишь неточностью словесного выражения; ведь синтез отменяет всеобщность, в которой выражались тезис и антитезис, и ограничивает их смысл и действительность таким образом, что теперь каждая из пропозиций говорит о чем-то своем, и они больше не противоречат друг другу. Таким образом, синтез также имеет форму двойной пропозиции, две стороны которой представляют собой исправленные тезис и антитезис. Эта синтетическая двойная пропозиция как таковая уже не содержит противоречия, но возможно возникновение новых противоречий в каждой из двух частей этой двойной пропозиции, и это возникновение разрешается таким же образом путем взаимного ограничения. Здесь кроется возможность прогресса дедукции. Так, например, в первом синтезе: «Эго позиционирует себя как ограниченное не-эго и позиционирует не-эго как ограниченное собой», теоретическая философия выводится из первой части, а практическая – из второй. Полностью и всецело реализованная схема диалектики Фихте […] уходила бы, таким образом, в бесконечность. Только произвольно возникающая сила практического разума способна прервать теоретическое развитие, но и практическое развитие, со своей стороны, также застревает в этом бесплодном бесконечном процессе.
Если мы теперь спросим себя, чего же на самом деле способен достичь метод Фихте, то не останется ничего, кроме старого сократовского исправления понятий, исправления ошибочных предпосылок путем такого изменения их, при котором исчезают противоречия, вытекающие из этих ошибок. Однако видимость развития позитивного знания исчезает еще до простого соображения, что никакое материальное знание не может быть выведено из чисто формальных принципов, но и его можно без труда устранить в деталях, показав, как отдельные детерминации частично искусственно вставлены, а частично (например, причина) им придается совершенно неполное значение. Но если мы спросим, на чем, по мнению самого Фихте, покоится вся его система, т. е. как он приходит к своим принципам, то они для него не что иное, как «факты эмпирического сознания». Все развивается для него из принципов понимания, или, скорее, он, мыслитель, развивает определения знания из этих высших фактов эмпирического сознания по общепринятым законам понимания.
Наконец, я хотел бы добавить суждение Гербарта о диалектических тенденциях Фихте. Сочинения Гербарта, V, стр. 259:
«Что немыслимое не может быть, – что тот отменяет свое мышление, кто хочет мыслить немыслимое, оно есть, – что поэтому, когда ход умозрения привел к такому пункту, от него надо совершенно отказаться; это сразу же очевидно». Так, после того как Фихте проанализировал понятие «я» таким образом, что признал его немыслимым, одно это, без более полного развития всех противоречий в «я», должно было побудить его полностью отказаться от первой предполагаемой реальности «я» вместе с предполагаемым интеллектуальным представлением о нем.»
Страница 260:
«Но Фихте однажды позволил своей воле влиять на его мышление. Он верил, что обрел свободу в эго, и не хотел расставаться со свободой. Поэтому он сохранил немыслимую мысль; он придал ей авторитет, претендуя на интеллектуальный взгляд, ибо именно так он считал состояние, при котором немыслимое удерживается как данность внутреннего восприятия»; И таким образом один из величайших мыслителей, когда-либо живших, стал родоначальником энтузиазма, который, избрав центром так называемое абсолютное тождество и объединив его со спинозизмом, платонизмом, физикой и физиологией, занял место философии в широком кругу и вытеснил философию из еще более широкого круга, потому что люди не хотели терять рассудок из-за интеллектуального взгляда.»
Сам Гербарт дает расширенное развитие сократовской концептуальной коррекции в своем «Методе отношений».
8. Шеллинг
В свой догегелевский период (трансцендентальный идеализм и натурфилософия) Шеллинг в основном следует методу Фихте, за исключением того, что он обращается с ним более свободно и в определенной степени более художественно и берет в качестве отправной точки тождество субъекта и объекта, к которому, как он считает, можно прийти только через трансцендентальное представление о разуме, хотя в Werke I. 10, с. 147—151, он так осторожно ограничивает значение и предмет этого трансцендентального воззрения, что, если бы он никогда не имел в виду ничего другого, его жалоба на неправильное понимание этого понятия была бы вполне обоснованной, Он называет используемый им метод синтетическим и набрасывает его схему в несовершенном виде следующими словами (Werke I. 3, p. 412:
«Две противоположности, a и b (субъект и объект), объединяются актом x, но в x появляется новая антитеза c и d (разумное и ощущаемое), акт x таким образом сам снова становится объектом; сам он объясняется только новым актом = z, который, возможно, снова содержит антитезу, и т. д.».
Для него и возникающее противоречие не является чем-то реальным, а лишь видимостью, которую необходимо уничтожить, найдя средний термин, связывающий противоречия таким образом, что кажущееся противоречие исчезает. Силе мысли, однако, не удается уничтожить противоречие одним махом, до самых дальних уголков, но она находит, так сказать, лазейки, в которые оно пробирается и из которых его нужно постепенно изгонять. Так, он говорит (Сочинения I. 3, с. 538):
«Для этого противоречия должно быть найдено посредствующее понятие… При решении этой проблемы мы поступаем так же, как и при решении других проблем, а именно: определяем проблему все ближе и ближе, пока не останется единственно возможное решение».
В другом месте (Werke I. 3, стр. 562) он объявляет время общим посредником для разрешения противоречий. Если рассмотреть такие примеры, как Сочинения I. 3, с. 542, то становится совершенно ясно, что для Шеллинга противоречие возникает только из неправильной, субъективной концепции и что его устранение есть истинное уничтожение и доказательство его простого появления через исправление концепции. В Сочинениях II. 1, с. 301, он говорит: «Нужно действительно мыслить, чтобы понять, что противоречивое не может быть мыслимо». Здесь он четко выражает свою приверженность постулату о противоречии. Когда он говорит о тождестве противоположностей, это лишь неправильное употребление слова, ибо под этим он понимает вовсе не «dieselbigkeit» или «Einerleiheit», а «органическое единство» (ср. Werke I. 7, pp. 421—422), то есть либо реальную связанность (ср. Werke I. 4, pp. 389,390), либо концептуальное единство идейно противоположного; ни то, ни другое не подразумевает противоречия. (Гегель, однако, как мы увидим, использует слово «тождество» то в шеллинговском, то в собственном [аристотелевском] смысле и тем самым создает безграничную путаницу).
В натурфилософии Шеллинга синтетический метод все больше и больше превращается в бесплодный, игривый схематизм. Гегель говорит об этом (Сочинения XV, с. 614):
«У Шеллинга, с другой стороны, форма становится скорее внешней схемой, а метод – приложением этой схемы к внешним объектам. Эта внешняя схема занимает место диалектической прогрессии; тем самым натурфилософия теперь дискредитировала себя, в частности, тем, что стала действовать совершенно внешним образом, взяв за основу готовую схему и подведя под нее взгляд на природу».
Метод, который должен придать философии аподиктическую определенность и возвести ее в абсолютную науку, называется здесь конструированием. Конструирование – это реальное уравнение общего и особенного в чистом созерцании (Werke I. 5, pp. 131—132). Единство общего и особенного, которое Гегель называет понятием, Шеллинг называет идеей; то, что таким образом конструируется, по Шеллингу, есть только идея, и, собственно, только одна идея, а именно для философа – идея абсолюта, как для геометра – идея пространства (Werke I. 5, с. 135). Продуктивным в этой конструкции является надиндивидуальный разум; ему противостоит непродуктивная индивидуальная рефлексия, которая либо просто пассивно наблюдает за этим производством, задерживая его [retardiert – wp] и тем самым заставляя каждый момент производства стоять на месте, либо выведывает ответы, задавая вопросы (Werke I.9, pp. 237—238 и 243). Это внутреннее взаимодействие вопросов и ответов между разделенными сторонами мысли и есть истинная философская диалектика (Werke I. 10, с. 98; I. 8, с. 201—202; I. 9, с. 238—239).
Первоначальное, еще нерасчлененное единство, из которого впервые возникают все различия, называется у Шеллинга в первый период «абсолютным тождеством», во второй – «безразличием»; синтетическая единица связи, в которую вступают дифференцированные противоположности, называется в первый период «безразличием» или, строго говоря, «тождеством» (без добавления «абсолютного»), а во второй – только «тождеством» (Werke I. 6, с. 209; I. 7, с. 154, 406, 422, 433). Восстановленное единство также называется победой единства над оппозицией или единством единства и оппозиции (Werke I. 4, стр. 295; I. 2, стр. 390; I. 7, стр. 445). Именно здесь возникает трудность с тройственной природой. Вначале триаду составляли Тезис, Антитезис и Синтез, теперь – исходное единство, вытекающая из него оппозиция и единство слияния. В первом случае исходное единство, безразличие, предшествующее дифференциации, отсутствует, во втором – Тезис и Антитезис воспринимаются как противоположности в одном. Именно поэтому Иоганн Якоб Вагнер считал, что сможет улучшить философию Шеллинга, переделав ее в смысле четырехчастности. – Рефлектирующий интеллект представляет себе антитезу либо как «и – и», либо как «или – или», либо как «ни – ни» и, таким образом, запутывается в противоречиях, пытаясь удержать определения антитезы как односторонние, тогда как абсолютно простой абсолют может быть познан только через простой (интеллектуальный) взгляд (Werke I. 6, pp. 23—25; I. 7, pp. 151—155). Но здесь бытие и истинное познание свободны от противоречий, и только конечная дискурсивная рефлексия рассудка создает противоречия в силу своей неадекватности материи (Сочинения I. 7, с. 151).
В «Критике философии Гегеля» (Werke I. 10) Шеллинг откровенно высказывает свое мнение о методе Гегеля; особенно поучительны страницы 132—135, где он рассматривает начало гегелевской «Логики». Он также говорит о гегелевском принципе самоповторения (Werke I. 10, с. 132):
«Но негласным руководящим принципом этого прогресса тем не менее всегда является terminus ad quem [момент времени, в котором что-либо действительно или должно быть осуществлено – wp], реальный мир, к которому в конечном счете должна прийти наука… Таким образом, в этом якобы необходимом движении есть двойной обман:
1. в том, что понятие подменяется мыслью и последняя представляется как движущаяся сама по себе, а между тем понятие лежало бы совершенно неподвижно само по себе, если бы оно не было понятием мыслящего субъекта, т. е. если бы оно не было мыслью;
2. притворяясь, что мысль движется вперед только по необходимости, лежащей в ней самой, тогда как у нее, очевидно, есть цель, к которой она стремится и которая, как бы философ ни старался скрыть ее сознание, оказывает, следовательно, только еще более решительно бессознательное влияние на ход философствования.»
Страница 162:
«Но тот, кто под предлогом, что это всего лишь конечные определения рассудка, хочет возвыситься над всеми естественными понятиями, лишает себя тем самым всех органов разумности, ибо только в этих формах что-либо может стать для нас понятным».
Единственный равный современник Гегеля был так далек от того, чтобы позволить себе быть ослепленным своей диалектикой. Человек, который так любил опираться на чужие идеи, человек, который принял результаты Гегеля, хотя и с некоторой неохотой, как долговременное достижение науки, этот человек никогда бы не смог удержаться от того, чтобы из мелкой ревности не принять метод своего университетского друга, если бы он считал его приемлемым. Принципы диалектического метода уже четко разработаны в работе Гегеля «Различие систем Фихтешена и Шеллинга», опубликованной в 1801 году; поэтому Шеллинг вполне мог бы воспользоваться методом своего соратника на ранней стадии, чтобы превзойти достигнутые с его помощью результаты, если бы считал его правильным; но вскоре он осознал невозможность такого построения. —
В более поздние годы Шеллинг отвернулся от дедуктивной диалектики Фихте и обратился к индуктивной стороне платоновской диалектики, убедившись на примере философии Гегеля, что априорная идея не может сама прийти к реальности, что чисто логическое философствование остается вечно гипотетическим и что Аристотель прав, когда говорит, что к принципам нельзя прийти дедуктивно, а только индуктивным путем, который тогда только и остается (см. Сочинения II. 1, стр. 297). Мы предоставим самому Шеллингу говорить о том, как он понимает свою современную диалектику. В Сочинениях II. 1, стр. 325, он говорит, что диалектика делает свои определения в соответствии с чистейшей формальной необходимостью мысли, в которой никто не может ошибаться. На странице 302 он подтверждает это словами:
«В самом деле, если мы вспомним, как мы пришли к нашим моментам бытия, то станет очевидным, что мы тем самым определяемся только тем, что возможно и невозможно в мышлении». Но невозможное в мышлении – это только то, что противоречит самому себе, возможное – все то, что не противоречит самому себе».
На странице 321 он говорит, что индукция должна рассматриваться в двух смыслах:
«Один вид индукции черпает элементы из опыта, другой – из самой мысли, и эта последняя есть то, посредством чего философия приходит к принципу».
Противопоставление опыта и мышления, однако, сразу же растворяется в противопоставлении внешнего и внутреннего опыта. Стр. 326:
«Ибо, конечно, есть и те, кто говорит о мышлении как о противоположности всякому опыту, как будто само мышление не есть в точности также и опыт. Нужно действительно мыслить, чтобы понять, что противоречивое не может быть мыслимо, нужно попытаться мыслить несовместимое, чтобы осознать необходимость его выдвижения в разные моменты, а не одновременно, и таким образом получить абсолютно простые понятия. Как есть два вида индукции, так есть и два вида опыта. Один говорит нам о том, что реально и что нереально: это тот, который принято называть опытом; другой говорит нам о том, что возможно и что невозможно: это приобретается в мышлении. Мышление, таким образом, также является опытом. Доказательства того, что приобретается в мышлении, невозможны, только ad hominem [нападение на личные обстоятельства и характеристики – wp]. Человек всегда думает о себе по отношению к другому, которому он поручает найти то, что он мог бы представить чистому субъекту, будучи уверенным, что тот ничего подобного не найдет, а потому (?) не ответит. Человек ведет разговор, даже без внешней формы, откуда и происходит название диалектической процедуры, которую Аристотель самым определенным образом противопоставляет аподиктической науке.»
Но теперь ясно, что если я делаю определения только потому, что переживаю невозможность их противоположности, что то, что я констатирую через этот опыт, есть не что иное, как факт организации моей мыслительной способности, что поэтому все переживания, из которых строится диалектика, являются психологическими, хотя область психологических переживаний гораздо шире, чем та ее часть, которая здесь обсуждается. Каково же было удивление, когда мы читаем (стр. 299) следующее:
«Если мы теперь добавим к этому, что те, кто работает таким образом, принимают только психологические факты как подходящие для их целей, то и здесь становится очевидным, насколько ограниченно они представляют себе задачу. Психология сама по себе является наукой, и даже философской, которая имеет свою собственную немаловажную задачу, и поэтому (!?!) не может служить случайным образом для оправдания философии.»
Причина этого противоречия станет ясна из следующего.
«Но если мы оставим в стороне эти недоразумения и предположим, что требуемая нами индукция осуществляется на самой широкой основе и что на пути самого чистого и точного анализа мы действительно пришли к принципам и через них к принципу, то не придется ли нам тогда рассматривать само это восхождение как философию и не захотим ли мы все же перейти к дедукции, только чтобы пройти тот же путь, достаточно утомительный, во второй раз в противоположном направлении?»
Очень хочется услышать ответ Шеллинга, и каков же результат?
«Как эта идея совместима с понятием абсолютной науки, которую мы невольно (!) связываем с философией?»
Ему стыдно, что он оказался неверен старому предрассудку абсолютной науки и пришел к лучшему пониманию того, что только индуктивным путем мы можем узнать что-либо существенное, чего мы еще не знали, и больше всего ему стыдно за подозрение в том, что он даже плебейскую психологию сделал основой философии.
Конечно, у него остается реальная причина, по которой требуемая им индукция недостаточна, – ее произвольное ограничение не только внутренним, т.е. психологическим опытом, но и весьма ограниченной его частью. Но только индукция на «широчайшем основании» может привести к философии, то есть индукция, основанная на всем доступном опыте, как и Аристотель, стремившийся достичь такого «широчайшего основания». Таким образом, Шеллинг как можно быстрее отпрыгивает от этого неудобного основания и выделяет отношения между логическим и диалектическим в более узком смысле. Он различает их таким образом, что логическое устанавливает детерминации как принципы в соответствии с формальной необходимостью мышления, тогда как диалектическое отменяет их как принципы и оставляет их только как предпосылки, как ступени к принципу (стр. 328). Но он всегда утверждает, что это восхождение через платоновские предпосылки является индукцией, и объясняет это на примере экспериментатора (стр. 329):
«Мыслящий и здравомыслящий экспериментатор – это диалектик естествознания, который также проходит через гипотезы, через возможности, которые пока могут быть только в мыслях и к которым его приводят простые логические следствия, также для того, чтобы их отменить, пока он не придет к той, которая подтверждается реальностью через окончательный решающий ответ самой природы».3
B. Диалектический метод Гегеля.
I. Краткое описание диалектического метода
Я намеренно излагаю скелет диалектического метода не словами Гегеля, а своими собственными, отчасти для того, чтобы быть короче, чем это позволило бы нанизывание изречений Гегеля, отчасти потому, что свободное воспроизведение показывает больше, чем простая компиляция, насколько я сам понял намерения Гегеля. Разум движется абстрактно, в фиксированных, односторонних определениях понятий, по формальным законам мышления о тождестве и противоречии. Но если теперь взять любое понятие понимания и рассмотреть его в деталях, то становится очевидным, что оно не может оставаться тем, что оно есть, а нарушает границы, очерченные для него пониманием, аннулирует себя (в силу содержащихся в нем противоречий) и продолжает начатое им негативное движение до своего естественного предела, то есть до превращения в свою полную противоположность. Если мы теперь снова посмотрим на эту противоположность (также известную разуму), то увидим то же самое явление: она также аннулирует себя и возвращается к другой противоположности. – Из этого имманентного колебательного самодвижения понятия следует, что рассудок может удерживать одностороннее определение только тем, что насильно удерживает от него свою противоположность (Сочинения Гегеля VI, стр. 178), а субъективный произвол искусственно препятствует понятию в его естественном объективном движении. Отсюда следует, что не односторонние детерминации понимания являются истиной понятия, а только это – быть своей противоположностью, как и самим собой, и не быть тем, чем хочется, чтобы оно было. Это противоречие. Но не противоречие возникло из движения, а движение возникло из него (Сочинения IV, стр. 68); ибо оно уже было в односторонних детерминациях, в каждой из них, одинаково бессильной успокоить себя и найти свое единство; но именно в самом движении оно находит это единство, ибо в своей противоположности оно только сходится с самим собой. Истина понятия состоит, таким образом, в том, что оно разделено на абсолютное противоречие, но что это противоречие своей самосозданной противоположности также находит свое абсолютное тождество, и уже не то бедное абстрактное тождество понимания, которое принадлежит одностороннему понятию понимания в его принудительной неизменности, а конкретное тождество разума, которое включает в себя все богатство противоположности как аннулированной, то есть одновременно уничтоженной и сохраненной. Тождество противоречия следует понимать не так, как если бы противоположности были тождественны в ином отношении, чем они противоположны, но именно в том же отношении, в котором они противоположны, и именно потому, что они противоположны, и притом абсолютно противоположны, они тождественны, и притом абсолютно тождественны, так что противоречие противоположности остается в той же тотальности, в какой оно исчезает в тождестве. Одним словом, абсолютное противоречие есть абсолютное тождество, и только в тождестве и противоречии тождества и противоречия заключается истина, тогда как всякое усилие интеллекта постичь истину в форме суждения или предложения неизбежно остается односторонним, а потому ложным. Однако с достижением рационального тождества противоречия самодвижение понятия еще не заканчивается, ибо конкретное единство противоположностей возникает как новое понятие, как понятийная детерминация, которая несет в себе свои новые противоречия и тем самым ведет к повторению прежнего ритма и далее к продвижению метода вплоть до высшего вывода, лежащего в нем самом. Деятельность по образованию фиксированных определений путем абстракции есть рассудочная, – деятельность понятия по беспокойному превращению в свою противоположность, диалектическая в более узком смысле, или отрицательно рациональная, – наконец, деятельность понятия по слиянию с самим собой в своей противоположности, спекулятивной или положительно рациональной; вместе они образуют три стороны или момента логического. Диалектический метод преодолел противоположности: синтетическую и аналитическую, дедуктивную и индуктивную, априорную и эмпирическую; он относится к ним, как и вообще к понятийным противоположностям, уже не в отношениях «или – или», а одновременно в отношениях «ни – ни» и «как – так и» (Werke VI, pp. 238—239). Поскольку понятие – единственная и единственная субстанция, его самодвижение – единственный и единственный существующий процесс, столь же объективный ход самой вещи, как и мыслительный процесс в голове философа. Субъект как таковой в философствовании является, следовательно, лишь зрителем этого процесса, объективно происходящего перед его сознанием, и его единственная задача – позволить ему происходить без помех и как можно меньше нарушать его случайными субъективными ингредиентами.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе