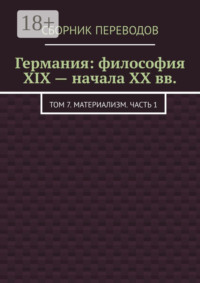Читать книгу: «Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 1», страница 2
В своей «Истории философии» Гегель, очевидно, слишком много вложил в Платона своей концепции диалектики. Так, например, «Парменид» ошибочно рассматривается Гегелем как репетиция его собственной диалектики, поскольку понятие Единого с самого начала в разных смыслах берется за основу для различных серий выводов, которые приводят к противоположным результатам. (Ср. HEYDER, Vergleich der ariostotelischen und Hegelianischen Dialektik I, pp. 109 – 113) Не желая отрицать возможность того, что даже Платон вполне мог представить себе здесь и там отождествление противоположностей в гегелевском смысле как далекий идеал, поскольку это избавило бы его от необходимости исправлять концепцию удобным объяснением противоречия истине, тем не менее следует твердо утверждать, что он не мог, осознавая эту концепцию диалектического, предаваться ей, не вступая в противоречие с самим собой. Он говорит в Republica IV. 436 B: «Ясно, что одна и та же вещь не может в одно и то же время делать или претерпевать противоположные вещи в одном и том же отношении, так что если мы обнаружим это где-либо, то будем знать, что это не одна и та же вещь, а нечто большее». В «Федре» 102 он утверждает, что великое не хочет быть малым, а малое не хочет быть великим, а когда ему возражают, что Сократ сам говорил, что противоположное становится противоположным, он отвечает:
«Тогда говорили, что противоположное состояние становится противоположным состоянием, а теперь говорят, что противоположное само по себе не может стать своей противоположностью». В «Софистах» 230 B он утверждает, «что критерием ложности является то, что два утверждения противоречат друг другу в одно и то же время об одних и тех же предметах, находящихся в одних и тех же отношениях в соответствии с одним и тем же смыслом».
Таким образом, он устанавливает закон противоречия в качестве нормы как для мышления, так и для бытия; «даже если, следовательно, одна идея проходит через многие другие или включает их в себя, – Sophistes 253 D – это может произойти только таким образом, что каждая из них остается неизменной и тождественной самой себе – Philebos 15 B -, ибо одно понятие может быть связано с другим только в той мере, в какой оно тождественно ему» – Sohistes 256 – (Zeller, Philosophie der Griechen II, 2. Целлер, Философия греков II, 2-е издание, стр. 458), точно так же, как, например, понятия бытия и небытия могут быть связаны в той мере, в какой они оба разделяют понятие различного. Платон ни в коем случае не отрицает связь понятий, без которой вообще невозможно никакое пропозициональное образование (Soph. 263 E; Theaetetus 189), но он отрицает, что понятия связаны тем, что в них разное, или что связь противоречивых вещей вообще может быть реализована. Он также не отрицает временного перехода противоположных состояний друг в друга или перехода мысли от одного понятия к другому, но он отрицает, что понятие может перейти из себя в свою противоположность или что противоположности могут возникать в нем в одно и то же время и в одном и том же отношении. (Soph. 256, начало) Два последних пункта, однако, отделяют диалектику Гегеля от здравого смысла. Если Гегель, несмотря на многократное и явное осуждение Платоном тождества противоположностей в одном и том же отношении, все же утверждает, что Платон объявил это истинной диалектикой, он опирается на один неясный и спорный отрывок из «Софиста», который, как бы его ни трактовать грамматически, в любом случае исключает гегелевскую интерпретацию. (Соф. 259, ср. «Верке» Гегеля XIV, стр. 210; также HEYER, op. cit. стр. 98f)
То, что философский метод Платона был диалектическим, действительно неудивительно, учитывая отсутствие какого-либо осознания метода вообще, учитывая модели, которые он имел перед собой, учитывая публичный и устный характер греческого общения, учитывая полное отсутствие эмпирического материала, на котором можно было бы основывать возможную индукцию, учитывая несравненную красоту и интеллектуальную глубину греческого языка, бессознательные сокровища которого ему только предстояло вывести на свет. Философствование на основе языка всегда идет по схожему пути, независимо от того, осознает он его источник или нет, и тем более в то время, когда еще неизведанные сокровища греческого языка ждали своего первооткрывателя, и это был единственный уже проторенный путь, а все остальные терялись в непроходимой пустыне. Тем не менее, Платон и сам ясно понимал, что его диалектика не способна решить поставленную перед ней задачу, что она не может ни аподиктически [логически убедительно, доказательно – wp] вести от субъективных эмпирических понятий абстракции к определенной реализации Идей как метафизических сущностей, ни обеспечить реальное, генетическое выведение чувственного многообразия вещей из априорных Идей. Однако, поскольку он требует от философии аподиктической определенности, не уступающей математике, и поскольку он хочет противопоставить диким разногласиям софистов определенное знание, он считает необходимым дать диалектике надежное основание через память и интеллектуальное созерцание. Память должна возвращать душе идеи в том виде, в каком она видела их на небесах, прежде чем стать телесной; а небесный Эрос, то есть стремление к единению с Единым и Благим, должен пробуждать интеллектуальное восприятие идеи как настоящего. Таким образом, отсутствие диалектического метода и приверженность претензии на абсолютную достоверность вызывают мифологические дополнения. Тот, кто обладает памятью и интеллектуальным взглядом, дарованным Эросом, находится за пределами диалектического метода и больше в нем не нуждается; кто не обладает ни тем, ни другим, для того диалектика также имеет лишь пропедевтическое [подготовительное – wp] значение, чтобы привести его к этим двум.
3. Аристотель
До сих пор концептуальное и научное познание со всеми его возможными различиями в методах обобщалось под термином «диалектика». Аристотель первым отделяет диалектику от собственно научных методов дедукции и индукции, которые еще Платон включал в качестве подвидов. Метафизика IV. 2. 1004 b, 25: «Диалектика есть искусство осязания и экспериментирования над теми же предметами, для которых философия есть искусство познания». Что касается дедукции и индукции, то он в целом следует Платону, но умеет определить оба метода со своей собственной научной строгостью и остротой; именно с их помощью мы получаем любое убеждение (An. pri. II. 23, 68 b, 13). Что касается отношения этих методов к принципам, то в «Никомаховой этике» VI, 3. 1139 b, 26 он говорит: «Принципы, таким образом, – это те, из которых все выводится или заключено, но которые сами уже не могут быть получены путем дедукции, а только путем индукции». Фрелих также приписывает Аристотелю, в отношении принципов разума, способность непосредственного знания, которое может только иметь или не иметь предмет, но никогда не иметь его ложным образом, но он не доказывает ни непогрешимости, ни даже возможности этого знания, ни явно использует его, ни пытается изложить такие непосредственно известные аксиомы, за исключением той, которую он (Метафизика IV, 3. 1005 b, 11) как наиболее бесспорного, признанного и безусловного из всех принципов, относительно которого невозможна ошибка, – предложения о противоречии, которое он неоднократно формулирует как в отношении мысли, так и в отношении бытия. (Метафизика IV. 3. 1005 b, 19: «Невозможно, чтобы одна и та же вещь была одной и той же в одном и том же отношении в одно и то же время». И 1011b, 15: «Мнение о том, что противоречивые высказывания не являются одновременно истинными, является наиболее определенным из всех». Даже если пропозиция противоречия недоказуема, Аристотель доказывает (Метафизика IV, 4 – 6), что невозможно не предполагать ее, поскольку с ее отменой всякая речь отменила бы свое собственное условие и тем самым саму себя. Отсюда следует, что когда он говорит о диалектическом объединении противоречий, то это может подразумеваться только в сократовском смысле, путем исправления понятий и нахождения высшего родового понятия, в котором оба могут быть объединены. Соответственно, он называет диалектический силлогизм epicheirema [для каждой посылки дается явное обоснование – wp], то есть уловкой или хитростью.
Все это становится еще более понятным, когда мы видим, что Аристотель описывает диалектику точно так же, как и Сократ. Ведь там, где знание конкретного составляет слишком неполную основу, чтобы от него можно было с уверенностью перейти к принципу, диалектика, или доказательство вероятности, должна подготовить, просеять, просветить и поддержать, устранив ложное. Как и Сократ, он исходит из общепринятого, народного представления; «ибо недоказанных изречений и мнений опытных и старших или более разумных следует придерживаться не менее, чем доказательств» (Nicom. Ethics VI, 12. 1143 b, 11), что, конечно, звучит довольно странно в устах философа. Но следующее делает его снова хорошим, а именно требование взвесить различные и противоположные мнения по какому-либо вопросу и, ввиду трудностей, вытекающих из существующих противоречий, найти выход из затруднений (aporias), в которые приводит обычный взгляд, путем сравнения различных сторон предмета с тем, что установлено иначе, и получить таким образом проясненные и очищенные от прилипшей неполноты или неправильности понятия или взгляды в качестве основы строго научной процедуры, которая теперь вступает в действие. Однако, помимо подготовки к строго научной процедуре, рассмотрение апорий, или, одним словом, диалектика, имеет и вторичное преимущество – формальное умственное упражнение и тренировка искусной аргументации.
Аристотелевская диалектика не имеет иного значения, кроме указанного. Только из несовершенства общих представлений возникают противоречия, очевидность которых диалектика призвана доказать путем исправления понятий. Диалектика не дает знания, а только обучение, подготовку и полезные указания; знание может быть получено только путем индукции или дедукции. Однако диалектика не создала ту истину, которую она дает, а извлекла ее как съедобное ядро из оболочки обычных идей и мнений; ведь там, где она выходит за их пределы, это всегда возможно только с помощью дедукции или индукции.
4. Пост-аристотелевская философия
Шеллинг говорит: «Для тех, кто понимает, не секрет, что она» (греческая философия) «закончена Платоном и Аристотелем и что все дальнейшие попытки, стремившиеся заявить о себе помимо них, были лишь отступлениями и в сущности лишь попытками рассеяться над целью, которая не была достигнута». Действительная философская сила нации была исчерпана, и оставалась отчасти практическая философия, отчасти скептицизм, отчасти мистический теософизм. Об античном скептицизме Гегель утверждает (Сочинения VI, с. 35), что он показал во всех конечных определениях понимания, что они содержат в себе противоречие и что поэтому невозможно постичь в них истину. Первая часть утверждения преувеличена, но вторая неверна; суть античного скептицизма состоит в доказательстве невозможности найти критерий истины (ср. Сочинения Канта II, с. 61—62), и поэтому никогда нельзя знать, знает человек или не знает; он считает утверждение, что нельзя знать, столь же необоснованным, как и утверждение, что можно знать. То, что скептицизм с удовольствием отвергает презумпцию знания, в частности, указывая на противоречия, – дело второстепенное, поскольку он делает лишь то, что уже делали софисты. Таким образом, античный скептицизм относится к человеческому познанию в целом, безотносительно к пониманию или разуму, а не, как хотел бы сказать Гегель, только к мышлению в той мере, в какой оно конечное (умопостигаемое). В то же время, однако, Карнеад предлагает правильную помощь в трудную минуту через концепцию вероятности.
Гегель и его школа придают особое значение триадам Прокла. В своей теории эманации Плотин предполагал, что причина сохраняется в следствии и возвращается к себе в более низкой потенции. Прокл развивает зародыш триадического ритма, содержащийся в этом, в своей теории происхождения различных кругов богов. Только совершив непростительную ошибку, отождествив отношение общего и особенного с отношением причины и следствия, его теогония низших кругов богов от верховного божества в то же время становится разворачиванием понятий от en [бытия – wp]. Насколько мало он все же признает триадический ритм, видно из того, что, хотя он и придерживается его в умопостигаемом, в интеллектуальном он заменяет триады семибожиями [семь вещей – wp], а именно потому, что планет семь! С низшими «бесчисленными» богами, однако, он делает лишь слабые попытки категоризации, осознавая их неадекватность. Целлер, который сам вышел из гегелевской школы и лишь позднее отпал от нее, говорит о нем (Философия греков III, 2, 419): «Прокл – схоластик насквозь; он обладает редкой силой логического мышления» (а именно в концептуальном разборе),
«но это мышление по своей природе несвободно, сковано авторитетами и всевозможными предпосылками; для него важна лишь формальная обработка того или иного учения, и чем больше внимания и энергии он уделяет этой задаче, тем сильнее в нем неизбежно проявляется оборотная сторона всякой схоластики, бесплодный и однообразный формализм».
Это последний отросток нового платонизма, который стремится заменить и скрыть полное отсутствие положительных содержательных достижений строгостью формального исполнения внешне принятой и с самого начала догматически зафиксированной схемы, деятельностью, которая может показаться нам лишь бесполезной уловкой и которая, чтобы стать задачей всей жизни, предполагает самую удручающую бедность производительных сил и немыслимую для других времен аберрацию интеллекта. Как возвышенно выглядит отказ от серьезности скептицизма в сравнении с этим образованным знанием! Что мы можем подумать об учености человека, который, подобно Проклу, посвятил пять лет величайшего усердия работе из 70 тетрад над существующими оракулами и выразил желание, чтобы все древние сочинения, кроме оракулов и «Тимея», были уничтожены! Если, с другой стороны, Прокл предстает как уважаемый комментатор Евклида, то такая проницательная интеллектуальная деятельность, движущаяся в шнурованных ботинках непересекающихся форм, вполне совместима с умом, который проявляет самые болезненные отклонения, как только он свободно доверяет себя полету собственной силы. Точно так же мы обязаны Сведенборгу, величайшему духовному провидцу всех времен, множеством полезных технических изобретений и усовершенствований в различных практических областях.
5. Переход к современности
Подобно быстро распадающейся империи Карла Великого в истории государств, система Иоганна Скота Эригены возникает как ослепительно великолепное, но незрелое и незначительное явление в истории философии. Опираясь на традиции греческих отцов церкви и часто находясь в удивительном согласии с философией санкхьи, он выступает как недоношенный Спиноза в своем пантеистическом общем взгляде, а также во многих восхитительных деталях. Прежде всего он подчеркивает бесконечность Бога, которая не допускает, чтобы он отличался от своих созданий, поскольку в противном случае он был бы ограничен ими, и которая приводит к тому, что мы можем присоединять к нему все предикаты только в неистинном и символическом смысле, поскольку каждый предикат определял бы его, т. е. делал бы его бесконечным. Но и отрицания применимы к нему лишь неаутентичным образом, поскольку они также ограничивали бы его (например, покой). Не могут считаться актуальными даже такие выражения, которые призваны обозначить его возвышенность над конечными определениями или над выражениями противоположного характера, например, когда Дионисий Ареопагит говорит, что он «выше бытия»; ведь и в этом случае он еще не был бы признан невыразимым. Но, тем не менее, даже если ни один предикат не может быть применен к нему, все они содержатся в нем; ибо что может быть такого, что не содержится в нем? Поскольку нет ничего, кроме Бога, все соединяется в Нем в невыразимом единстве. – Здесь мы видим, как из тех же причин, что и в истории новейшей философии, проистекают те же следствия, а именно: стремление не нарушить абсолютность Бога, которая принимается как данность, прекращение всякого познания и смешение всех противоположностей и противоречий в Абсолюте.
Если учение Иоанна Скота об Абсолюте тщетно, подобно лепету ребенка, пытается выразить невыразимое и вскоре довольствуется познанием Бога в его явлениях (теофаниях), то честолюбивый дух Николая Кузануса, напротив, делает попытку действительно постичь непостижимое, пусть даже в бесконечном приближении, и действительно удивительным образом приближается к Гегелю в его теории познания.
Николай хорошо знает Иоганна Скота, но он погружен в мистицизм Средневековья, и греческая философия, особенно Платон и Парменид, хорошо ему знакома. Помимо обычных выводов и введений абсолюта, есть один, свойственный ему, напоминающий Шеллинга:
«То, что невозможно, не может произойти. Поэтому то, что происходит, обязательно основывается на возможности произойти; возможность – это прежде всего становление, а значит, вечность. Но бытие-в-возможности не может привести себя к актуальности, иначе оно было бы в актуальности раньше, чем в действительности; поэтому оно должно иметь свое основание в актуальном бытии, которое обосновывает все возможное бытие и является основанием всего, что может быть. Однако это актуальное бытие не может быть раньше возможного бытия, поскольку последнее, как уже было сказано, вечно. Поэтому и то, и другое, и их связь в едином основании возможного бытия должны быть установлены как одинаково вечные. Это единство действительности и возможности (potentia) в вечном бытии и есть то, что Кузан называет Богом». (Риттер, История философии, т. IX, с. 161)
Он полностью согласен со взглядами Скота на Абсолют, но не смиряется с тем, что Бог реализуется так же кратко, как Скот.
Николай выделяет в человеке три уровня: sensus, ratio (то, что Гегель называет пониманием) и intellectus (то, что Гегель называет разумом), к которым добавляется четвертый: veritas ipsa, quae deus est. [Путь познания, ведущий к этой серии стадий, обратен пути порождения вещей, поскольку Бог сначала производит интеллект, порождающий рациональное мышление, которое затем погружается в чувственное и физическое. Все четыре ступени сливаются друг с другом путем постепенного нарастания, причем каждая следующая более высокая ступень является точностью (praecisio) следующей более низкой. Чувство не может ничего делать, кроме как чувствовать; оно не способно к отрицанию, а значит, и к различению ощущаемого, что уже относится к компетенции разума. Между sensus и ratio в качестве промежуточной ступени помещается imaginatio, чувственные образы которой сопровождают все мышление ratio, в то время как intellectus находится за пределами всех образов воображения, даже над временем и миром (De docta ignorantia III. 1 и 6). Поскольку именно ratio различает, именно ratio первым начинает распознавать противоположности, что и является его настоящим делом. Она признает их только как различные и приступает к их обоснованию в соответствии с законом противоречия. Понятия, которые образует ratio, не имеют истинного бытия сами по себе, поскольку общее есть только в частностях, но они «notionalia a ratione nostra elicita, sine quibus non posset in suum opus procedere» [фикции, порожденные нашим разумом, без которых он не смог бы продолжать свою работу – wp]. Таким образом, как и у Гегеля, они имеют только субъективное существование. Поскольку ratio цепляется за конечное и никогда не может прийти к бесконечному, к которому оно, тем не менее, должно стремиться (например, в математике), но поскольку конечное не может быть познано без бесконечного, а только из него, возникает необходимость перейти через ratio к intellectus. Там, где соотношение в математике имеет дело с бесконечным, оно затрагивает intellectus, поскольку противоположности (например, дуга окружности и прямая линия) начинают совпадать. Это единство противоположностей, к которому стремились в высшей степени соотношения, теперь фактически реализуется в intellectus. Кузан сравнивает это единство с единством конкретных различий в высшей общности, корне вида. Таким образом, intellectus стоит на горизонте вечности, где охвачены настоящее и ненастоящее, бытие и небытие и т. д.
Но вскоре за ним следует хромой вестник. Человек пускается в пустынный бесконечный процесс приближения, и только потом, когда он достигнет этой бесконечно далекой цели, высшего уровня понимания, он прикоснется к самой истине, которая есть Бог. Таким образом, человек в конце концов понимает, что все усилия, затраченные на восхождение, были бы обмануты, если бы конечное знание мирских вещей, достигнутое в процессе, не помогло ему в этом, и поэтому лучшим в этом учении остается ссылка на путь, восходящий снизу, и на знание мирских вещей. Николай, должно быть, и сам чувствовал это, поскольку ищет дополнение к нашей docta ignorantia в мистическом, непосредственном осознании Бога, в вере. Он настолько высоко ставит веру, что предпочитает твердость веры бедных и грубых людей учености ученых. Он уповает на божественную благодать, которую считает единой с высшей степенью природы, что она может даровать нам то, в чем природа, казалось бы, нам отказала, но чего мы жаждем. От веры мы должны ожидать непосредственного видения Бога, которое может быть даровано нам только в восторге (экстазе), отрывающем нас от мира.
Если эта доктрина наиболее похожа на гегелевскую в своем различении ratio и intellectus и принципе coincidentia contrariorum (совпадения противоположностей), то она существенно отличается как самостоятельным значением, придаваемым sensus, так и высшим уровнем, поставленным над intellectus, а также бессильным, бесконечным процессом восхождения. Для нас, однако, важнее всего то, что Николай не использует диалектические принципы для какого-либо метода, а лишь приводит с их помощью несколько разработанных примеров диалектической трактовки, в остальном же остается с восходящим методом, который, по сути, должен быть назван индукцией. Тем не менее, в истории философии напрасно искать явление, столь тесно связанное с принципами гегелевской диалектики, которую Гегель в своей «Истории философии», как ни странно, учитывал так же мало, как и Иоанн Скот.
Джордано Бруно добавил мало нового к учению Николая в том, что касается диалектики. Он особенно подчеркивал, что только в самом Боге все противоположности едины одновременно и без различия времени, тогда как во всех мирских вещах совершенство состоит лишь в том, что все и вся может и должно со временем стать всем и вся. Он опирается на уже высказанное Аристотелем положение о том, что наука о противоположностях едина (поскольку они обе принадлежат к одному роду). В концептуальном плане он ищет точку соединения противоположностей, понятия-посредники, через которые разрешаются кажущиеся противоречия мира.
«Но найти точку соединения – это еще не самое великое, а вот развить из нее также и ее противоположность – это и есть настоящая и глубочайшая тайна искусства». («О причине, принципе и едином», диалог IV – стр. 275; V – стр. 291)
Таким образом, мы видим, что Бруно, если, с одной стороны, он минимизирует суровость Николая для применения к мирскому, то, с другой стороны, добавляет требование, которое увеличивает сходство с Гегелем. Конечно, между ними все же есть разница, поскольку у Бруно философ должен развивать понятие из его противоположности, тогда как у Гегеля понятие развивается само по себе. То, что диалектика Николая не была для Бруно главной, видно уже из того, что он рекомендует великое искусство Раймунда Луллия с той же, даже с большей теплотой, еще более бессодержательным концептуальным схематизмом, чем у Прокла, не имея, как последний, преимущества опереться на существующую великую систему, какой был для Прокла новый платонизм.
Гегель утверждает, что Бог Спинозы ведет себя диалектически и несет в себе противоречие, будучи причиной самого себя. Если бы Спиноза понимал это так, как понимает Шопенгауэр, сравнивая его с Мюнхгаузеном, вытаскивающим себя из болота за собственную косичку, то Гегель был бы прав. Спиноза, однако, имеет в виду, что Бог есть причина в другом отношении, следствие в другом; а именно: как natura naturans [творческая сила как первооснова вещей – wp] он есть причина самого себя как natura naturata [воплощение сотворенных вещей – wp], или, переводя на современные шеллингианские термины, он как воля или потенция есть причина самого себя как воля или actus. Но в этом нет ничего диалектического или противоречивого. Более того, математически-дедуктивный метод Спинозы полностью противоречит гегелевской диалектике.
6 Кант.
Кант также знаменует собой поворотный пункт в развитии философии. До этого момента вся философия была сосредоточена на вещах; отныне она сосредотачивается на мышлении. Основной вопрос Канта: «Как возможны синтетические априорные суждения?». Он спрашивает об условиях возможности аподиктически определенного и в то же время содержательного познания, при условии, что такое познание существует, в чем он не сомневается. Эти условия и образуют новую философию. Тем не менее, метод в более узком смысле для теоретической философии является эмпирико-психологическим; он просто предлагает иное объяснение фактов, подлежащих объяснению, чем то, которое было принято до сих пор. (Ср. Сочинения Гегеля VI, с. 85—86) В результате он пришел к выводу, что пространство, время, причинность и другие категории являются лишь формами чувственности и понимания, не обладающими трансцендентной реальностью, т. е. не способными служить определением для реализации истины, выходящей за пределы субъективной сферы. Таким образом, если Кант утверждал, что мышление, движущееся в рамках детерминаций понимания, не может прийти к трансцендентной истине, к познанию умопостигаемого, то это не потому, что детерминации понимания конечны, как утверждает Гегель (Werke VI, стр. 123), – ибо пространство и время, формы чувственности, бесконечны и все же лишь имманентны, – но потому, что они имманентны формам субъективных способностей познания, которые не в состоянии ничего сказать о трансцендентном, ибо они вообще не принадлежат ему, а лишь субъекту и присущи ему. Тот факт, что Кант совершает непоследовательность, используя впоследствии только что исключенные категории для познания умопостигаемого, не имеет никакого значения. Что касается самих категорий, то он выдвигает двенадцать из них с наивным замечанием, что, хотя он и владеет их дедукцией, он желает сохранить их при себе по частным причинам. Из двенадцати, которые приводит Кант, как замечает и Гегель (Werke I, стр. 162), три категории модальности вообще не принадлежат к числу категорий, поскольку они представляют собой лишь различные способы представления субъекта, которые не изменяют [verändern – wp] эмпирического объекта. Что касается девяти оставшихся, то я ссылаюсь на критику Шопенгауэра в работе «Мир как воля и представление» (третье издание, т. I, с. 539—559).
Гегель придает особое значение трехчленному делению категорий у Канта, и действительно, оно оказало большое влияние на Фихте; но нетрудно видеть, на каких внешних основаниях и с какой принудительной вложенностью проводится это деление, даже если не принимать во внимание откровенную ложь, которая в нем содержится (например, понятие «взаимного действия»).
Как только Кант сделал своим принципом разделение имманентного и трансцендентного, он, естественно, должен был всячески поддерживать эту новую доктрину и, возможно, показать, что благодаря ей устраняются многие трудности прежней точки зрения. Из этого стремления проистекают паралогизмы и антиномии, которые, однако, несомненно, можно считать ошибочными по отношению к тому, что они призваны доказать. Так, Гегель говорит о паралогизмах (Сочинения VI, с. 101):
«То, что Кант в своей полемике против старой метафизики устранил эти предикаты из души и духа, следует рассматривать как великий результат, но „почему?“ в его случае совершенно ошибочно».
А об антиномиях он говорит (Сочинения VI, с. 105):
«Но теперь, действительно, доказательства, которые Кант приводит для своих тезисов и антитезисов, следует считать просто мнимыми доказательствами, поскольку то, что должно быть доказано, всегда уже содержится в предпосылках, из которых оно предполагается, и только с помощью пролитической апагогической [косвенное доказательство путем демонстрации ложности противоположного – wp] процедуры создается видимость опосредования». (Ср. Гегель, Werke III, pp. 216—226, 274—279 и критику Шопенгауэра в Welt als Wille und Vorstellung, op. cit. pp. 583—594).
Последний совершенно правильно говорит, что третья и четвертая антиномии тавтологичны. Вторая антиномия довольно проста. Дискретная составная субстанция, конечно, может состоять только из частей, а некомпозитная субстанция должна быть простой, но делимой, если она непрерывно заполняет пространство. (Но вопрос о том, является ли материя дискретно составной или непрерывно делимой, никогда не может быть решен априори, а только путем индукции. – Поэтому из антиномий остается вопрос о том, конечен или бесконечен мир в пространстве, времени и причинности. Здесь важно, приписывает ли человек миру трансцендентную реальность или нет. Если да, то бесконечность мира становится невозможной во всех трех отношениях; ведь реальная и совершенная бесконечность была бы противоречием. Такова позиция защитника тезиса, и только с этой позиции он строит свои аргументы. Защитник антитезиса, напротив, стоит на противоположной точке зрения, отрицающей трансцендентную реальность мира; только с этой точки зрения, как показывает Шопенгауэр на страницах 592—594, его аргументы приемлемы.1 Таким образом, кантовская точка зрения, отнюдь не являясь решением антиномии, представляет собой лишь предпосылку одной стороны, а общая точка зрения – другой. Отсюда следует, что на самом деле антиномии нет ни с кантовской, ни тем более с общей точки зрения, а есть только видимость антиномии из-за смешения обеих точек зрения. Настолько очевидно, что Кант придумал эти антиномии ради своего собственного решения, к тому же неудачного, что невозможно понять, как можно было с разных сторон придавать им столь большое значение или как Гегель мог настаивать, после своего собственного суждения, что противоречие доказано как нечто необходимое антиномиями Канта и что эту истину осталось перенести только с четырех космологических антиномий на все остальные вещи.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе