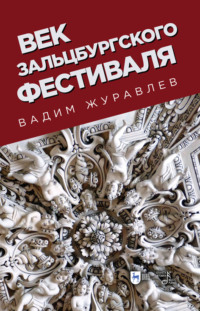Читать книгу: «Век Зальцбургского фестиваля», страница 3
За десять лет эры Мортье Зальцбургский фестиваль окончательно преодолел националистические тенденции и превратился в культурный форум с широкими космополитическими взглядами. Из года в год Мортье сталкивал режиссеров различных театральных школ, стилей, направлений. В первый год постановки Клауса Михаэля Грюбера («Из мертвого дома» Яначека) и Люка Бонди («Саломея» Рихарда Штрауса) соседствовали со спектаклями режиссеров-сценографов Карла-Эрнста Херрманна и Урзель Херрманн («Мнимая садовница» и «Милосердие Тита» Моцарта), а противостояла ей колоссальная мистерия «Святой Франциск Ассизский» Мессиана в шокировавшей зальцбургскую публику версии американца Питера Селларса. В этой борьбе противоположностей уже были заявлены основные принципы нового Зальцбурга: широкий репертуар, включающий как традиционные оперные шедевры, так и значительнейшие оперы XX века; привлечение в оперный театр большого круга режиссеров драматического театра; противопоставление режиссеров, уже утвердившихся в европейском театре, и тех, кто прочно ассоциировался с «молодой кровью». Стоит также отметить, что, в отличие от его предшественников, Мортье обращался только к значительным произведениям музыкального авангарда, которые включались в оперную и концертную программы и также были представлены в регулярных проектах фестиваля под названием «Река времени» (Zeitfluss).
Таким образом, уже в самом начале своего правления Жерар Мортье дал понять, что собирается сохранить лучшие традиции Зальцбургского фестиваля, придав им современное звучание. Сохранив традиционную направленность фестивальных программ на произведения австро-немецких композиторов, он максимально расширил оперный репертуар за счет оперных произведений различных национальных школ, лучших достижений уходящего XX века, современной музыки. Из предложенной Гофмансталем ориентации на эстетику эпохи барокко родился майский фестиваль, посвященный музыкальной культуре этой эпохи. В репертуаре летнего фестиваля Мортье уравнял эстетику эпохи барокко с эстетикой других эпох в европейской культуре. При этом программа летних фестивалей демонстрировала широкое слияние различных видов искусств: архитектуры, музыки, театра, изобразительного искусства (фестиваль сопровождался всевозможными выставками и инсталляциями, связанными с его программой тематически). Мортье использовал не только традиционные театральные залы Зальцбурга, но и максимально возможное количество открытых площадок, и особая театральность Зальцбурга наконец нашла свое реальное воплощение.
Благодаря этому фестиваль стал более демократичным, фестивальная публика помолодела. В видении Мортье художественного развития Зальцбургского фестиваля огромную роль сыграл актуальный для Европы 90-х годов диалог различных культур, эстетических подходов и воззрений. Первые фестивальные программы продемонстрировали желание интенданта сохранить всю широту поисков, свойственных современному театру. Мортье трактовал взаимодействие между режиссерами разных школ и традиций, которое, с одной стороны, демонстрировало острый конфликт, но с другой – вполне соответствовало заявленной программе: обогащение фестивальной традиции за счет произведений композиторов разных национальных школ, за счет режиссеров, представляющих зачастую полярные подходы к интерпретации оперных произведений.
После Мортье
31 августа 2001 года в Зальцбурге давали «Летучую мышь» Штрауса, одну из важнейших для австрийской культуры опер-оперетт. Это был последний день эры Мортье. Человека, на протяжении двух пятилетних контрактных сроков определявшего судьбу главного фестиваля Европы и превратившего так или иначе город Моцарта в своеобразное художественное чистилище для всех мыслящих европейцев. Реализовавшего возможность обращения к зрителям, одни из которых горячо приветствовали его реформы, а другие столь же горячо отрицали. За неделю до этого Мортье прочел свой прощальный доклад, который начинался словами: «Этому моему последнему докладу в Зальцбурге я бы дал подзаголовок „С широко закрытыми глазами“. Вы понимаете, что я имею в виду последний фильм Стэнли Кубрика. Большей частью критиков и некоторой частью публики фильм был отвергнут. Основанием для подобной реакции послужило утверждение, будто формально и технически фильм не достигает высоты предыдущих фильмов мастера… Я говорю об этом потому, что постановку „Летучей мыши“ отвергают как бы не на основании идеологического протеста, но прикрываясь рассуждениями о „некачественности“. И я вижу, что эти люди просто воспринимают определенную ситуацию „с широко закрытыми глазами“, что общество не хочет воспринимать некоторые аспекты своего собственного существования».
Жерар Мортье все минувшие десять лет заставлял практиков театра и внимающих им зрителей отвечать на сложные вопросы: что такое настоящее искусство и каким образом оно находит форму, адекватную человеческому существованию. Даже в широком театральном контексте, характерном для Зальцбурга этих лет и сфокусировавшем все наиболее значимые направления в европейском театре, Мортье не всегда удавалось находить на них ответ, что и заставляло многих зрителей относиться к фестивалю и всей концепции Мортье «с широко закрытыми глазами». Но атмосфера постоянного творческого поиска, определявшая суть фестиваля в последнее десятилетие XX века, способствовала появлению значительных оперных постановок, что, бесспорно, повлияло на развитие оперного театра в Европе. Так, многие крупнейшие практики драматического театра благодаря Мортье теперь еще чаще, чем ранее, обращаются к постановкам оперных произведений. Петер Штайн, Ханс Нойенфельс и другие режиссеры за последние годы сконцентрировали свои поиски целиком в области музыкального театра.
Конечно, Мортье не удалось добиться всего, что он задумал, когда принял пост. Например, так и остался открытым вопрос об истинном духовном наследнике Макса Рейнхардта: в первые годы эры Мортье роль наследника примерял Петер Штайн, позже, в завуалированной форме, Кристоф Марталер. Но это были лишь опыты: оба режиссера являются слишком яркими индивидуальностями и готовы объявить себя «наследниками всей мировой культуры». Тем не менее заявленная в финале фестиваля программа более внимательного отношения режиссеров к оперной партитуре и в то же время активного вторжения в музыкальный текст наверняка получит дальнейшее развитие в будущих спектаклях крупнейших режиссеров.
С другой стороны, интендант фестиваля старательно избегал некоторых явлений в современном оперном театре, например, жестких, отличающихся демонстративным деконструктивизмом работ лучшего, по признанию журнала «Опернвельт» (Opernwelt), немецкого оперного режиссера Петера Конвичного или целого отряда режиссеров из Великобритании (Дэвида Паунтни, Дэвида Олдена, Николаса Хитнера, Мартина Дункана), нашедших пристанище в последние годы совсем близко от Зальцбурга – в Мюнхене. Впрочем, и без учета этих театральных явлений картина Зальцбургского фестиваля в 1992–2001 годах достаточно полно отразила развитие европейского оперного театра.
Но попрощавшийся с фестивалем интендант не зря предчувствовал, что проделанная им работа не получит подкрепления в последующие годы. Преемник Мортье на посту художественного руководителя Зальцбургского фестиваля, австрийский композитор и театральный менеджер Петер Ружичка практически сразу после вступления в должность объявил о пересмотре путей развития фестиваля в XXI веке. Конечно, Ружичка, возглавлявший ранее гамбургскую Государственную оперу и мюнхенский фестиваль современной музыки «Оперные биеннале», принял Зальцбургский фестиваль в довольно тяжелые времена. В австрийском обществе, как и в момент рождения фестиваля в 20-е годы, очень сильны националистические настроения. Поэтому новый интендант сразу объявил о переориентации фестивального репертуара. Теперь программы в Зальцбурге развивались по трем основным направлениям: работа над операми великого зальцбуржца – Моцарта, постановка опер одного из отцов-основателей фестиваля – Рихарда Штрауса, включение в репертуар опер австрийских композиторов XX века (Александра Цемлински, Эрнста Кшенека, Эриха Корнгольда и других).
Тем самым в Зальцбург возвратились идеи баварско-австрийского национализма, от которых фестиваль избавлялся все последние десятилетия, а также появившаяся более ста лет назад идея Моцартовского фестиваля, которая на этот раз была связана с празднованием 250-летия со дня рождения композитора в 2006 году. Новый интендант показал на фестивале все оперы композитора-юбиляра и специально для этого перестроил здание Малого фестивального театра (Kleines Festspielhaus), который отныне стал Домом Моцарта. То есть приоритетное развитие получают концепции, от которых отказались и сторонники общетеатрального фестиваля Рейнхардт с Гофмансталем, и Жерар Мортье, методично вписывавший моцартовское наследие (в том числе и ранние оперы композитора, которые в Зальцбурге практически не ставились) в контекст оперного искусства XX века.
Что касается эстетических принципов нового Зальцбурга, то Ружичка объявил о смене тенденций и пришествии «второго модернизма». За этим громким лозунгом, к сожалению, скрывалось появление в Зальцбурге малоинтересных режиссеров, чей творческий потенциал уже давно исчерпан: Гюнтера Кремера (перенос дрезденской постановки «Любви Данаи» Штрауса), Кристины Милитц («Царь Кандавл» Цемлинского), Дэвида Маквикара («Сказки Гофмана» Оффенбаха) и других.
Проблема эстетического диалога (или конфликта) двух эпох в истории Зальцбургского фестиваля – эры Мортье и последующих лет правления интендантов Петера Ружички, Юргена Флимма, Александра Перейры – была обозначена практически сразу, хотя с 2002 по 2016 год и здесь было немало удачных постановок. К сожалению, никому из этих трех человек не удалось создать внятную концепцию дальнейшего развития фестиваля в Зальцбурге. Петер Ружичка почти не скрывал, что пришел к власти только для того, чтобы провести «моцартовский год» и поддержать современную немецкую музыку, особенно в лице классика Ханса Вернера Хенце. Режиссер Юрген Флимм, много и охотно ставивший в театрах Германии, Австрии и Швейцарии, сбежал раньше времени в Берлин, прекрасно понимая, что не всякому по плечу жить под постоянным перекрестным огнем критики и публики на берегах реки Зальцах. Фестиваль на родине Моцарта – это фактически бесконечная тема для обсуждения всеми гражданами Австрии. Хотя многие не могут себе позволить ездить сюда, но уж участвовать в общественных дискуссиях можно совершенно бесплатно.
Мне довелось встречаться и с Ружичкой, и с Флиммом, когда я стал работать в Большом театре. С первым мы обсуждали возможность создания совместной постановки оперы «Волшебная флейта» Моцарта, которую и в Москве, и в Зальцбурге собирался ставить английский режиссер Грэм Вик. Господину Ружичке эта идея очень понравилась, а вот Грэм Вик решил, что аудитории в Москве не будут понятны его зальцбургские идеи, и наоборот. Таким образом, он реализовал подряд две постановки моцартовской мистерии, конечно, одной суждено было получиться плохо. На наше счастье, это была именно постановка в Зальцбурге, которой дирижировал Риккардо Мути. Московский спектакль оказался куда интереснее, у него была и жизнь сценическая длиннее. И я не мог этому не радоваться.
И Ружичке, и Флимму, который приехал в Москву в 2008 году для презентации фестиваля российской публике, я предлагал одну интересную, на мой взгляд, идею. В 1928 году Оперная студия Ленинградской консерватории ездила в Зальцбург на гастроли с несколькими спектаклями. Среди них была опера «Каменный гость» Даргомыжского. Вот я и предлагал руководителям фестиваля сделать совместную постановку этой оперы, которая могла бы пойти как экзотическая добавка к очередной версии «Дон Жуана» Моцарта. Увы, эта идея пока так и не реализована и ждет своего часа, который наступит однажды, я уверен.
Но то, что сделали в Зальцбурге эти два руководителя, все равно было лучше, чем то, что натворил здесь их наследник Александр Перейра. В свое время прославившийся организацией торговли пишущими машинками, этот человек многие годы возглавлял оперный театр в Цюрихе. И там, где многие артисты мечтали работать ради получения возможности жить, иметь счет в банке, платить налоги в Швейцарии, Перейре и делать ничего не надо было особенно. Таким образом он заполучил на многие годы в почти штатные артисты театра дирижера Николауса Арнонкура и певицу Чечилию Бартоли, которая сегодня где можно защищает своего первого интенданта. Увы, при Перейре, на мой взгляд, фестиваль окончательно превратился в какой-то филиал традиционного оперного театра.
Главным достоинством Зальцбургского фестиваля все годы была эксклюзивность: репертуарная и исполнительская. Многие певческие составы не собирала даже Венская опера, и они стали настоящими легендами послевоенной поры. Особенно это касалось спектаклей, которыми дирижировали Фуртвенглер, Караян, Бём. Жерар Мортье решил создавать свою команду звезд. И многие из тех, кто выступал в Зальцбурге, при нем очень быстро вошли в клуб оперных звезд, достаточно вспомнить имена Ангелы Деноке, Вессел ины Касаровой, Эльжбеты Шмитки, Доротеи Рёшманн, Маттиаса Гёрне, Сильвии Макнир, Натали Дессей, Деборы Поласки и многих других певцов. В эпоху правления Александра Перейры фестиваль стал набирать крен в сторону международных звезд. Те, кто получал признание в крупнейших театрах мира, стали постоянными участниками и летних зальцбургских программ. Этот вектор фестивального движения, к сожалению, сегодня уже не изменить никакими усилиями.
На наших глазах фестиваль стал приобретать ту ярмарочность, от которой пытался убежать многие десятилетия. Если вы внимательно посмотрите на программы прошлых лет, то увидите, что повторять спектакли было вовсе не зазорно. Мало того, публика была готова вновь и вновь слушать уже полюбившихся артистов в известных им постановках. Или смотреть, как новые члены театрального состава осваиваются в старых постановках. Это тоже был предмет интересного обсуждения: кто лучше справился с постановкой, состав прошлого года или нынешнего?
Признаюсь, я многого ждал от прихода к власти нынешнего интенданта Маркуса Хинтерхойзера, который начинал свою менеджерскую карьеру именно в команде Жерара Мортье. В те годы он как раз занимался специальным проектом «Река времени», связанным с современной музыкой. Ему даже удалось год поруководить фестивалем в связи с бегством Юргена Флимма, но проявить себя в это время как полноценный художественный руководитель он, конечно, не успел.
И вот с 2017 года Маркус Хинтерхойзер получил полный карт-бланш. Мало того, его контракт на сегодняшний день продлен аж до 2026 года. И именно на его плечи легла непростая задача сделать интересную и значительную программу в год столетия создания фестиваля. Думаю, что от этого зависит и дальнейшая судьба его карьеры руководителя таких крупных институций в Австрии и Европе. До этого Хинтерхойзер тренировался на фестивале Wiener Festwochen («Венские фестивальные недели»), который традиционно программой походил на Зальцбургский фестиваль. Его программа состояла из оперной, театральной и концертной ветвей. Хинтерхойзер не стал заниматься тем, что не знал, и на театральную программу три года приглашал кураторов, причем даже не только из Австрии. Так, один год драматическую программу венского форума возглавляла театральный критик из России Марина Давыдова. Маркус Хинтерхойзер на посту директора Wiener Festwochen особенно ничего выдающегося не создал, но это была для него хорошая практика. И в историю он, кажется, вошел в тот момент тем, что оказался единственным интендантом, который расторг контракт с Дмитрием Черняковым после того, как российский режиссер и сценограф задержал сдачу контракта. А речь шла о постановке единственной бетховенской оперы «Фиделио» в том самом театре An der Wien, где и прошла ее мировая премьера в 1805 году.
Маркус Хинтерхойзер (Markus Hinterhauser) родился в 1958 году. Учился в Венской консерватории и зальцбургском Моцартеуме как пианист у Елизаветы Леонской и Олега Майзенберга. Сотрудничал со знаменитой певицей Бригиттой Фассбендер и Ардитти-квартетом. Часто исполняет музыку XX века, произведения Джона Кейджа, Мортона Фельдмана, Галины Уствольской. Сегодня одним из постоянных его партнеров по сцене является Маттиас Гёрне.
Первый же фестиваль в Зальцбурге под руководством Хинтерхойзера заставил поверить, что он и будет достойным наследником эры Мортье на этом посту. Его концепция сразу стала очевидной и предложила довольно необычный вектор развития фестиваля. Как любой музыкант – а Хинтерхойзер все же концертирующий пианист, – он явно испытывает недоверие к концептуальному режиссерскому театру, сформировавшемуся за последние века в немецком и европейском театральном пространстве. То есть в своем видении фестиваля он отводит ему ограниченное пространство, а не то чтобы вовсе отказывается.
Маркус Хинтерхойзер в первую очередь обращает свой взор на режиссеров-художников разных жанров, тех, кто склоняется к театру ритуальному, визуальному, пластическому. Тем самым полноценное режиссерское мизансценирование вызывает у молодого интенданта сомнение в принципе, и он предпочитает ему пластические этюды или видеоинсталляции, лишь бы они соответствовали музыке. «Театра художника» в первый год в полной мере проявил себя в спектаклях «Аида» Ширин Нешат, «Воццек» Уильяма Кентриджа, «Коронация Поппеи» Яна Лауэрса, «Саломея» Ромео Кастеллуччи, «Эдип» Ахима Фрайера. Из далеких 90-х в Зальцбург при Хинтерхойзере переехал, пожалуй, только Питер Селларс с его ритуальными постановками «Милосердия Тита» и «Идоменея».
За более привычный режиссерский театр отвечали спектакли «Леди Макбет Мценского уезда» и «Симон Бокканегра» Андреаса Кригенбурга, «Пиковая дама» Ханса Нойенфельса, «Медея» и «Лир» Саймона Стоуна, «Вакханки» Кшиштофа Варликовского, «Волшебная флейта» Лидии Стайер.
Не беру в расчет спектакли, которые попадают в программу летнего фестиваля из младшего брата фестивального холдинга, Троицкого барочного форума, возглавляемого Чечилией Бартоли. Полноценные постановки там не имеют шансов окупиться даже частично в связи с небольшой продолжительностью фестиваля. Поэтому в августе повторы этих спектаклей помогают и с лихвой вернуть финансовые вложения, и показать нынешней зальцбургской публике тех, кого она только и хочет видеть. А Чечилия Бартоли возглавляет этот список наравне с Анной Нетребко.
В год столетия эти искания интенданта будут продолжены по аналогичным направлениям. Два режиссера-художника выступят создателями спектаклей «Дон Жуан» (Ромео Кастеллуччи) и Intolleranza 1960 (Ян Лауэре). Кшиштоф Варликовский поставит «Электру», а Кристоф Лой «Бориса Годунова». Но особенно странным выглядит, конечно же, желание Хинтерхойзера удовлетворить самые низменные желания публики и предложить ей уже старую (и изначально не выдающуюся) постановку «Тоски» Михаэля Штурмингера только ради участия семейной четы Нетребко-Эйвазов.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе