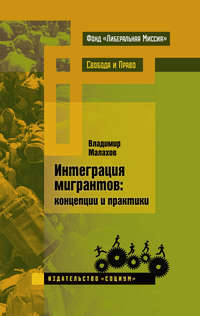Читать книгу: «Интеграция мигрантов: концепции и практики», страница 3
Тема интеграции мигрантов в европейских публичных дебатах
В общественно-политических дискуссиях Западной Европы выражение «интеграция мигрантов» появляется не ранее 1980-х годов. До этого времени сам вопрос о включении приезжих в национальное сообщество либо казался неактуальным, либо сознательно отвергался. Неактуальным он казался прежде всего потому, что в странах, сделавших в 1950-е ставку на трудовую иммиграцию, публика и элиты исходили из иллюзии временности этого явления. Предполагалось, что после официального прекращения найма иностранной рабочей силы (1973–1974) «гостевые работники» вернутся на историческую родину. Правда, в ряде стран имела место постколониальная иммиграция, ставшая достаточно заметной в 1960–70-е годы. Однако тема интеграции выходцев из бывших колоний тогда практически не обсуждалась. Почему? Похоже, что это было связано со спецификой тогдашней идеологической ситуации43. В ту пору подобная тема не приветствовалась ни на левом, ни на правом фланге политико-идеологического поля.
Для правых разговоры об интеграции мигрантов были равносильны призыву к размыванию этнокультурных границ нации. С их точки зрения, для мигрантов существовало лишь две опции: либо полная ассимиляция, либо депортация.
Левые не принимали выражение «интеграция мигрантов» по другой причине. Они усматривали в самой этой теме проявление социальной инженерии, или, используя лексику М. Фуко, дисциплинарную практику: навязывание обществу со стороны правящего класса некоего унифицированного образца поведения. Так, в частности, обстояло дело во французских дискуссиях 1970–80-х годов. Позиция левых во Франции того времени сводилась к риторическому вопросу: как можно требовать интеграции в общество от человека, который уже живет в этом обществе?
В Великобритании на подозрительность левых по отношению к государственной машине накладывалась проблематика антирасизма. Интеллектуалы левой ориентации были не только готовы изобличить государственные институты в неизжитом расизме, но и усмотреть в иммигрантских культурах очаги культурного сопротивления капитализму.
Наблюдатели обратили внимание на следующую особенность британского публичного дискурса той поры. Это либеральный консенсус, который объединял и левых и правых. Частью этого консенсуса было стремление удержать на периферии общественного внимания такие острые темы, как притязания меньшинств (от ирландцев в Северной Ирландии до выходцев из Индостана в Лондоне), с одной стороны, и ксенофобские настроения среди местного населения – с другой. Поэтому любой кабинет министров, будь он лейбористский или консервативный, объявлял своим приоритетом «гармонизацию этнических/расовых отношений»44.
Тональность и направление публичных дебатов заметно изменились в конце 1980-х. Толчком к изменению послужило прежде всего «дело Рушди».
В 1988 г. в Великобритании был опубликован роман писателя индийского происхождения Салмана Рушди «Сатанинские стихи», в одной из глав которого в оскорбительном для мусульман духе был изображен пророк Мухаммед. Это вызвало возмущение в исламском мире, а многими было истолковано как сознательная провокация. В феврале 1989 г. иранский духовный лидер аятолла Хомейни выпустил фетву, в которой призывал правоверных предать смерти автора скандального романа. В результате возникла политическая и культурная коллизия, которая расколола британское общество и получила широкий резонанс в других западноевропейских странах. Большинство британцев не усмотрели в публикации романа Рушди никакой проблемы, зато видели проблему в чрезмерно эмоциональной, по их мнению, реакции на эту публикацию со стороны мусульман. Британские мусульмане, напротив, сочли роман Рушди проявлением неуважения к своим религиозным чувствам (и, шире, к своей культурной идентичности), о чем некоторые из них публично заявили, выйдя на демонстрации. И хотя участники демонстраций не солидаризировались со столь крайней позицией, как позиция иранского аятоллы (и вообще не считали Хомейни непререкаемым авторитетом45), в глазах европейцев сами эти демонстрации символизировали наметившийся в обществе водораздел. Если это и не был водораздел между приверженцами христианства и приверженцами ислама (в силу индифферентности многих европейцев к религии), то это был водораздел между теми, кто почувствовал себя оскорбленными романом Рушди, и теми, для кого свобода выражения – ценность, без сомнения, более высокая, чем уважение чьих-либо религиозных чувств.
Столь же важное символическое (и, если угодно, политическое) значение имело так называемое дело о платке (foulard affaire), которое развернулось во Франции в том же 1989 г. В государственной школе в небольшом городе под названием Крей три ученицы отказались выполнить требование руководства школы и снять головной платок, указывающий на принадлежность к исламу (хиджаб), за что были исключены из школы. За исключением последовала апелляция родителей, а за ней – длительное разбирательство и горячие общественные дебаты. В ходе дебатов высказывалось опасение, что платок на голове девочек представляет собой символ религиозного прозелитизма, несовместимого ни со светским характером школы, ни с Конституцией Французской Республики. Кроме того, сторонники запрета хиджаба утверждали, что его ношение продиктовано не свободным выбором учениц, а волей отца или других мужчин – членов семьи. Тем не менее тогда было решено разрешить ношение хиджаба в школах и отменить решение дирекции об исключении девочек. Власти рассудили, что, во-первых, признаки прозелитизма в ношении платка отсутствуют и, во-вторых, усмотреть здесь проявление несвободного выбора нельзя – уже по той причине, что отец двух из трех исключенных учениц был евреем и вряд ли мог навязать дочерям символ исламской религии (новый виток общественно-политических дебатов по тому же вопросу начнется пятнадцатью годами позже, и на сей раз решение властей будет вынесено в пользу запрета)46.
Как бы то ни было, дискуссии вокруг «дела Рушди» и «дела о платках» высветили проблему, имеющую множество аспектов – и социально-психологический, и социально-культурный, и культурно-политический. Некоторые даже были готовы усмотреть здесь геополитический аспект (а именно проявление глобального противостояния двух «цивилизаций» – европейско-христианской и исламской), но столь радикальный взгляд на вещи большинством участников дискуссий не разделялся47.
Таков фон, определивший изменение характера публичных дебатов на рубеже 1980–90-х годов. В левом лагере намечается поворот к идеологии ассимиляционизма, а в правом – движение в сторону идеологии, получившей название «дифференциализм»48. В речах тогдашнего лидера «Национального фронта» Жана-Мари Ле Пена и его сторонников акцент смещается с «уважения к республиканским ценностям» на «уважение к различиям». Если прежде главным предметом озабоченности националистов во Франции была способность местного общества переварить массы приезжих, то теперь они выносят на первый план вопрос о сохранении культурной идентичности. Акцент при этом ставится на сохранении культурной идентичности «коренных французов», которые – так же как и иммигранты – имеют право на различие. На практике это означает отказ от контактов с представителями из иных культурных сред, прежде всего с мигрантами из исламского мира49.
Для публичных дебатов 1990-х характерно увлечение идеями культурного плюрализма (мультикультурализма). Однако флирт с мультикультурализмом продлился недолго и уже в 2000-е сменился разочарованием50.
Интеграция мигрантов в европейском официальном дискурсе
Упомянутый в предыдущем параграфе сдвиг в понимании культуры коснулся не только европейских академических дискуссий. Он затронул и язык, которым пользуется бюрократия. Говоря о культуре, европейские чиновники все чаще апеллируют не к этническому, а к политическому смыслу этого понятия. Культура той или иной страны, входящей в Евросоюз (и тем более культура Европы в целом), мыслится не столько как совокупность традиций и обычаев определенного народа (то есть нечто партикулярное), сколько как совокупность норм и ценностей, связанных с универсальной традицией гуманизма и просвещения.
Спикеры парламентов и правительств исходят из того, что принадлежность к европейской культуре характеризуется прежде всего верой в неотчуждаемые права человека и приоритет индивида над притязаниями каких-либо коллективов. А коль скоро это так, то вопрос о культурной идентичности – это вопрос индивидуального выбора. Каждый человек сам волен определять, к какой культурной традиции он принадлежит. Он может выбрать себе культуру – причем совсем не ту, которой «принадлежит» по рождению. Никто не вправе навязывать индивиду определенный образ мыслей или образ жизни (то есть определенную идентичность). А если такое навязывание имеет место, то оно должно быть отвергнуто как несовместимое с базовыми ценностями либеральной демократии. Ведь подобная практика означает нарушение автономии индивида, его права на личное достоинство, на выбор определенного представления о благе и т. д.
Отсюда вытекает то важное следствие, что приобщение к культуре принимающих стран, которое ожидается от мигрантов («культурная адаптация»), необходимо трактовать как приобщение к политическим ценностям либеральной демократии, а не как адаптацию к ценностям той или иной этнически укорененной культуры. Эти ценности – равенство, уважение к закону и т. п. – есть ценности универсальные, восходящие к всеобщим моральным императивам, а не партикулярные, связанные с той или иной национальной историей.
Универсалистская интерпретация культуры была главной причиной, по которой разработчики Европейской конституции решили воздержаться от упоминания христианства. Несмотря на многочисленные призывы, звучавшие на стадии обсуждения, включить в преамбулу этого документа пассаж о христианстве как основе культурно-исторической традиции континента (или, в другой редакции, отсылку к «иудео-христианскому наследию» Европы), эти предложения приняты не были. Текст Конституции ЕС выдержан в нейтральном духе. Эта нейтральность сигнализирует и о приверженности современной Европы принципам секуляризма, и об ее открытости культурным изменениям. Просматривается и сигнал, посылаемый неевропейской части человечества: Европейский союз не есть закрытый клуб, членство в котором обусловлено принадлежностью к определенной религии.
Не последнюю роль здесь играет и месседж в отношении населения иммигрантского происхождения. Европа берет на себя обязательство обращаться с новоприбывшими жителями как с равными, независимо от культурной идентичности последних51. Более того, предполагается, что процесс формирования идентичностей будет происходить в ситуации взаимодействия различных культурных установок. Примечателен в этой связи доклад Федеральной комиссии по иностранцам, выпущенный в Германии в 2000 г. В разделе, посвященном интеграции новоприбывшего населения, недвусмысленно заявлено, что единой немецкой культуры не существует и что немецкое общество состоит из «множества сосуществующих жизненных стилей»52. Отсюда делается вывод, что требовать от иммигрантов ассимиляции (в «немецкую культуру») нельзя53.
Правда, столь благожелательное отношение к культурному плюрализму было свойственно официальному дискурсу далеко не всех европейских государств. Да и в Германии, пошедшей по пути поощрения разнообразия дальше многих своих соседей (по крайней мере, на уровне риторики), в 2000-е годы тональность речей чиновников меняется. После событий 11 сентября 2001 г. немецкая бюрократия, как и бюрократия многих других западноевропейских государств, постепенно разворачивается в сторону идеологии «гражданской интеграции».
Интеграция как процесс и как административно-политическая практика
Говоря об интеграции мигрантов, нельзя забывать, что перед нами многомерное явление. В этой проблематике следует выделить два уровня: процесс (протекающий более или менее стихийно) и политику (осуществляемую с большей или меньшей степенью последовательности, но, во всяком случае, сознательно). Таким образом, выражение «интеграция мигрантов» обозначает, с одной стороны, определенную совокупность административных мероприятий, то есть усилий государства и его аппарата по включению новоприбывшего населения в институты страны. С другой стороны, интеграция мигрантов – это объективно протекающие процессы интегрирования, то есть нечто, происходящее независимо от чьих-либо субъективных усилий.
Приоритет, безусловно, принадлежит именно этой стороне. Как отмечал Никлас Луман, в условиях современных обществ верить в возможность «оркестрованной сверху» интеграции – наивность. Для этого современные – функционально дифференцированные – общества слишком сложны.
Итак, перед нами своего рода коллизия: административные решения vs. самоорганизация общества. Следствие этой коллизии – расхождение двух процессов: управляемой интеграции (то есть результата продуманных, опирающихся на определенную концепцию усилий, предпринимаемых ответственными госорганами) и интеграции непреднамеренной, которая происходит помимо чьих-либо усилий.
Ученые, изучавшие этот процесс, обратили внимание на следующий парадоксальный феномен. Интеграция мигрантов представляет собой непреднамеренный результат их действий. Отдельные индивиды могут вовсе не ставить перед собой такой цели, как интеграция в жизнь принимающей страны54. Более того, они субъективно могут даже сопротивляться такой интеграции. Подобная стратегия поведения характерна, в частности, для тех, кто планировал провести в стране иммиграции некоторое время, после чего вернуться на родину. Так, многие десятки (если не сотни) тысяч турок, заключавших в начале 1960-х годов трудовое соглашение с немецкой фирмой, и в мыслях не имели остаться в Германии навсегда. Их мечтой было заработать достаточную сумму денег, чтобы затем, вернувшись в Турцию, открыть свое дело, построить дом или просто использовать накопленные средства на благо семьи. Но жизнь распорядилась иначе, и они «застряли» в Германии до конца жизни55. (Предоставим читателю самому провести аналогии с таджиками и азербайджанцами в России.)
Различие между управляемой и непреднамеренной интеграцией имеет, впрочем, и другой аспект. Он заключается в том, что управление процессами интеграции – в той мере, в какой они вообще поддаются управлению, – обычно происходит в рамках институтов, созданных для иных целей56.
Так, иностранцы, в массовом порядке привлекавшиеся во Францию в течение последней трети XIX столетия (особенно после поражения Франции в войне с Пруссией в 1871 г.), были нужны этой стране прежде всего в качестве солдат. Соответственно, институтом их социализации – и последующего «превращения во французов» – выступала армия. Равным образом совсем не с целью интеграции мигрантов создавались в Западной Европе и институты социальной защиты (welfare state). Между тем вовлеченность в эти институты в значительно большей мере обеспечивает социальное включение мигрантов, чем специально созданные для этой цели министерства, агентства и комиссии. Скажем, система дошкольного образования, существующая в Швеции (бесплатные ясли и детские сады), охватывает более 80 % всех живущих в стране детей начиная с самого раннего возраста. Это позволяет обеспечить владение шведским языком подавляющим большинством молодежи мигрантского происхождения (хотя понятно, что сама эта система первоначально создавалась без адресации к мигрантскому населению). Другой пример: законы о защите труда, действовавшие в ряде государств континентальной Европы и Скандинавии в течение четырех послевоенных десятилетий. Потеряв работу, гостевой рабочий имел такое же право на пособие по безработице, как и коренной житель. Получение пособия (равно как и наличие социального жилья и ряда других льгот) удерживало его от маргинализации, или, говоря проще, от того, чтобы скатиться на дно общества. Если выплата пособия по безработице или нетрудоспособности может быть возложена на работодателя, то прочие расходы несет в основном государство. Понятно, что это означает немалую нагрузку на бюджет. Тем не менее до недавнего времени в западноевропейских странах существовало политическое согласие относительно оправданности данных расходов. В основе этого консенсуса лежало убеждение в том, что отказ от таких расходов чреват тяжелыми социальными последствиями, то есть в конечном итоге обойдется обществу еще дороже.
Тезис о коллизии между «преднамеренной» (организуемой чиновниками) и «стихийной» интеграцией уместно заострить. В частности, имеет смысл подчеркнуть, что бюрократическая машина как таковая не слишком хорошо приспособлена к работе со сложной социальной материей. Формальные предписания и инструкции в принципе не способны охватить общественную реальность во всем ее многообразии.
Так, в 1970-е годы в школах ряда западноевропейских стран существовали уроки на родном языке для детей мигрантов57. В Германии и Австрии это были уроки на турецком для выходцев из Турции, а во Франции и Нидерландах – на арабском для выходцев из Марокко. Но дети из Турции нередко происходили из курдских семей, и турецкий они едва понимали, а марокканские дети, которые вполне могли оказаться берберами, не всегда понимали арабский.
Кроме того, выяснилось, что сама инициатива проводить уроки на языке страны происхождения не поддерживалась большинством мигрантского населения. Детьми – потому, что они не хотели быть белыми воронами в своем классе. Родителями – потому, что они стремились к максимальным успехам своих чад в школе (обучение же по специальным программам этому препятствовало)58.
Еще одна иллюстрация того же тезиса: поддержка государством (в частности, в Нидерландах и Швеции) создания мигрантских организаций по национальному признаку то есть по признаку общей страны происхождения. В результате членами одной организации оказывались представители групп (этнических, идеологических или конфессиональных), отношения между которыми традиционно являются напряженными, если не враждебными. Таковы, в частности, отношения турки vs. курды, левые vs. исламисты, алевиты vs. сунниты и т. д.
Неприспособленность бюрократической машины к работе с тонкой социальной материей позволяет поставить вопрос о непреднамеренных следствиях административных решений. В том числе о результатах, обратных тем, которых хотели достичь, принимая данные решения.
Так, стремясь преодолеть социальную уязвимость мигрантов, связанную с их этнической и расовой принадлежностью, власти ряда государств (уже упомянутых Нидерландов и Швеции, а также Великобритании59) способствовали созданию этнических организаций. Однако, по мнению многих наблюдателей, эта практика привела к результатам, прямо противоположным намерениям властей. А именно к еще большей социальной уязвимости выходцев из мигрантской среды. Финансовая и инфраструктурная помощь «этническим меньшинствам» (по сути – определенным группам, выделенным на основе бюрократических критериев) побуждала людей, приписанных к этим меньшинствам, замыкаться внутри узкого сообщества. В результате был дан дополнительный толчок анклавизации и «добровольной сегрегации» мигрантов и их потомков.
В специальной литературе подобные явления описываются в категориях расиализации и этнизации. Эти понятия обозначают такой (объективный) процесс и такой способ его (субъективного) истолкования, когда отношения между людьми (то есть в конечном итоге между группами интересов) предстают как отношения между расами/этносами. В той мере, в какой социальные конфликты воспринимаются самими их участниками как конфликты, порожденные расовыми/этническими различиями, они расиализируются (этнизируются)60. Дополнительный вклад в этот процесс вносит то обстоятельство, что наблюдатели (социологи, журналисты и т. д.) также интерпретируют имеющиеся конфликты в расово-этнических терминах.
Глава 3. Национальные контексты
Национальные особенности в обсуждении проблематики интеграции иммигрантов
То, как различные государства обращаются с иммиграцией и иммигрантами, разнится в зависимости от целого ряда обстоятельств. Это обстоятельства исторического и культурно-политического свойства.
Исторические обстоятельства связаны в первую очередь с тем, какую роль играли иммиграционные процессы в формировании той или иной нации. Кроме того, они связаны с особенностями иммиграционного опыта, накопленного конкретной страной.
Неслучайно в социально-политической литературе принято деление современных государств на иммиграционные: США, Канада, Австралия и Новая Зеландия – и национальные, к каковым относят, в частности, страны Западной Европы (хотя, разумеется, все современные государства по умолчанию суть национальные государства, или нации-государства)61.
Все мигранты, прибывавшие в Новый Свет на протяжении двух столетий, хотели стать американцами. Не англичанами, а именно американцами. И шотландцы, и шведы, и немцы, и норвежцы (и, разумеется, англичане – в силу политических разногласий с английской короной). Поскольку Америка – это новая нация, основанная на общности ценностей и общности «мечты», ассимиляция в американскую нацию не была насильственной. То, какая часть этнокультурного опыта той или иной группы (религия, язык и т. д.) будет удержана, – предмет выбора, а не дискуссий. Вот почему так называемая дефис-идентичность (hyphen identity) – «американец n’ского происхождения» (итальянского, ирландского, еврейского, греческого, польского и т. д.) – реальность публичного пространства. Но «француз n’ского происхождения» – вещь невозможная. Точнее, она возможна лишь в приватной сфере. В публичной сфере есть только «французы»62.
Различия в характере нациостроительства повлекли за собой различия в устройстве публичного пространства. В европейских странах воспоминания об этническом происхождении мигрантов вытесняются в приватную сферу, тогда как в США этого не требуется. Признаки этнокультурной отличительности вполне легитимно присутствуют в публичной сфере. Поэтому меньшинства здесь «видимы», тогда как в Европе они в известном смысле «невидимы». Неслучайно столь сильно отличается судьба евреев и итальянцев, мигрировавших во Францию и в Северную Америку. В американских городах до сего дня сохранились и еврейская и итальянская общины – со своими организациями, лидерами, символами, праздниками и т. д. Ханука, например, широко отмечается в США (не имея, впрочем, статуса национального праздника). И хотя Little Italy (итальянские кварталы) в Нью-Йорке сегодня представляют собой туристический аттракцион (поскольку выходцы из этих кварталов давно переселились в разные районы, сообразно своему достатку), американцы итальянского происхождения заметны в общественной жизни. Во Франции же потомки и итальянских и еврейских мигрантов в большинстве своем утратили признаки, указывающие на их этническое происхождение. Кому придет в голову, скажем, считать Ива Монтана итальянцем? Этнические корни многих знаменитых французов спрятаны столь далеко, что о них знают лишь в узком кругу63.
Франция, правда, представляет собой особенный случай. Якобинская традиция придала французской приверженности к ассимиляционизму черты одержимости64. Здесь не признается даже термин «меньшинство». Франция отказалась присоединиться к Европейской конвенции о защите языков национальных меньшинств, мотивируя свой отказ тем, что во Франции нет национальных меньшинств.
И все же очевидно, что другие страны Европейского континента65 тяготеют скорее к французскому, чем к американскому пониманию «национальной интеграции».
Канада и Австралия, относимые к иммиграционным странам, несмотря на все свои отличия от США66, обнаруживают гораздо больше общих черт с Соединенными Штатами, чем с европейскими государствами. Можно назвать четыре параметра их специфичности.
1. Для них характерна установка на прием мигрантов на постоянное жительство. Эта установка проявляется, в частности, в системе квот на получение грин-карты в США и в балльной системе для лиц, желающих иммигрировать в Канаду и Австралию.
2. В государствах этой группы действует более мягкое законодательство о гражданстве, чем в Европе. Главная особенность этих законодательств заключается в том, что оно предусматривает так называемое право земли, или право почвы (jus soli)67. Факт рождения на территории страны является основанием для получения гражданства. В США это до сих пор единственное и достаточное основание. В Канаде и Австралии введены некоторые ограничения, однако они принципиально не изменили того правового положения, благодаря которому дети иммигрантов автоматически становятся гражданами. В Европе единственным государством, где до недавнего времени действовало безусловное право земли, была Ирландия68. Даже во Франции, где со времен Третьей республики существует облегченный режим натурализации иммигрантов, действует так называемое двойное право земли (на практике означающее автоматическое вступление в гражданство внуков родившихся на территории страны иностранцев).
3. В общественно-политическом пространстве иммиграционных стран организации, создаваемые мигрантами, играют гораздо более заметную роль, чем в обществе и в политике национальных государств Западной Европы.
4. Принципиальное различие между иммиграционными странами Нового Света и национальными государствами Старого Света заключается также в том, кто выступает основным агентом интеграции. В Европе таким агентом является по преимуществу государство, тогда как за океаном – рынок и общество (церковь, профсоюзы и неправительственные организации).
Что касается влияния особенностей иммиграционного опыта конкретной страны на то, как она обращается с иммиграцией и иммигрантами, то здесь существенным является различие между постколониальной и трудовой иммиграцией.
Одно дело – бывшие империи и совсем другое дело – государства, не имевшие значительных колониальных владений (или утратившие таковые в относительно давние времена)69. Страны с имперским прошлым (Франция, Великобритания, Нидерланды) вводят для своих бывших подданных особый режим въезда и предоставления гражданства – от автоматического получения паспорта бывшей метрополии до облегченных правил натурализации70. Присутствие на территории государства иммигрантов из бывших колоний – суринамцев в Нидерландах, магрибинцев во Франции, индийцев, пакистанцев, бангладешцев и афрокарибцев в Великобритании – рассматривается как более или менее неизбежное (по крайней мере, так обстояло дело в течение первых десятилетий после деколонизации). Страны без имперского прошлого имеют дело лишь с въездом людей, не связанных с ними историческими узами. Это в основном трудовые мигранты, которые, как предполагается, прибывают на время. Отсюда различие между миграцией с целью расселения на постоянное жительство (migration for settlement) и трудовой миграцией (labor migration), принятое как с социологической литературе, так и в языке бюрократии. Правда, это различие на практике релятивизируется, поскольку значительная часть трудовых мигрантов, многократно продлевая вид на жительство, в конечном итоге остается в принимающей стране навсегда. Кроме того, все государства, относящиеся к благополучному золотому миллиарду, принимают определенное число беженцев (refugees) и соискателей политического убежища (asylum seekers). Если в случае беженцев еще можно ожидать их возвращения в страну исхода, то в случае соискателей убежища – если ходатайство о предоставлении политического убежища удовлетворено – принимающие страны имеют дело с потенциальными новыми гражданами71.
Теперь настало время остановиться на особенностях политической культуры и институционального устройства конкретных стран. Как эти особенности сказываются на отношении их обществ и государств к иммиграции и иммигрантам?
Принципиальное обстоятельство, которое следует отметить в данной связи: рассматривает ли государство иммигрантов как отдельных индивидов или как членов определенных сообществ. Иными словами, обращается ли государство с новоприбывшим населением как с совокупностью индивидов или как с совокупностью «меньшинств». В первом случае взаимодействие между институтами принимающей страны и иммигрантами строится по модели «государство/ индивиды». Во втором случае между государством и иммигрантами признается посредник в виде религиозной или этнической общины. В большинстве западных стран утвердился первый из данных подходов. Однако в ряде государств (Канада, Великобритания, Нидерланды и Швеция) получил распространение второй подход72.
Другое существенное обстоятельство, определяющее способ обращения той или иной страны с иммиграционной проблематикой, связан с устройством государственно-церковных отношений. В частности, с тем, каков в данном государстве правовой статус религии и каков исторический контекст взаимодействия институтов государства и церкви. Одним государствам свойственно строгое следование принципу секуляризма, тогда как другие не слишком последовательны в его проведении. В сегодняшних Соединенных Штатах, например, государство подчеркивает свою равноудаленность от всех конфессий73, а во Франции принцип секуляризма приобрел наиболее радикальный облик. Он называется здесь лаицизмом и означает не просто отделение государства от церкви, но и «очищение» публичной сферы от какого-либо присутствия религии74. В то же время в целом ряде современных европейских стран существует государственная религия75, а там, где такой институт формально отсутствует, определенная церковь является привилегированной фактически. Наконец, есть государства, которые провозглашают себя патроном всех действующих на его территории религий (точнее, тех, которые государство признает). Например, в Бельгии считаются официальными шесть конфессий: католицизм, протестантизм, православие, англиканство, иудаизм и ислам (получивший такой статус в 1974 г.). Образуемые представителями этих конфессий ассоциации пользуются финансовой и инфраструктурной поддержкой властей.
То, как устроены отношения между государством и религиозными организациями, имеет особое значение прежде всего для выходцев из мусульманских стран76.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе