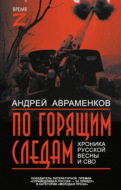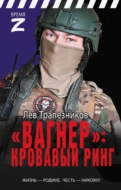Читать книгу: «Непокоренные. Война и судьбы», страница 2
– Странно, – удивился один из вошедших, – я позавчера вроде запер дверь, а она открыта… Склероз чертов. А какой-то хмырь воспользовался этим. Постель смята, полотенце скомкано… Вот же гад, в качестве благодарности за ночлег напялил мой спортивный, а свое барахло оставил.
– Прочее имущество цело? – полюбопытствовал второй, хриплоголосый, судя по тяжелым шагам, обутый в берцы.
– У меня из ценностей, командир, сети да каменная баба.
– На кой хрен эту дуру в избушку затащил?
– Чтобы не изнасиловали.
– Ну-ка разверни куртку левым рукавом к окошку… Да, товарищ егерь, непростой гость у тебя ночевал. Нацик из карательного батальона.
– Как определил?
– На шевроне «Волчий крюк». Их метка. Жаль, что гость слинял до нашего приезда. Уж я бы на нем отыгрался.
– Соли на причинное место насыпали?
– Похуже. Сеструху-малолетку так отхороводили, что в реанимацию попала. Пробовал у нее выяснить приметы тех гадов, сразу плакать начинает. Только однажды попросила: «Братик, если тебе попадется тот, у которого на кулаке татушка в виде черепа, сразу не убивай. Привези сюда, плюнуть в его харю хочу».
«Ему уже так плюнули, что теперь ворон его рукой закусывает», – чуть не вырвалось у Ивана.
Однако промолчал. Слишком неуемная ярость плескалась в хриплом голосе. Такой разбираться не станет. Забьет солдатскими берцами без суда и следствия.
– Извини, что душу разбередил.
– Моя душа не извинения жаждет, а крови мрази, украсившей себя «Волчьим крюком!»
– А что за крюк такой?..
– Ты – егерь, лучше меня обязан знать, что волк глотает куски мяса целиком. Чем и воспользовались немцы, которые задолго до Гитлера жили. Волчий крюк – это снасть. Один конец крепится к дереву цепью, на другой в форме крюка насаживается мясо. Волк проглотит, но приманке обратной дороги нет. Хоть живым с него шкуру снимай, что некоторые упыри и делали… Надеюсь, интересуешься не для того, чтобы позаимствовать опыт?
– Избави Боже. Я что, садист какой.
– Ладно, вечером расскажу, как «Волчий крюк» стал эмблемой гитлеровской дивизии «Райх» и как он перекочевал на шевроны украинских карателей. А теперь к делу… Отложим рыбалку и намеченный моими разведчиками пикничок на природе и займемся отловом мрази, которая в твоей одежонке разгуливает. Как думаешь, куда он может податься?
– Куда и другие, на запад. Только, командир, у охотников дробовики, а нацик наверняка с автоматом и гранатами.
– Патроны с картечью на волка – самое то. Но на усиление, так и быть, подброшу пулеметчика. Давай, показывай на карте место, которое следует прочесать в первую очередь…
– Думаю, он будет держаться вот этого массива. Надо одну группу пустить отсюда, а вторую на машинах забросить в лесничество. Да, командир, для подстраховки на холмах слева тоже поставь засаду, лучше – снайперов. Справа скальная гряда, ее без альпинистского снаряжения не взять… Только прикажи своим разведчикам, чтобы лишних дырок в моей спортивке не наделали. Перед самой войной купил.
– Заметано. Поехали на базу. Я подниму своих разведчиков, а ты тем временем поднимай охотяр. Чем больше, тем лучше… Да оставь в покое замок, обернемся в таком темпе, что твою драгоценную бабу не успеют снасильничать.
Иван не имел никакого понятия, о каком массиве шла речь. Зато уяснил другое – если не желаешь схлопотать пулю снайпера, стороной обходи холмы.
Бегом обогнул икону озера, затем, утопая по колено в вязком разнотравье, пересек открытую поляну и наконец оказался на кромке леса. Конечно, сподручнее было бы двигаться вдоль опушки, где виднелась наезженная колея, однако слова егеря о засаде на холмах вынудили свернуть в лес.
Иван даже не предполагал, что долины горного кряжа способны рожать неохватные дубы. В облике патриархов имелось нечто сродственное с вставшими на пути чужинцев витязями.
Здесь, в пойме, уже вовсю хозяйничала осень. Грибы изнемогали под гнетом опавших листьев, плоды боярышника окрасились в рубиновые тона, а развешенные в подлеске паутинки обрели сходство с отслужившими положенный срок рыбацкими неводами.
Иногда глубинную тишину дубравы нарушали увесистые шлепки. Это бродяга-ветер спихивал с насиженных мест созревшие желуди, и те подкалиберными снарядами вонзались в броню лесной подстилки.
Однако беглого солдата заставила насторожиться не желудевая капель. Позади, в сотне метров за спиной, сухо выстрелила сломанная ветка.
Но это был не зверь. Даже десятипудовый кабан способен проскользнуть через ломкий терновник бесплотной тенью. Следовательно, там, за спиной, люди. А пришли они именно за ним. И теперь оставалось только одно – бежать, не дожидаясь, когда в спину ударит звучный плевок волчьей картечи.
И он побежал, сшибая кроссовками шляпки зонтика пестрого, тараня грудью подлесок. Дважды падал, споткнувшись о забытые лесорубами колоды, потом, оступившись, шлепнулся в кабанью лежку. Хорошо, что ее хозяин временно отсутствовал. А в раскаленном мозгу пульсировало дурацкое: «Москва-Воронеж – хрен догонишь!»
Впрочем, смысл в этой, выплывшей из сопливого детства, фразе имелся. Преследуемый и преследователь – две большие разницы. Первым движет подогреваемый жаждой отмщения охотничий азарт, а у второго на кону все. И поэтому он способен совершить то, что не под силу преследователю. В частности, вскарабкаться без альпинистского снаряжения на скальную гряду, которая сейчас тянется по правую руку беглого солдата.
По прикидкам, Иван давно оторвался от погони. Преследователи наверняка считают, что он вооружен автоматом и парочкой гранат. Поэтому пойдут крадущимся шагом, готовые пасть ниц при первой же очереди. Однако успокоение не приходило. Пойменный лес сделался совсем узким, слева, в просветах между дубами-патриархами, уже просвечивали пологие холмы, где терпеливые снайперы караулили добычу.
Только Ивана сейчас больше тревожило другое. Как дикий зверь, он нутром чувствовал главную опасность. И даже готов был поклясться, что слышит дыхание притаившихся впереди разведчиков хриплоголосого.
Но те, кто охотился на беглого солдата, не учли одного – дичайшего прилива сил, которые появляются у загнанного в угол живого существа. А посему едва ли держали под прицелом неодолимую, по мнению егеря, скальную гряду.
Ивану еще не приходилось вскарабкиваться на вертикально поставленные утесы. Самая высокая точка возле хутора бабушки Любы – курган с геодезической вышкой на маковке, который вплоть до потревоженного плугом основания летом облит ягодами земляники. Однако хуторская детвора стороной обходила рукотворную горушку. В ветреный день ржавая вышка издавала звуки, которые напоминали плач потерявшейся души.
Дома, в селе, где родился Иван, вообще не имелось никаких выдающихся над солончаковой степью мест. Ведь не отнесешь же к ним горбатую плотину пруда за околицей? Только устроишься в санках, а горушка уже кончилась. Впрочем, выпавший ночью снежок редко задерживается на горбатой плотине. Ближе к полудню его без остатка съедали наползавшие с лиманов мохнатые туманы.
Обследовав взглядом гряду, остановил выбор на утесе бурого цвета. Когда-то, миллионы лет назад, он представлял собой звонкий монолит, однако сейчас больше смахивал на лицо старого пьянчужки.
Неряшливые складки, разбежавшиеся склеротическими жилками трещины, выпавшие из десен и теперь валяющихся внизу булыги.
Первые метры дались легко. Облегченное голодом тело не мешало брать уступ за уступом. Так, помалу, добрался до карниза, такого широкого, что можно присесть и оглядеться.
Но главное – от карниза вверх вела цепочка вбитых в скальную породу ржавых штырей с кольцами. И хотя цепочка обрывалась в полутора метрах от вершины, стало тепло от мысли, что этот путь уже пройден другими.
Конечно, тренировавшихся здесь скалолазов страховала продетая сквозь кольца веревка, и обуты они были не в кроссовки с чужой ноги, а в специальные ботинки. Однако Иван почувствовал что-то вроде превосходства над ними. Альпинисты покоряли утес ради малой дозы адреналина, а он спасает собственную шкуру.
Только человек не Господь, он способен лишь предполагать. Да и откуда Ивану знать, что на последнем, ведущем к вершине утеса карнизе отдыхает желтобрюхий полоз. Такой же громадный, как и принявший родимое пятно на щеке школьного учителя за мышку его собрат.
У тех, кто сталкивается нос к носу на узкой тропе, всегда есть выбор. Либо уступить дорогу, либо вместе свалиться в пропасть.
– Послушай, дурачок, – как можно ласковее молвил беглый солдат, – зачем тебе кусать то, что не поместится в брюхе? Ползи в свою норку с миром, не дай сбыться проклятию взводного…
Однако полоз лишь слегка приподнял похожую на булыжник голову. То ли собрался ответить человеку, то ли просто ждал, когда тот наконец чихнет.
А над утесом по ниспадающей кружился вран. Наверное, уже предвкушал трапезу из двух блюд, а может, вел учет падали, которой людишки засеяли хлебные нивы и отлоги горного кряжа.
Молитва
Вырытая в стенке бокового ответвления траншеи нора не самое подходящее место, чтобы творить молитву. Поэтому Егор выбрался наружу, встал на колени и, всякий раз задевая локтем правой руки прислоненный к стенке карабин, осенил себя крестом:
– Господи, да освятится имя твое…
На второй фразе Егор споткнулся. Но не потому, что забыл слова. Запамятовать можно только то, что знаешь. А он знал только эти две строчки. И ни одной больше.
Впрочем, это не мешало общаться с Господом, который Егору виделся то смиренным старичком с пасеки, то суровым владыкой земли и неба, своими словами. Правда, делал это тайком, ни разу не перекрестил лба при посторонних.
И не пускал в молитву тех, кто был ему неприятен. В первую очередь – жену Людмилку, которая ухитрялась наставлять рога не только мужу, но и любовникам, в том числе прямому начальнику Егора – красавцу лесничему.
Упоминал в молитве всех, не деля на живых и отошедших в мир иной.
Дочь Аленку, такую же бледную тихоню, как и сам, с глазами цвета воды в светлой кринице, родителей, женщину, перед которой чувствовал себя виноватым безмерно, друзей-товарищей. А Людмилку нет.
Худого ей, конечно, не желал, все-таки мать его ребенка, но и заступничества небес для нее не просил, все оставив на волю Божью. А после очередной измены дал зарок – даже пальцем не прикасаться к Людмилке. Обнимать неверную все равно, что доедать хлеб, на котором оставили отпечаток чужие зубы.
Наверное, проще было развестись. Однако Людмилка пригрозила, что в таком случае не позволит видеться с дочерью. И даже намекнула, что у лесничего брат районный прокурор, а уж он постарается направить дело по нужному руслу.
Словом, Егор так и не ушел к той женщине, чье имя теперь вызывало чувство острой вины. И вина эта тем горше, что ее нельзя исправить даже при большом желании. Оставалось лишь просить Господа, чтобы душе новопреставленной рабы отвели на небесах уголок, где сквозняков поменьше и куда нет хода обидчикам.
После смерти той женщины жизнь вообще покатилась по буеракам и кочкам. Людмилка окончательно сорвалась с цепи, в лесничестве, где Егор числился бензопильщиком, зарплату стали выдавать древесиной и вдобавок ко всему грянула великая смута.
Ввязываться в драчку не планировал. Война гражданская, или какая другая, по убеждению Егора, все одно бандитская разборка. Только с широким привлечением народных масс. Но после очередного упрека Людмилки: «Получаешь зарплату трухлявыми дровами, вот и грызи их за обедом и ужином» – сорвался. Съездил в военкомат, где набирали таких, как он, годных к строевой службе, и заключил контракт на два года.
Рассчитывал обойтись казенными харчами, а жалованье до последнего пятака пересылать Людмилке. Хоть и шалава, а дочь голодной держать не станет. Ну а коль убьют – не велика потеря. Да и военком клятвенно заверил, что государство позаботится о сиротах героя.
Сам же Егор ни в кого стрелять не собирался. Даже заступая на пост, карабин держал разряженным. И обоймы останутся в подсумке в том случае, если вопрос встанет ребром: или ты, или тебя?
Еще позапрошлой осенью, таким точно промозглым днем, подстрелил на вырубке зайца, а крик смертельно раненного зверька до сих пор терзает барабанные перепонки. Это ощущение знакомо многим, кто однажды ступил на охотничью тропу. Только раскаяние приходит по-разному. И чем раньше поймешь, что негоже лишать жизни другое живое существо ради забавы, тем сильнее будет занозить душу.
Сорок лет не тот возраст, когда принято подводить итог. Однако Егор все чаще казался себе глубоким стариком. И причиной тому не проходящее чувство вины. Перед Аленкой, перед той женщиной, перед убиенными зверьками, перед родителями. Дали ему жизнь, а он истрепал ее, словно беспутная молодайка подол сарафана.
Поэтому и молился с каждым днем все истовее, спасаясь выпросить прощение у живых и мертвых:
– Господи, – шептал Егор, – помоги всем, перед кем завинил, и всем, кто дорог мне…
Однако небеса безмолвствовали. И поэтому еще горше становилось на душе. Вот и сейчас накатило такое, что хоть в речку сигай. Желательно, за черным плесом, в том месте, где течение рвется из теснины. Шваркнет башкой о взъерошенные холки порогов, и тебе станет все равно, какая сейчас погода.
А она под стать настроению. Тучи над головой сплошь в комьях, словно вспаханное, а потом оказавшееся в прифронтовой зоне поле. Для полного сходства недоставало табличек с надписью: «Заминировано» и амброзии, которая всякий раз появляется там, где ступила нога человека.
Зато здесь, на приречном холме, такого добра с избытком. Заморский сорняк цепко утвердился на обмякших бортах котлована, старший опорника лейтенант Леха говорил, что в этом месте археологи раскапывали стойбище пращуров-индоевропейцев, и примерялся к оставленным рыбаками кострищам.
Правда, амброзия сейчас меньше всего напоминала ту, летнюю, чья способность захватывать лучшие места под солнцем раздражала Егора. От ночных приморозков и занудных дождей обмерли выдуревшие до размеров подлещика листья, а согбенные стебли казались бредущими за гробом богомолками.
Бередил душу и чабрец. Он так тесно прижимался к усыпанной гранитной крошкой почве, будто над ним уже нависли лютые вьюги. И поэтому его присутствие больше угадывалось по слабому, как мольба замерзающего в степи путника, дыханию.
Точно таким же клочковатым небом была укрыта и нейтральная полоса, которую наискосок прочертили полезащитная полоса и линия похожих на распятия крестов. Чуть ближе к приречному холму балочка и особняком стоящая ива с таким измордованным стволом, что ей хотелось подать милостыню.
Слева и справа точно такие же холмы. Покатые, словно плечи состарившихся землекопов, отгородившиеся от речной поймы бурого цвета скалами.
За одной из них, чуть левее стойбища пращуров-индоевропейцев, притаились три самоходки. Еще одна, четвертая, заползла в раскоп древнего городища, и теперь оттуда торчал похожий на оглоблю орудийный ствол.
С прибытием самоходчиков во врезанном одним боком в холм блиндаже опорника воздух загустел от табачного дыма до такой степени, что Егор только возрадовался, когда лейтенант Леха велел ему сменить дежурившего на холме наблюдателя.
– Здоровее будешь, – добавил он, разливая по пластиковым стакашкам привезенную самоходчиками водку. – За свою пайку не колотись, прослежу, чтобы оставили…
Но Егор особо и не переживал. Водка ведь вроде костерка на осенней лесосеке. Она способна согреть ладони, а не озябшую душу. И потом, молитва требует тишины. То, чего нет в блиндаже опорника, воздух которого горчит от табачного дыма и чудовищного мата.
Поэтому всякий раз искал уединения у подножия стерегущей пойму скальной гряды, где в крошечных ущельях гнездились родники и кустики барбариса. Их цепкие, будто колючая проволока, ветки густо увешаны ягодками. Такими же терпкими, как и жизнь оказавшегося на войне человека.
Иногда Егор спускался в раскоп. Присев на корточки, окостеневшим стеблем росшего вперемешку с амброзией болиголова выковыривал из оплывших стенок черепки. Однажды ему попалось что-то вроде заварника с отбитой ручкой, о которой лейтенант Леха сказал, что это рурка – сосуд для сбора макового молочка.
В другой раз из потревоженной осенними дождями почвы под ноги выкатился продолговатый предмет. Вначале принял его за пулю, однако вскоре убедился, что это медный наконечник стрелы. Изрядно подпорченный временем, но еще способный убить.
Нельзя сказать, что обрадовался находке, ведь ковырялся в заброшенном раскопе для отвода глаз. Если кто заглянет, наготове ответ – решил заняться кладоискательством.
Но после того, как ладонь ощутила убойную тяжесть наконечника, перестал завидовать умению пращуров выбирать подходящие местечки. Видно, не таким уж раем оказался сей благословенный уголок, коль приходилось держать под рукой оружие.
Конечно, две или три тысячи лет назад уголок выглядел совершенно иначе. Вместо орудийных стволов в небо глядели оглобли телег, а дозорную службу на приречном холме нес совсем непохожий на Егора стражник. Он был одет в куртку из шкуры дикого быка, и рядом с ним, поверх умерщвленного приморозками чабреца, возлежал лук, на туго натянутой тетиве которого ветер-низовка исполнял осенний блюз.
Стражник, как сейчас Егор, чутко всматривался в угнетаемую клочковатым небом степь и тоже просил небеса даровать малую толику счастья тому, о ком болит душа.
Но хуже нет, если человеку помешают довершить начатую молитву. Ведь то, что ты не успел сказать сейчас, спустя час-другой может потерять изначальный смысл.
А виной тому чаще всего чужая воля. Например, Егора заставила споткнуться на второй фразе молитвы возникшая за спиной суета и адресованный персонально ему оклик лейтенанта Лехи:
– Держи пасть нараспашку, боец! Через пять минут по заявке комбрига начнется концерт под названием «Вы нас не ждали, но мы приперлись». Если станет страшно, заползай в норку. Но не забывай периодически поглядывать на нейтральную полосу…
Похоже, самоходчики заранее настроили свои инструменты. Пока Егор соображал, для какой надобности следует держать рот открытым, так ударили в четыре ствола, что со стенок траншеи посыпалась гранитная крошка вперемешку с окатышами рыжей глины.
Многоголосое эхо, словно застигнутая в курятнике лиса, заметалось над речной излучиной. Егор был оглушен, но еще больше – ошарашен, однако способность соображать не утратил. И поэтому весьма удивился тому, с какой натугой снаряды ввинчиваются в клочковатое небо. Казалось, им невмоготу нести в железных утробах гремучую начинку.
Вначале ему казалось, что снаряды первым делом разнесут в щепки иву, однако три из них упали за полезащитной полосой, а четвертый ударил под корень электроопору, и та низвергнутым распятием мелькнула на фоне клочковатого неба.
– Господи, – молвил Его, – вразуми созданных по твоему образу и подобию, защити уголок, который приютил моих пращуров, – но из-за чудовищного грохота не услышал собственного голоса.
Не вняли ему и небеса. Сзади, между раскопом и рекой вырос пяток огненных кустов, и эхо разбилось о скалы. Еще один снаряд, посланный, наверное, из-за полезащитной полосы, расколотил черное зеркало плеса, а два других ударили в крышу блиндажа. Последнее, что увидел Егор, были разлетающиеся бревна накатника и что-то отдаленно похожее на железную трубу от печки-времянки, которую он мастерил под руководством лейтенанта Лехи.
В нору Егор занырнул почище спасающегося от когтей ястреба суслика.
И тем самым уберегся от корявых бревен и камней. Однако в полной безопасности себя не ощутил. Снаряд ведь пострашнее голодного ястреба. Может и прихлопнуть. И хорошо, если сразу, как ребят в блиндаже, а вдруг придавит в этой дыре? Будешь потом отхаркивать кровь из раздавленной грудной клетки и молить Бога, чтобы побыстрее прислал смерть-избавительницу.
– Господи! – прокричал Егор, выцарапываясь из норы. – Спаси и сохрани! Ведь если сейчас убьет, кто попросит Тебя позаботиться об Аленке и душе женщины, перед которой я завинил?..
Стоя на коленях в траншее и всякий раз цепляя локтем правой руки прислоненный к стенке карабин, Егор умолял Всевышнего даровать мир дочери Аленке, обмершим от ужаса кустикам чабреца, ущельям, в которых гнездятся родники, однако сомневался, что его захлестываемые ревом снарядов вопли будут услышаны на небесах.
А ведь так хороши были яблони в белом!
Одинокий снаряд вспорол белое безмолвие степи донецкой. Алексею даже показалось, что он слышит звуки, которые издает плуг оратая при соприкосновении с корнями умерщвленной засухой травы. Но слуховой обман был недолог. Секунду, а может, чуть поболее того. И точку в нем поставил взрыв за сельской околицей. Испуганно вздрогнула в стакане с недопитым чаем ложка, а пороша так густо посыпалась с яблонь за окном, что они сделались похожими на солдатских вдов.
И только синицы продолжали водить летучий хоровод у кормушки с семечками. Наверное, пернатые перестали удивляться всему, что сотворяет человек. Пашет землю или, как сейчас, взрывает ее фугасами.
Только люди не птицы. Им сполна ведом страх за дела чинимые. Наверное, по этой причине душа Алексея вздрогнула, словно ложка в стакане с недопитым чаем, а из боковушки послышался испуганный голос:
– Где упало, Алекса?
– Как всегда, на Гутыре.
Гутыря – покинутый воинский городок. Прежде его охраняли солдаты-зенитчики, а теперь – цвета пересохшего чернозема степные гадюки. Они будто дожидались своего часа, чтобы обосноваться в казематах, где прежде дремали ракеты класса «земля – воздух».
Но гадюк вновь потеснили люди в рябой камуфляжке. Они украсили полуразрушенную добытчиками кирпича двухэтажную казарму красно-черным флагом, а на плацу из отстрелянных унитаров выложили кособокий тризубец.
– Алекса, ты фонарик зарядил? А то как без него в подвале…
– Зарядил. И заодно долил в лампу керосина.
– Так и норовишь подковырнуть… Мол, напомню старой дуре, что в подвале, или как ты говоришь – подполе, угореть можно. А я в первый раз ослушалась… Только куда нам, кладовщицам безграмотным. Это ты у нас в кандидатах наук ходил. А теперь у тещи мелочь на сигареты стреляешь… И вообще, тебе велено досматривать меня до кончины, а не умничать.
Алексей промолчал. Если дипломатические отношения подпорчены, то лишний раз не следует осложнять их словом. Опыт по этой части имеется. Еще в молодости после доброй чарки решил подшутить над тещей. Спросил, на является ли та родственницей знаменитого гуляйпольского атамана? Уроженка Запорожской области, Галина Несторовна, в девичестве – Махно.
После того зарекся не только шутить, но и окликать тещеньку по имени-отчеству. И все потому, что отсутствием памяти не страдал, да и был способен разглядеть таившийся в середке Галины Несторовны преогромный обломок льда.
Однако растопить тот лед не имелось ни малейшего желания. Не может прикованный к галерному веслу раб воспылать теплыми чувствами к надсмотрщику с плетью. А Галина Несторовна таковым ему и казалась. Только вместо плети – попреки:
– Уже когда приехал, а ничего не робишь…
И нет ей никакого дела до того, что время обеденное, а зять со вчерашнего дня не жравши, что добрую треть пути от города к селу протопал пешком, что… Разве что скажет, вроде извинится:
– Я бы тебя покормила, но нечем.
А у самой в подвале тесно от банок с маринадами да солониной. Покойный тесть наипервейшим бойщиком свиней был, за труды брал исключительно мясом, да и у самих в сараюхе всегда парочка кабанчиков похрюкивала.
Солонина же под стопарь такая закуска, что брюхо радуется. Подержишь кусок четверть часа в кипящей воде, потом шмяк его на разделочную доску, отхватишь исходящую паром полоску ножом и – вдогонку за опалившим гортань первачком.
Только опустел сарайчик, да и запасец банок в погребе поубавился. Был человек, и нет его. А наследство передать некому. Алексей однажды примерил на себе тяжелый от свиного жира брезентовый фартук, в котором тесть кабанчиков разделывал, и обнаружил пришитый изнутри потайной карман. Значит, покойный тестюшка не довольствовался законной натурой за труды свои, еще и прихватывал килограмм-полтора приглянувшихся кусков.
Хозяйственный был мужик, ничего не скажешь. Горелку, которой смолят кабанчиков, хоть сейчас пускай в дело, баллон со сжиженным газом залит под самый штуцер, австрийский штык, тоже в брезентовом чехле, до сих пор хранит хищный оскал.
Галина Несторовна как-то намекнула, что хорошо бы зятю поднять уроненный тестем флаг. Дескать, всегда в доме запах заливаемых горячим смальцем колбасок будет держаться, да и не боги горшки обжигают. Однако тут же поняла беспочвенность своих притязаний. Ну, разве из какого-то кандидата наук и чистопородного дитяти асфальта может получиться первоклассный мастер по разделке кабанчиков?
Как закрыли зятев НИИ с трудно произносимым названием, с той поры у жены-учительницы на шее сидит. Хорошо хоть после смерти покойного тестя работенка нашлась – присматривать за немощной старухой, то есть – тещей.
Однако кроме лопаты, слава богу, научился за нужный конец держать, другие инструменты доверять рановато. Взялся изничтожить камыш, который дуриком через межу из болотца ломился, косу изуродовал так, что ею теперь старуха-смерть побрезгует. Зато камыш на радостях отхватил себе добрый шмат огорода.
Короче, присмотр за Алексой нужен. Указывать, какую ветку на каждой из двух десятков яблонь следует отпилить ножовкой, а какую – оставить. Вот и правит Галина Несторовна, не сходя с садовой тропинки. Благо, ценные указания Алекса воспринимает без возражений.
А куда ему, как говорил покойный муж, с подводной лодки деваться. Если огрызнется, вот тебе – Бог, а вот – порог. Только Галина Несторовна особо не свирепствует. Какой-никакой, а все же мужик. Кто воды из колодца достанет, кто дровишек наколет, кто через снежную целину тропинку от крыльца до нужного заведения проложит?
И потом, живая душа всегда под рукой должна быть. Без нее человек плесневеет, как вода в заброшенной кринице.
– Алекса, – подобревшим голосом спросила Галина Несторовна, – что на ужин готовить?
– Без разницы.
– Ну, тогда растопи печку, картошек из подпола подними, в мундирах сварим, капусты квашеной.
– Как скажете, – а сам помешивает ложкой остывший чай.
– Алекса?
– Да…
– Ты пакетики со спитым чаем выбрасывай не в мусорное ведро, а складывай в коробок, что на грубке. Я весной грядки удобрю.
– Хорошо.
«Поговорили называется, – подумала Галина Несторовна. – Надо ему еще напомнить…»
Что именно хотела напомнить Галина Несторовна, так и зависло в боковушке. Над крышей прогундосила парочка снарядов, и сдвоенное эхо стряхнуло с яблоневых веток остатки пороши.
– Алекса, помоги спуститься в подвал. И фонарик подай, – выпорхнула из боковушки, словно преследуемый ястребом-деревником жаворонок. Маленькая, серый хохолок на голове.
Притихла в подполе. Наверное, слушала – не раздастся ли вновь над крышами железное урчание?
– Алекса, кинь старый тулупчик и пуховый платок. Слышь, картошки надо перебрать, гнильцой потянуло, – приняла из рук в руки требуемое, устроилась поудобнее на кадке с солеными огурцами и вновь за свое:
– Совсем беспамятная сделалась… В летней кухне кошелек забыла. Сбегай…
Алексей вознамерился сказать, что при обстрелах только умалишенный воришка способен промышлять в летних кухнях, однако сдержался. Принес знававший лучшие дни кошелек, в котором что-то сиротливо шевельнулось. To ли листок отрывного календаря, то ли банкнота с изображенным на ней мужиком холопского обличья.
Вернувшись, зачерпнул эмалированной кружкой воды из стоящего на столе в сенцах ведра и вместе с таблетками подал теще.
– Что ты суешь? – рассердилась Галина Несторовна. – Я теперь принимаю другие, в синей коробочке. Пора бы запомнить.
Но Алексей помнил другое. Как задолго до войны теща прислала письмо с наказом – купить лекарство, которое «сильно помогло продавщице Тамарке из сельмага». Жена прочла письмо и расхохоталась.
– Что смешное пишет любимая тещенька? – полюбопытствовал с дивана Алексей.
– Просит таблетки от беременности…
– Неужели спуталась с каким-нибудь сверхсрочником из воинского городка?
– Сам ты спутался, – обиделась жена. – Маме за восемьдесят. Постыдился бы такое говорить…
– Подай валидол, – попросила Галина Несторовна. – Изнервничалась вся. И когда эти ироды только угомонятся? Стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. Погибели на них нет.
«Погибели-то сегодня как раз с избытком, – мысленно возразил Алексей. – И на народишко, и на все прочее. Вон, как яблони-бедолаги при каждом взрыве шарахаются. Были бы у них ноги, давно бы сбежали отсюда к чертовой бабушке».
О себе почему-то думалось меньше всего. Наверное, как и всякий, уверовал, что летающая на гаубичных снарядах старуха с косой не по его душу.
Да и сколько он прожил на этой земле? Можно сказать, почти не жил. Конечно, выглядит сейчас так, что краше в гроб кладут. На брюхе лишняя шкура образовалась, под глазами мешки. Такие же дряблые, как и кошелек Галины Нестеровны.
Но это не возрастное. Как говорится, кто в плену не был и на тещиных хлебах не жил, тот горя не знал. Не лез кусок в горло и по другой причине. Как только начинали стрелять, Алексей отодвигал в сторону тарелку с недоеденным.
Вообще-то, опасность каждый воспринимает на свой лад. У одного «медвежья болезнь» обостряется, а у него появляется отвращение к еде. Зато выкуривал на крылечке очередную сигарету с такой жадностью, будто та была последней в жизни.
– Алекса, – подала голос из подпола Галина Несторовна. – Ты знаешь, о чем я сейчас подумала?
– Слушаю…
– А подумала я вот о чем… Если, значит, снаряд попадет в хату, то штукатурка с потолка упадет мне на голову…
– Могу предложить мотоциклетный шлем покойного тестя. Или – кастрюлю.
– Издеваешься? Ты лучше освободи столик, который в сенцах, и поставь так, чтобы он прикрывал ляду. Вот тогда я полностью спокойной буду.
Однако Галина Несторовна на том не угомонилась:
– Алекса, у нас в летней кухне большой баллон с газом. Полный. Его хозяин накануне кончины привез. Вдруг летняя кухня загорится…
– А с меня что требуется?
– Меры принять. Унеси баллон в камыши за огородом. Там его никто не увидит, да и мы целее будем.
Алексей малость сглупил. Надо было обойти огород по меже, а он поперся напрямик. Ноги по щиколотку увязали в прикрытой пушистым снежком пахоте, да и в саду было не легче. Низко свисавшей веткой оцарапало кисть правой руки, той самой, которой Алексей придерживал на плече тяжеленный баллон. И потом, следовало бы надеть не солдатскую куртку, ее тесть выменял на самогон в воинском городке, а что-нибудь другое.
Но об этом он пожалеет чуть позже. Когда вернется кружным, по меже, путем, зачерпнутым горстью снегом смоет запекшуюся на кисти кровь и закурит которую уж по счету за день сигарету без фильтра.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе