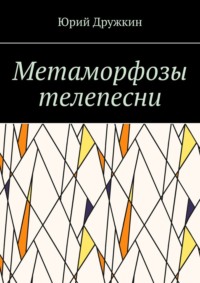Читать книгу: «Метаморфозы телепесни», страница 3
Телефон не просто активно умножает общую массу «музыкальной нарезки», но и включает пользователей в активную игру с этим материалом: его можно скачивать из Интернета, им можно обмениваться с друзьями, им можно манипулировать, назначая те или иные музыкальные отрывки на те или иные роли и т. п. В предельно упрощенном виде, зато в массовом порядке сотовый телефон предлагает публике тот способ «игры в музыку», который лежит в основе множества компьютерных программ (музыкальных редакторов). С помощью этих программ можно, даже не имея музыкального образования, создавать собственные музыкальные композиции из предлагаемого пользователю «строительного материала». Так в музыкальной культуре формируется новый пласт, новый контекст. Его строительный элемент, его кирпичик – цитата. Что это – влияние постмодернизма? Может быть, и нет, но некий резонанс все же налицо. Как бы ко всему этому ни относиться, но признаем, что хотя бы в таком препарированном виде, музыкальная культура впитывается массовым сознанием. И, возможно, то, что воспринимается в качестве кусочков, осколков, проложит путь целому.
Любой способ взаимодействие людей с музыкой это, как правило, еще и особая форма взаимодействия людей друг с другом. Если с этой точки зрения оценить культурную роль сотового телефона, то мы столкнемся с неким парадоксом. С одной стороны, телефон – исключительно мощный, гибкий инструмент связи между людьми, дающий, потенциально, безграничные возможности. Социальное пространство, очерчиваемое патефоном, мы сравнили с узким кругом света уличного фонаря, или пространством тепла вокруг костра. Здесь этот круг выходит за границы государств и даже континентов. Но с другой стороны, телефон – вещь сугубо персональная. Он помещается в кармане, в руке, он прижимается к уху, и то, что говорит мой собеседник, предназначается мне лично и никому больше. Социальное пространство, таким образом, сжимается до границ моего тела. Впрочем, эти «странности» связаны не только с сотовым телефоном, и касаются они не только социального пространства.
Много ли места занимает «флешка» в комплекте с наушниками – «вкладышами»? Зато действие производит весьма серьезное. В нем «эффект наушников» сочетается с «эффектом стереофонии». Эффект наушников, если коротко, заключается в том, надевая их, я как бы отделяю себя от внешнего пространства и начинаю озвучивать внутреннее. Я ухожу в себя, в свою глубину и открываю мир, в котором хорошо. Это техническое устройство плюс жевательная резинка позволяют человеку с комфортом обустроить свое (спрятанное внутрь собственного тела) жизненное пространство даже в тесноте общественного транспорта. Пусть мне тесно снаружи, зато просторно внутри.
Эффект стереофонии в каком-то смысле является противоположным. Он вновь выносит звуковую реальность вовне и размещает ее как бы во внешнем пространстве, никак не считаясь с существующими в нем предметами. По сути же, происходит нечто иное, а именно порождение музыкальных призраков – «аудио-фантомов» и размещение их в призрачном же пространстве («аудио-пространстве»). Когда с помощью стереоэффекта озвучивают фильм, иллюзия видимая совпадает с иллюзией слышимой и конфликта между зрением и слухом не возникает. В остальных случаях мы оказываемся в ситуации странного сосуществования двух совершенно независимых взаимопроницаемых миров, являющихся друг для друга в одинаковой мере призрачными. Современное кино изобилует кадрами, где некие тонкоматериальные сущности свободно проходят сквозь стены, предметы обстановки, людей и т. п. Когда я сижу в стереонаушниках в вагоне метро, я вижу сидящих напротив меня людей. Но слышу я нечто иное. Глаза говорят мне, что в двух метрах от меня сидит солидный мужчина и читает газету, а уши «видят» на том же самом месте солирующего трубача. Вот он энергично свингует, слегка притоптывая в такт, затем идет вправо сквозь не подозревающую ни о чем бабушку, и оказывается в центре группы оживленно беседующих парней…. Но, что это? Напротив меня сидит барышня в таких же наушниках! Значит, не исключено, что кто-то удобно расположился у меня на коленях и лихо лупит по барабанам. Однако ее виртуальный мир не должен касаться меня, а мой – ее. Каждый из нас занимает (заполняет своими призраками) чуть ли не весь вагон, но никому от этого не тесно. Это ли не толерантность!
Надевая стереонаушники, я принципиально меняю схему своего бытия в мире. «Другая реальность» оказывается достижимой одним нажатием кнопки. Чтобы заметить ее «чудеса» нужен лишь минимум наблюдательности. Тонкие, но глубокие преобразования, затрагивающие основы самосознания человека происходят при этом. Физическое и виртуальное пространства пронизывают друг друга и этим путают все карты. Внутреннее проецируется вовне, внешнее просачивается внутрь, границы личного и социального становятся зыбкими, неясными и, в конце концов, просто взрываются. «Я» сжимается до точки и одновременно устремляется в бесконечность. Компьютер и Интернет лишь доводят этот процесс до логического конца. Мы оказались в мире, где вопрос «куда мы попали?» и вопрос «куда мы пропали?» имеют почти одинаковое значение. Здесь понятия «этот» и «тот же самый» лишаются привычного смысла. Самозамкнутость и самотождественность вещей становится эфемерной. Тексты «вспарываются», расчленяются и поглощаются хищными гипертекстами. Победа «цифры» стала победой формы над материей. Клеточка материального мира по имени «вещь» распалась, форма вылетела на волю. Нечто подобное происходит и с человеком. «Я» развоплощается и деиндивидуализируется. Имена заменяются «никами». Войдя в пространство «цифры», в виртуальную реальность компьютера и компьютерных сетей, человек как бы попадает в зеркальный лабиринт, где ему уже трудно отличить себя самого от множества своих отражений. Чем он рискует? Потерять себя? Всего-то? Зато сколько новых приобретений! Преодолеть «я» – последнее препятствие на пути свободы – и ее горизонты устремятся в бесконечность….
Ну а на самом деле, что делает человек, оказавшись в «другом мире», как использует он новые горизонты свободы?
Он делает то, что человеку и свойственно делать, когда основы его мира начинают расшатываться под действием каких-то внешних причин. Он восстанавливает привычные опоры. В новых условиях он строит свой человеческий мир и делает это по возможности, в привычных человеческих формах. Так мореплаватель, полярник, космонавт стараются взять с собой «кусочек дома» и сколь возможно по-домашнему обустроить свое существование. Прежде всего, он строит дом, роль которого теперь выполняет «домашняя страничка», его персональный сайт. Он украшает и обустраивает его, делает удобным для жизни и приема гостей. Он заботится о его чистоте (защита от спама) и безопасности (защита от хакеров). Он устанавливает «добрососедские отношения» с другими домами, жителей которых он считает людьми своего круга. Он заводит почту и устанавливает переписку. Затем он находит подходящее для себя «клубное пространство», становится постоянным посетителем различных виртуальных «тусовок» (чаты, форумы, «Живой журнал» и пр.). Потом появляются «виртуальные деньги», обладающие, между прочим, способностью превращаться (конвертироваться) в наличность и обратно. Этот мост между реальным и виртуальным миром ставит под вопрос существование границ и существенной разницы между ними. И вот, я уже могу там жить и работать, делать бизнес и отдыхать. Могу проводить в этом царстве грез все время бодрствования. Могу ли я там спать? Да, интересно, где я нахожусь, когда сплю? Все, наверно, зависит от того, что мне снится…
В этом мире есть, практически все, что есть в мире обычном. Есть клубы, библиотеки, фонотеки, концертные залы, игровые автоматы, есть места для научных дискуссий, есть возможность ходить в гости и общаться реальном времени… Но что-то странное происходит с пространством и временем в этом мире, не отягощенном материей. Расстояния преодолеваются мгновенно. Различие близкого и далекого теряет смысл. Я могу быть везде. Но, будучи где угодно, я остаюсь на одном и том же месте, один ни один со своим монитором, звуковыми колонками, или наушниками. Я вместе со всеми, но я при этом совершенно один. Я – всего лишь ячейка глобальной сети. А сеть – продолжение меня самого. Гипертекст – основной закон построения этого мира, странным образом напоминает мне мое собственное устройство. Кажется, я смотрюсь в волшебное зеркало и вижу отражение своего внутреннего мира. Не так ли работает и мое сознание, где все связано со всем тонкими нитями ассоциаций?
Так, куда я попал и где строю свой дом? И вспоминаются последние кадры «Соляриса», где герой возвращается домой, обнимает отца,… а затем камера поднимается все выше, и мы вдруг понимаем, что не Земля это: мы видим малюсенький островок, на который со всех сторон катятся волны мыслящего, дышащего, живого, но такого непонятного и чужого Океана.
Аналогичное мнимое возвращение происходит в разных сферах жизни, например, в мире звука, о котором наша речь. Совершенствование техники позволило сначала максимально приблизиться к реальному звучанию инструментов, избавиться от шумов, воспроизвести акустические характеристики озвучиваемых помещений и открытых ландшафтов. Соответствующие режимы звуковоспроизведения сейчас есть в большинстве компьютеров. Но затем почему-то возникла потребность «вспомнить о былом» и появились технические возможности, позволяющие имитировать старый патефон, со всеми шумами, шуршанием, потрескиванием, пощелкиванием, его спрессованный с металлическим привкусом звук. Закрой глаза – и покажется, что вернулся в то время. Открой глаза – и увидишь компьютер, колонки, провода и поймешь, что все это сэмплировано и смоделировано – и звук, и атмосфера безвозвратно ушедшего прошлого. Все это – малюсенький островок в океане мультигигабайтной памяти компьютера.
Так что же, возвращается все на круги своя, или нет? Соблазнительно, конечно, ответить «да» и ощутить тепло и уют. Можно даже припомнить к случаю знаменитые окуджавские слова: «Мы начали прогулку с арбатского двора – к нему-то все, как видно, и вернется». К нему-то может быть и вернется, да вернется ли он, тот старый арбатский двор? Пройдемся по Арбату сегодняшнему, буквально напичканному ностальгией по вчерашнему. Вспомним об Арбате вчерашнем, дышавшим ожиданием дня завтрашнего. И воздержимся от категорического ответа.
Песни Зазеркалья
«Так что же, возвращается все на круги своя, или нет?», – задали мы сами себе вопрос только что, и решили пока воздержаться от ответа. Вопрос, тем не менее, интересный и важный, и мы к нему в свое время еще вернемся. А пока более плотно займемся другим вопросом, который также был сформулирован выше – «куда мы попали?». И здесь нам придется вновь говорить о клипах, телевидении, интернете и тех воздействиях, которые они оказывают на песню.
Сегодня на песенном рынке есть все. Песенные потоки обильны. Но спросите, каково их направление, куда они текут, и я приду в некоторое замешательство. Не знаю, как вы, а я не вижу каких-либо ясных подсказок. Во всяком случае, они не очевидны, не лежат на поверхности. Поэтому вопрос о направлениях мы на некоторое время отложим в сторону. Что же касается самих потоков, здесь можно констатировать один, достаточно очевидный, факт, заключающийся в том, что едва ли не самым мощным и влиятельным песенным потоком является в последние годы клиповый поток.
Клип стал доминирующей формой существования песни. Это выражается, в том, что действительно состоявшейся (реализовавшейся) в наши дни может считаться лишь та песня, которая сумела предстать перед публикой в форме клипа. Кроме того, формат клипа, его эстетика накладывает достаточно глубокий, отпечаток на характер сочиняемых песен, а также на форму их презентации, в частности, на сценическую, концертную форму.
Сам по себе, клип – малая форма, он весьма компактен, но отличается, при этом, огромной информационной емкостью. Ему, таким образом, органически присуще противоречие между малой формой и чрезвычайно большой информационной, эмоциональной, энергетической насыщенностью (сверх-насыщенностью). Данное противоречие, отчасти, разрешается в образовании своеобразных клиповых потоков – последовательностей клипов, непрерывно следующих друг за другом. С одной стороны, процесс «накачки», начатый в одном клипе, продолжается в следующем. С другой стороны, расширяется, так сказать, сам накачиваемый объем (внутренние пространства клипов суммируются). Поэтому, накапливаемое напряжение распределяется на больший формат. При этом многие мотивы, образы, эмоционально-экспрессивные элементы имеют тенденцию повторяться в разных клипах, что приводит к некоторому перераспределению, перекомпоновке содержания и в какой-то мере также ослабляет внутреннее напряжение.
Есть и еще один немаловажный момент: картина реальности, выстраиваемая в клипе, отличается своими специфическими особенностями. Можно сказать, что существует своя особая «клиповая реальность», свой мир, живущим по иным законам. Организация клипов в потоки избавляет от необходимости совершать переход в иную реальность и обратно ради каждого отдельного клипа. Можно войти в эту реальность и пребывать в ней достаточно долгое время. Вопрос о психологических последствиях такого пребывания оставим пока в стороне.
В результате объединения множества клипов в единый поток, возникает нечто, напоминающее циклическую форму. Но с определенными особенностями. Во-первых, у этой формы нет внутренней завершенности. Процесс не заканчивается, а просто прекращается. Последовательность может быть оборвана по каким-либо внешним причинам: исчерпание объема памяти носителя (DVD диска), завершение телепрограммы и т. п. Такая потенциальная бесконечность клиповых потоков делает их в чем-то похожими на телесериалы (также ставшие доминирующей формой телепродукции).
Во-вторых, этот поток не является произведением, созданием одного автора или творческого коллектива. Он изначально существует как образование, состоящее из множества самостоятельных, но существенно сходных элементов. Таким образом, у него, в частности, нет единого («сквозного») замысла. Его можно было бы сравнить с блогом, если бы не отсутствие диалога. Это просто организованная последовательность эмоционально насыщенных смысловых импульсов примерно одинаковой длительности. Это просто один из потоков нашей поточно-организованной жизни, вроде потока автомобилей на дороге или потока моделей модной одежды на дефиле.
В-третьих, едва ли не главным принципом подбора материала (клипов) для выстраивания клипового потока является рейтинг. Так вносится некая внешняя интрига, некий соревновательный сюжет. К формированию интриги оказываются причастными и сами зрители. Во всяком случае, потенциально: ведь каждый может присоединиться к голосованию. Это и есть главная компенсация отсутствия единого внутреннего замысла. Вместо придуманного кем-то сюжета, развивается «реальная» борьба, происходит «реальное» состязание, повлиять на исход которого может и мой звонок или отправленное мной SMS-сообщение.
В-четвертых. Формально клиповый поток является открытой системой. Но лишь формально. Но по сути своей он является миром, замкнутым на себя. Это делает его весьма консервативной формой, наподобие ритуально организованных культурных форм, где доминирует не линейное, а круговое время. В этом сравнительно недавно возникшем замкнутом мире действует замкнутая система правил (норм) и столь же замкнутая система смыслов. Остается лишь поражаться тому, как быстро она сложилась. А может быть, она и не складывалась здесь и сейчас, а лишь проявилась в данное время и в данной форме? Сколько на самом деле лет этому самозамкнутому, вращающемуся в себе самом миру? Десять? А может быть, десять тысяч?
Самозамкнутость, движение по кругу – черта, относящаяся не только к внутренним нормам формальной и смысловой организации. Она нередко проявляется во внешней, наглядной, образной форме. Во многих клипах движение сюжетной линии также движется по кругу, наперекор физическому времени и логике привычных причинно-следственных связей (БИ-2 «Держаться за воздух»). Круговое время и круговое движение в этом мире господствуют на всех уровнях. Спрашивается, какой смысл мы должны вкладывать в вопрос, «куда текут эти потоки?», если речь идет о клиповых потоках. Куда стремиться поток, текущий по кругу? Это уже не поток, в обычном смысле, а водоворот. И какой смысл приобретает здесь вопрос «что дальше?». Нет уже привычного «дальше». Любое «дальше» – всего лишь очередной ход в какой-то бесконечной игре, и движение вперед есть лишь хождение по лабиринту.
Мы попали в мир, где нет идеи будущего и культурно-исторического завтра, нет развития в привычном (а может быть, кому-то надоевшем) смысле слова. Что ж, мы долгое время жили в другом мире, где «общественное развитие», «светлое будущее», «счастливое завтра», «идти вперед» выступали в качестве доминирующих смыслов и ведущих ценностей. От них устали, хотелось отдохнуть. Так вот, оказались мы в другом мире (или сами его построили?), организованном на иных основаниях. И теперь, ставя вопрос «что дальше?», нам придется иметь это в виду.
Все, что втягивает клип в свою орбиту (в свой круговорот), теряет целостность, расщепляется на отдельные мелкие кусочки, распадается на отдельные элементы, из которых затем выстаивается новый хоровод. Даже образ исполнителя подвергается той же процедуре. В определенном смысле, роль исполнителя становится здесь более разноплановой, многогранной, синтетичной. Он и поет, и танцует, и действует как актер. Но, при этом, даже лицо его редко показывается целиком. В основном мы видим на экране вереницу фрагментов, столкновение различных планов и ракурсов, выхватывающих самые разные кусочки его тела. Целое оказывается разбитым на множество маленьких осколков. И эти осколки кружатся и кружатся в общем водовороте.
Как ведет себя водоворот по отношению ко всему, что входит с ним в соприкосновение? Он втягивает это в свою орбиту, разбивает на куски и несет в себе, кружа. (Впрочем, это зависит от силы вихря, прочности и тяжести предметов.) Если мы приглядимся к клиповым потокам, то увидим в них осколки самых разных стилей. Относится это не только к песне. Клип всеяден. Он питается музыкой, танцем, кинематографом, рекламой, дизайном, архитектурой… Питается он и образами (стилями) вчерашнего дня и дня позавчерашнего. Черпает из старого, препарируя его в свойственной ему новой манере. Откусывает кусочки прошлого, пережевывает и выплевывает в настоящее.
Картинка получается устрашающая, если не сказать апокалипсическая. Начинает казаться, что клиповая реальность (клиповое сознание), становясь доминирующей силой, начинает пожирать остальную культуру, все препарируя и перекраивая на свой лад. Эдакий гигантский пылесос, соединенный с гигантской мясорубкой, перерабатывающий все и вся в некие «стандартные котлетки».
А где она находится, клиповая реальность, где ее собственное жизненное пространство? Если мы впрямую поставим этот вопрос, то и ответ не заставит себя ждать. В современном «Зазеркалье», в мире, который мы можем увидеть сквозь монитор компьютера, или экран телевизора. Это заставляет нас вновь вернуться к проблеме пространства песни и песенного действия. Но теперь она наполняется иным содержанием. Нам необходимо взглянуть на телевидение и Интернет как на особые, в чем-то друг от друга отличающиеся, но и в чем-то сходные пространства существования песни. Слово «пространства» следует использовать с серьезной поправкой: ни Телевидение, ни Интернет, и какое-либо иное пространство культуры не являются какими-то пассивными пустыми вместилищами, где песня может жить всецело по своим внутренним законам, а являются активной жизненной средой, диктующей свои законы и правила.
Так вот, сравнивая эти два пространства и связанные с ними формы существования песни («песенной жизни»), невозможно абстрагироваться от того, что формы эти значительно моложе самой песни и есть иные (существовавшие ранее и существующие ныне) формы. Большая их часть развивалась вместе с самой песней; они сами представляют собой органическую часть песни как жанра. Ведь и сама песня – это не только и не столько особое вокальное произведение, но (и в первую очередь) особый способ человеческого взаимодействия. Оторвать песню от этого способа взаимодействия – значит совершить серьезную хирургическую операцию, затрагивающую природу жанра. Этих способов (или форм) много, они разные, но они несут в себе что-то существенно общее, корневое, связанное с природой песни. Вот это и есть то «третье» (а точнее «первое»), без чего трудно анализировать отношение Телевидения и Интернета как двух форм существования песни. Для дальнейших рассуждений договоримся использовать некое собирательное понятие, выражающее собой совокупность вот этих, так сказать, «естественных» форм песенного взаимодействия («песенной жизни»). Мы ведь исходим из того, что у этих форм есть общие существенные признаки, отличающие их и от Телевидения и Интернета. И для Телевидения, и для Интернета это третье является их естественной предпосылкой, которую они, каждый по-своему, воспроизводят и каждый по-своему отрицают. Хватают, но не могут схватить, отталкивают, но не могут оттолкнуть… Такой вот драматический треугольник.
Две вершины этого треугольника – Телевидение (Т) и Интернет (И) (напомним, взятые не сами по себе, а как особые пространства/формы песенной жизни). Третью вершину условно обозначим – Натуральная Форма (НФ). Выбранный нами подход заставляет взглянуть на эту самую НФ также под особым углом зрения, а именно, чтобы попытаться ответить на вопрос, нет ли в ней самой предпосылок к тому, что происходит с песней на телевидении, с одной стороны, и в интернете, с другой.

Теперь попробуем определить, чем НФ отличается как от жизни песни на телевидения, так и от жизни песни в условиях Интернета (или в иных подобных искусственных средах). То есть в нашем контексте это означает определить НФ как таковую.
Сделать это не трудно. При всем многообразии конкретных разновидностей НФ можно сформулировать один позитивный признак: НФ всегда выступает как способ непосредственного (живого) взаимодействия (контакта) людей, как акт непосредственной коммуникации. Этот признак можно переформулировать в негативный: НФ есть такой акт (способ) песенной коммуникации, где нет опосредования техническими средствами (включающими средства накопления и передачи информации), разрывающими прямой контакт участников. Таким образом, под это достаточно широкое определение подпадает и пение колыбельной песни, матерью, держащей своего ребенка на руках, и пение строевой песни ротой марширующих солдат, и пение в хороводе, и пение на посиделках, и выступление рок-группы на большом стадионе. Во всех этих случаях участники песенного действия собраны в одном месте, в одно время и они могут непосредственно коммуницировать друг с другом, видеть и слышать (а иногда и осязать) друг друга. Можно сказать, что здесь существенную роль играет наличие целостного, неразрушенного хронотопа в социально-психологическом смысле этого понятия, то есть как типическая повторяющаяся ситуация, в которой происходит процесс общения.
В силу своего внутреннего многообразия НФ предстает перед нами как целый букет (или кластер) форм песенного взаимодействия. Это, однако, не хаос и в нем есть своя внутренняя логика. В частности, для нас существенно то обстоятельство, что НФ распадаются на два больших типа. Их различие является достаточно очевидным и его нетрудно описать.
Для первого типа (НФ-1) характерно следующее:
– Отсутствие жесткого разделения на роли исполнителей и слушателей. Слушатель в определенный момент может оказаться исполнителем, а исполнитель – слушателем.
– С этим связано и относительное равенство разных ролей участников песенного действия.
– Для данной группы не характерно деление на «профессионалов» и «непрофессионалов». В ряде случаев это может осознаваться в качестве особой ценности соответствующей формы песенного взаимодействия. Так для участников фольклорного движения отсутствие подобного деления не просто представлялось привлекательным, но и несло позитивную «идейную» нагрузку. Нечто подобное можно сказать и о движении самодеятельной гитарной песни, и о движении ВИА, и о любителях джазовой музыки (особенно в ее первичных, близких фольклору формах, например, любителях «настоящего» блюза).
– Все это определяет преимущественно горизонтальную логику организации внутри данного типа песенного взаимодействия и принципиальную возможность (легкость) функционального перемещения участников («сегодня – ты, а завтра – я»). Иерархия не является здесь ни слишком крутой, ни слишком жесткой. Она не имеет сверх-ценного значения и может легко трансформироваться.
– Продолжая «геометрическую» метафору, отметим еще одну ее грань: здесь видна тенденция к, так сказать, круговому способу организации песенного действия. Этот круговой способ организации иногда проявляет себя буквально (пение в хороводе, в кругу, вокруг костра, вокруг стола и т.п.). Иногда же речь должна идти просто о том, что совместное пение служит средством утверждения социального круга или социальной группы, имеющей не иерархическую, не пирамидальную, а круговую структуру. Иными словами, данный способ организации песенного действия служит утверждению определенного типа общностей (первичная группа и т.п).
– Преобладание диалога над монологом. Однонаправленная форма коммуникации для этого типа песенного взаимодействия не типична. Эта закономерность проявляет себя разнообразно. Во-первых, диалогична сама форма песенного действия. Во-вторых, в том случае, если при этом складываются некие устойчивые общности (группы), то они склонны к диалогическому взаимодействию внутри группы, а также и к развитию диалога между группами. Стремление к культурному диалогу для них – норма.
– Спонтанность, импровизационность, естественность, песенное взаимодействие как элемент образа жизни («кусок жизни»).
– Различные формы песенного взаимодействия, относящиеся к рассматриваемому типу, проявляют тенденцию к образованию множественного и разнообразного культурного ландшафта. Образуются различные круги, группы. Развиваются связи между ними. Культурный социум начинает походить на некий гипертекст. Полицентризм и множественная субкультурность — вот постоянные характеристики культурного пространства, где доминирует подобный тип культурного взаимодействия.
Для второго типа (НФ-2) характерно прямо противоположное:
– Разделение на исполнителей и слушателей.
– Принципиальное неравенство участников действия.
– Тенденция к профессионализации и, как следствие, деление на профессионалов и непрофессионалов. Здесь это также имеет ценностную окраску: профессионализм – ценность.
– Явное преобладание вертикального типа организации, ограниченность возможностей перемещения внутри этой структуры.
– Линейная («стреловидная») направленность «от… к…». Например, от исполнителя к слушателю.
– Преобладание монолога над диалогом.
– Отрепетированность, «сделанность», в конечном итоге, искусственность.
– Моноцентризм и укрупнение социокультурного пространства как тенденция. Антитеза субкультурности. Стягивание к единому центру, приведение многообразия к единству (и, как следствие, определенная унификация) – таково действие этого типа по отношению к культурному пространству.
Выделение этих двух типов есть, строго говоря, некоторая идеализация. В химически чистом виде они встречаются также редко, как идеальный газ или абсолютно твердое тело. Кроме того, есть и смешанные формы, где признаки этих двух типов выступают либо в синкретическом, либо синтетическом единстве (колыбельная песня, храмовое действо). Впрочем, это уже выходит за пределы нашей темы. Нам сейчас важнее понять, что внутри НФ уже содержится некая оппозиция, создающая две противоположные тенденции, два разнонаправленных вектора.
После этой констатации мы возвращаемся к нашей главной теме. И здесь нас подстерегает искушение напрямую сопоставить Интернет и телевидение с вышеозначенными типами (тенденциями, векторами). Например, предположить, что телевидение является полем, где в полную силу развертывается вторая (унифицирующая, монологическая) тенденция, а Интернет соответствует первому типу и служит сферой реализации первой тенденции. Все, однако, не так просто.
Попробуем разобраться в этом по-порядку.
Начнем с телевидения. В статье Екатерины Сальниковой «Предыстория визуальности или телевизор как звено культурной эволюции» (Наука телевидения. №5.. с. 61) проведена линию связи между между телевизором и камином (домашним огнем): «Камин – великий предшественник телевизора». Позволю себе по-своему додумать эту весьма интересную мысль, направив ее по несколько иному руслу.
Пусть телевизор – огонь, горящий в вашем доме, далекий потомок костра, очага, камина. Когда-то огонь не только согревал и освещал дом, делал его живым… Он вообще делал дом домом.
Но огонь – не только центр и душа дома, но и своеобразное представительство в доме далекого иного. Задолго до того, как человек научился добывать огонь (трением или ударом камня о камень) он начал получать его как дар свыше. Это и был первичный опыт общения с огнем. Молния, падающая с небес, как светящаяся стрела, зажигает огонь на земле. Так с образом огня изначально оказываются связанными образы вертикали и направленного сверху вниз движения. В очаге поддерживается огонь и таким образом поддерживается память о том, что падает с небе, из Космоса, или из мира иного. Это частичка небесного на земле, в доме, горнего в дольнем. И здесь даже нет нужды как-то подчеркивать, что этот архетипический образ наполнен сакральными смыслами. Сами собой вспоминаются огнепоклонники, для которых священный огонь – образ Бога на земле. Вспоминается и «неопалимая купина», образ говорящего огня, в котором не сгорает куст. Священный огонь – источник Откровения. И если мы всерьез рискнули провести линию от очага (камина) к телевизору (а я готов сделать это), то мы должны иметь в виду и эту вереницу смыслов.
Телевизор – тоже пламя, пламя не сжигающее и не даже обжигающее. Пламя, говорящее, и к тому же – показывающее. То, что оно говорит и показывает, приходит сверху, их столицы («Говорит и показывает Москва»). Эта идея движения сверху вниз реально присутствует в общественном сознании, что хорошо иллюстрируется песенкой времен раннего КВН: «На телебашне облака. Я к вам приду издалека. Как телепат, как телемаг, я проникаю в каждый дом. Пока горит телеэкран, я вас веду, как капитан и управляю всей Землей, как кораблем» (Цитирую по памяти). Если во всем этом что-то есть, то в образ телевизора – живущей в доме частицы упавшего с небес огня «зашита» идея сакральности, а если прибавить к этому образ огня говорящего, то и идея откровения. А если так, то телевизор обладает (на уровне коллективного бессознательного) презумпцией непогрешимости, презумпцией чистоты, истины, добра, красоты. Ему не верить нельзя, даже «если абсурдно».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе