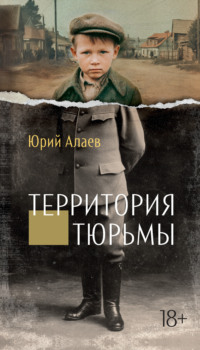Читать книгу: «Территория тюрьмы», страница 3
Тарантас
Искрило между родителями часто, и это угнетало Горку, он нервничал, начинал беспричинно плакать и мог по полдня прятаться от матери на печке, не выходя к столу и не отвечая на ее вопросы. Обиднее всего было, что они умудрялись испортить даже то, что начиналось хорошо и весело. Вот пикник, например, который отец придумал как-то в один из июльских выходных.
В ту субботу все сложилось на удивление: отец пришел с работы рано, около пяти, был в ровном настроении, у матери ничего не болело. Они переговорили коротко за чаем, отец взялся за телефон и заказал на воскресенье персональный тарантас.
После войны прошло уже десять лет, на улицах советских городов становилось все больше «побед», ЗиМов, не исчезли и «виллисы», теснимые, впрочем, своими сводными братьями – «козликами», но в глухой Бугульме и окрестностях по-прежнему были в ходу телеги (а зимой – сани, разумеется), некоторые – с обрезиненными колесами, трофейными, как говорили. Но тарантас директора Горпромкомбината Прохора Семеновича Вершкова являл собой нечто особенное, затмевая диковинностью даже черный ЗиМ с окнами, забранными занавесками с кистями, на котором ездил местный поп.
Строго говоря, это был какой-то конструктор, а не тарантас: укороченные оглобли, четырехместная кабина с откидывающимся дерматиновым верхом, большие, каретные, задние колеса (подрессоренные, – предмет особой гордости отца), но мать упорно называла повозку тарантасом, а отец не возражал, хотя чувствовал, что жена говорит с легкой издевкой. Так, пожмет плечами – и все.
Ну и вот, отец, пожав плечами, принял воскресными утром вожжи у конюха Сереги, пригнавшего тарантас к воротам их конюшни, подождал, пока Горка взгромоздится на козлы рядом (мать, разряженная в крепдешин, уселась, как барыня, сзади), и они отправились в путь.
Дорога на Малую Бугульму шла под гору, ехать было километров семь-восемь, и Горка имел все возможности покрасоваться перед пацанами и девчонками, кучковавшимися там и сям по своим делам и смотревшими на проезжавший тарантас кто с потаенной завистью, а кто, пожалуй, и с брезгливой ненавистью. Горке шел седьмой год, и он уже умел различать такие оттенки, а особенно – настроение девчонок. И оно-то, девчачье, его как раз радовало, заставляя сидеть этаким петушком.
Скоро город кончился, по обе стороны дороги потянулись зеленые поля, вдали уже показались крыши поселка и ленточка петлявшей в долине речки, называвшейся совсем непонятно – Зай. Вообще, и почему прилегающий к городу поселок назвали не как-нибудь по-своему, а Малой Бугульмой, тоже было не очень понятно: вокруг было немало деревень и сёл – Чертково, например, или Письмянка (а рядом – еще и Солдатская Письмянка). Горка различал в этих названиях смысл, а тут… Позже, уже в средней школе, когда Горка узнал и про Большой Нью-Йорк, и про Большой Токио, про другие мегаполисы, название «Малая Бугульма» приобрело в его глазах довольно комичный характер, но в то же время и горделивый: не каждый райцентр с населением всего-то семьдесят тысяч человек мог похвастаться чем-то вроде города-спутника.
Свернув с асфальта на проселок, они ехали некоторое время вдоль молодой березовой рощицы, наконец отец высмотрел поляну недалеко от речки, и семья принялась разбивать бивак.
Разбивка состояла в том, что отец выпряг и стреножил коня, а мать тем временем расстелила покрывало и разложила на нем снедь – горку ярко-красных помидоров и беломраморных яиц, пару пучков зеленого лука и редиски, ломти постной вареной свинины в глиняном блюде, а потом, помедлив, извлекла из корзинки завернутые в льняные салфетки ножи и вилки.
Отец, увидев их, разразился таким хохотом, что конь (у него почему-то не было клички – конь и конь) заржал в ответ.
– Наташка, – проговорил, сглатывая смех, отец, – ну ты еще фужеры хрустальные достань!
– С водкой и стаканом обойдешься, – фыркнула мать, но тут же и сама рассмеялась: глупо, конечно, но вот так – само вышло.
Конь на смех матери отреагировал осторожнее: скосил на нее глаз, вздохнул и принялся щипать траву.
Они уселись вокруг яств, точнее – полуулеглись (каждый – на левом боку, опираясь на локоть; чистые патриции!) и начали пировать. Горке, впрочем, поза показалась неудобной, он уселся по-турецки и взялся лущить яйца. Он очень любил есть их со сметаной и зеленым луком, причем не так, как подавала мать – порезанными на тарелке, залитыми сметаной и присыпанные лучком, а по-своему, отправляя в рот большую ложку сметаны, а следом – пол-яйца, лучинку лука и кус хлеба; так было гораздо, гораздо вкуснее – когда все у тебя сочно перемешивается прямо во рту!
Мать такое варварство, как она однажды выразилась, сама удивившись вырвавшемуся слову, не одобряла, конечно, а с другой стороны – ест сынок, и слава богу, что не гематоген. Отец, правильно прочитав женин взгляд на Горку, выудил из корзинки бутылку «белоголовой», легко сорвал «бескозырку» и провозгласил: «Надо, значит, выпить за общее здоровье!»
Мать только махнула рукой: она не пила вообще, но мужу не запретишь.
Потрапезничав, они все вместе пошли к речке мыть посуду, а потом мать с отцом ушли в рощу, а Горка остался на берегу – швырять в воду голыши и считать, сколько у него получится «блинов».
Он часто думал о том, как живут его отец и мать, и выходило, что не очень: отец приходил домой поздно, нередко – с запашком, мать злилась и выговаривала ему, что он как квартирант в доме, ничего ему не надо, что все у них не как у людей; отец мрачнел, начинал смотреть на мать тяжелым, угрюмым взглядом, потом молча укладывался в кровать, отвернувшись к стене, и некоторое время чертил по ворсу ковра какие-то знаки. «Счетовод», – шипела мать, а Горке казалось, что это лежит какой-то обиженный ребенок. Большой: отец был под два метра ростом.
Горка посидел еще некоторое время у речки, слушая плеск воды и чпоканье вышедшей на вечерний жор рыбы, пошуршал галькой и пошел назад, на поляну.
Зрелище, открывшееся ему, повергло Горку в ступор. Родители сидели, полуобнявшись, на покрывале, мать положила голову отцу на грудь и что-то тихонько втолковывала ему, трогая пальцами воротник отцовой рубахи, а он слушал, улыбаясь всем своим мясистым лицом. И в этом – в блескучей речке, в залитой вечерним солнцем изумрудно-зеленой поляне, на краю которой все так же взмахивал хвостом и жевал конь, в облике отца и мамы – было что-то такое, что у Горки заколотилось сердце и выступили слезы.
Мать как почуяла – отстранилась от мужа, легко встала навстречу Горке, обняла его, прижимая к своему волнующемуся теплому животу, и – так же как пару минут назад мужа – принялась втолковывать, приговаривать: «все хорошо, сынок, все хорошо». И тут же, обернувшись на мужа и словно извиняясь: «много впечатлений зараз, перенервничал».
Отец, тоже поднявшийся, топтался на месте, не зная, что сказать или сделать. И тут его осенило.
– Горка, – сказал он, – помнишь, я тебе рассказывал, как меня батя учил на лошади ездить? Давай-ка я тебе покажу!
Мать отпустила Горку, слезы его высохли, и оба с интересом смотрели, что собирается показать отец. Он же растреножил коня, дал ему слизнуть с ладони кусок сахара и подвел к Горке.
– Значит, делаем так, – сказал отец, и не успели мать с Горкой опомниться, как он подхватил сына на руки и плюхнул его на спину коня.
– Ты что делаешь, идиот?! – закричала мать, но увидела сияющего Горку и замолчала.
Горка красовался. Сидеть ему было неудобно – ножонки маленькие, а бока у коня огромные, но что это значит, когда он сейчас поедет верхом! Конь шагнул, потом еще, Горку качнуло, он инстинктивно схватился за гриву, конь вдруг перешел на рысь, и в следующее мгновение Горка кубарем полетел под копыта.
Конь был деловой – он спокойно переступил через Горку и встал, а с матерью случилась истерика. Столько разных нехороших слов Горка никогда от нее не слышал, он даже плакать забыл.
Домой ехали молча и ужасно долго. Всё в гору, в гору, в гору…
В кителе Сталина
На новый, 1956 год мать сделала Горке неожиданный подарок. Еще 31 декабря все было как обычно: разукрашенная разноцветными стеклянными шарами и конфетти сосна, которую отец добыл, просто сходив на лыжах в лес, дурманившие запахом мандарины, творожник, шампанское для родителей и морс для Горки, а 1-го, когда он проснулся в предвкушении обещанных новых санок, мать вместо них выложила перед ним стопку тетрадок и книжек и заявила: «Все, сынок, – будем готовиться к школе». И Горка очень скоро узнал, каково это, и не узнал собственную мать.
Оказалось, она могла быть очень строгой и даже занудной. Она вела себя с Горкой как чужая, заставляя по сто раз на дню правильно садиться за стол, то есть воображаемую парту (держи спину, не сутулься!), правильно держать на парте руки (сложи ладонь к ладони, не свешивай локти!), правильно поднимать руку, чтобы задать вопрос учительнице или показать готовность ответить (не отрывай локоть, держи руку под прямым углом!), правильно стоять, отвечая (расправь плечи, не опускай голову!), – это была самая настоящая муштра. Кроме того, мать попыталась заставить Горку писать прописи, меняя разные перья, у каждого типа которых был свой номер, указывающий на толщину выводимых линий, и это уже было совсем невыносимо: у Горки все получалось вкривь и вкось, он то и дело ляпал кляксы, и тут мать в конце концов отступилась, буркнув с досадой: «этому пусть там учат».
Потихоньку у нее поумерился пыл и в остальном – отчасти потому, что Горка научился делать так, как она велела, а отчасти потому, что мать просто устала изображать училку. Зато возник вопрос о форме.
Вообще-то, его не должно было возникнуть, – иди в магазин «Промтовары» и покупай, все для всех одинаково: синяя гимнастерка, такие же брюки со стрелками, фуражка с кокардой «Ш» и ремень с бляхой. Но когда мать сходила и присмотрелась, у нее возникли серьезные претензии, которые она, не вполне еще вышедшая из образа учительницы, педантично изложила мужу. Во-первых, ее не устроило качество («у нас на фронте х/б тоньше было, а это дерюга какая-то»), во-вторых, цена («сто шестьдесят рублей за комплект, они что там, вообще?»), а в-третьих… она помедлила, но припечатала: «я не хочу, чтобы мой сын был как инкубаторский цыпленок!»
Прохор Семенович воззрился на жену в изумлении, но взял себя в руки и, помолчав, сказал: «Пошьем у меня, – и дешевле выйдет, и качественнее. Только он все равно будет как все».
Но вышло, что не как все: отец вдруг решил, что у Горки будет не гимнастерка, а китель.
Он объявил об этом, однажды заявившись домой сильно пьяным в компании Левы Гируцкого, тоже кривого на оба глаза. Бухнув на стол бутылку «белоголовой», отец сказал:
– Наталья, собери чего повкусней, икры, что ли, дай, еще чего, – у нас опять февральская революция, праздновать будем!
– Какая революция, Прохор? – начала было мать, но всмотрелась в мужа, в блуждающую улыбку на лице Левы и замолчала, принявшись накрывать, а потом позвала Горку на кухню: «Давай, сынок, здесь тихонько поужинаем, пусть мужики поговорят».
Они сидели на кухне, что-то клевали, пили чай и вслушивались в то, о чем говорили в комнате мужчины. Говорил больше отец, глухо и невнятно – о какой-то проработке, циркуляре, устоях, однажды выматерился, упомянув «черножопого» (мать осуждающе помотала головой), которому вдруг разонравился «Краткий курс» (Горка вопросительно посмотрел на мать, та пожала плечами); Гируцкий поддакивал, охал, а в какой-то момент спросил: «и что же теперь будет, Прохор Семенович?» – «А ничего уже не будет, – ответил отец, отхаркавшись, – пиздец всему будет, Лева!»
Тут мать не выдержала, вышла в комнату и заявила:
– Хватит материться, закрывайте партийное собрание, товарищи!
– Так оно еще днем закрылось, – невесело засмеялся отец, – а мы сейчас покрой Горкиного кителя обсуждали – с отложным воротником или стойкой делать; у Сталина и такой был, и такой. Как думаешь, Наталья?
Наталья, конечно, подумала, что это уже начался пьяный бред, и решительно прекратила застолье, но спустя пару дней выяснилось, что мысль о кителе засела в голове Прохора Семеновича основательно: он повез сына и жену в швейный цех Горпромкомбината выбирать ткань.
Отцовский кабинет оказался узкой, как пенал, комнатой, одна из стен которой представляла собой стеллажи, сверху донизу занятые рулонами разных тканей. Отец прошелся вдоль этой стены, показал матери: «смотри – вот это тонкое сукно, тут темно-серое, а вот синее, в самый раз под форму». Мать отвернула край одного рулона, другого, погладила, помяла в ладони… «лучше сине-стального цвета, – сказала, – но почему китель, Прохор, не положено же?» – «Потому, – ответил муж, – на тебя не угодишь».
Горка молчал, соображая, какой цвет больше нравится ему.
Явился Гируцкий, они перебросились с отцом парой фраз, и Горку повели в закройщицкую, снимать мерки.
Пошив оказался хлопотным делом. Сначала Гируцкий облазал Горку сверху донизу, меряя тонкой лентой портновского метра (там на самом деле было полтора метра, как Горка рассмотрел) талию, грудь, длину рук и ног, плечи и зачем-то спину, записал результаты обмылком прямо на разложенном на столе отрезе, потом снял с гвоздя какие-то в разные стороны изогнутые картонные фигуры, лекала они назывались, и принялся прикладывать их к ткани, обводя по ней все тем же заостренным концом обмылка, а потом вдруг схватил огромные, в половину Горкиной руки, ножницы и принялся резать сукно.
Горка уже заскучал к этому времени, но тут у него полезли на лоб глаза: Гируцкий клацал ножницами и одновременно челюстью, которая двигалась с ними точно в такт. Как будто он зубами резал ткань.
Горка обернулся, ни отца, ни матери в закройщицкой не было, и он, собравшись с духом, решился задать вопрос самому Гируцкому.
– Лев… – Он никак не мог вспомнить отчество, но вспомнил-таки. – Лев Гдальевич, а вы зачем делаете вот так, когда режете? – Горка показал.
– Я так делаю?! – удивился Гируцкий. – Серьезно?! – И засмеялся. – Надо же, никогда за собой не замечал. Вот такой я обезьян, значит.
Горка всмотрелся в закройщика и подумал, что да, похож, но явно не на гориллу и не на мартышку. Решил, что на пожилого шимпанзе.
На самом деле Гируцкий был никакой не обезьян, конечно, а добрый и умный дядька, только стеснительный. Он даже в шахматы научил Горку играть, пока они не спеша двигались от примерки к примерке, раз в неделю, а то и в две, и много чего рассказывал о своем детстве где-то под Бердичевом. Выходило, что оно мало отличалось от детства мамы, только у Гируцкого было много братьев и сестер и вообще родни, а у мамы никого.
Наконец, накануне майских, костюм был готов. Портниха облачила Горку, выдернула оттуда-отсюда какие-то нитки, огладила китель, и они с Гируцким повели Горку в кабинет отца. Тот посмотрел, повертел сына, спросил: «ну как? – и, не дожидаясь ответа, хлопнул Гируцкого по плечу. – спасибо, Лева, сидит как влитой!» И снова обращаясь к сыну:
– Как тебе, Егор, нравится?
Горка смотрел на себя в ростовое зеркало и не узнавал: в зеркале отражался незнакомый ему стройный, подтянутый и, главное, розовощекий мальчик.
– Ишь, аж разрумянился от удовольствия! – засмеялся отец. – Ну, отлично, теперь точно будешь не как все.
Горка меж тем подошел к окну и посмотрел на улицу. Напротив, на перекрестке, стояло нарядное краснокирпичное здание с башенками, в высоких окнах блестело весеннее солнце, над крышей туда-сюда летали галки…
– Да-да, – сказал отец, подойдя, – это твоя школа. Первая – и по номеру, и вообще.
И вот 1 сентября Горка стоял на правом фланге линейки для первоклассников в своем новеньком кителе, в лаковых ботинках, в фуражке с лаковым козырьком и высокой тульей (отец что-то сделал с пружинным ободком внутри, и она сразу задралась), прижимая к груди кустик цветов, и косился на мальчишек и девчонок в строю. А они косились на него и как-то… не очень дружелюбно – может, даже с опаской. И учительница, краснощекая молодая женщина в «химии», Людмила Михайловна, тоже чаще посматривала на Горку, чем на других (во всяком случае, ему так казалось), и осуждающе покачивала головой.
Он догадывался почему – он был в этом строю не как все, – но и представить себе не мог, как надолго, вплоть до четвертого класса, когда он устроил на переменке отчаянную драку со второгодником Плеско, он окажется для одноклассников чужим, абсолютно. Хотя мог бы понять уже после линейки, после того, как им показали класс и кто с кем будет сидеть, – вокруг него само собой образовалось пустое пространство; дети кучковались в сторонке, поглядывая, потом кто-то подходил осторожно, трогал (а то и норовил ущипнуть) и снова отходил, хмурясь или хихикая. Ситуацию немножко разрядила Светка Лифантьева, с которой Горку посадили за одну парту, – она решила, похоже, что будет шефствовать над чужаком, и демонстративно предложила ему леденец (он взял и сунул за щеку, вызвав у Светки поощряющую улыбку), но только немножко.
Что там потом произошло между взрослыми, Горка не знал, только через две недели после начала занятий отец принес домой форменную школьную гимнастерку и сказал:
– Будешь ходить в этом, а в кителе – по праздникам. – И добавил, скривив лицо: – а то истреплешь, шей потом опять.
«Ему позвонили», – обмолвилась мать, отвечая на невысказанный вопрос сына. И не стала ничего пояснять.
Много позже Горка не раз думал над тем, что тогда двигало отцом. Он знал уже, что в те февральские дни был двадцатый съезд КПСС, с которого началось разоблачение культа личности Сталина, догадывался, что отец говорил жене о закрытом партсобрании, на котором прорабатывалась новая партийная директива, понимал, что для отца, верой и правдой служившего партии, а значит, Сталину, хрущевские разоблачения были ножом по сердцу, но все-таки – что и кому он хотел сказать (показать, доказать?), обрядив семилетнего сына как бы в китель вождя? Так театрально, так бессмысленно… и безжалостно по отношению к ребенку… К определенному ответу Горка так и не пришел, и спросить было не у кого: к тому времени, как эти вопросы начали крутиться в его голове, отец уже был далеко.
Крык
А Светка так и вошла во вкус «шефини»: водила Горку по школьным коридорам, увешанным черно-белыми и цветными – анилиновыми – картинками, на которых кудрявые и благостные, как херувимчики, дети кушали за уставленными яствами столами, беседовали в каких-то ротондах и даже танцевали (все картинки были снабжены надписями, поясняющими, как все это делать культурно), показала спортзал, в котором старшеклассники гулко стучали по крашенному коричневым дощатому полу мячами, и маленький актовый зал с притулившимся в углу пианино, и даже туалет, который оказался во дворе. Тут Светка застеснялась, словно туалет был ее промашкой, и сообщила, что, вообще-то, раньше, до революции, он был в здании, но потом школа расширилась, стало сильно пахнуть, и его заделали.
– Откуда ты все это знаешь? – спросил Горка, освоившись с новой подружкой.
Оказалось, она знала от мамы, которая была членом школьного родительского комитета. «Мама рассказывала, – продолжала Светка, – что раньше тут была первая мужская гимназия, а напротив, – она махнула рукой в сторону стоявшего через дорогу такого же краснокирпичного здания, – была женская гимназия, и мама училась в ней».
Тут Горка задумался, силясь понять, когда же Светкина мама училась в дореволюционной гимназии, но разъяснилось и это, – Светка уточнила, что на самом деле это была советская школа, только для девочек.
– Ты что, вообще ничего не знаешь? – подозрительно спросила Светка. – Ты не соображаешь, что если бы мы с тобой пошли в школу не в этом году, а в прошлом… или в позапрошлом, все равно, – отмахнулась она, – то фиг бы ты меня тут увидел, все раздельно учились!
Горка, конечно, много чего знал, но про раздельное обучение – нет, ему никто не говорил.
– А вот эти картинки, – опять задумался Горка, – они что, тоже дореволюционные?
– По-моему, да, – сказала Светка, почему-то понизив голос, – хотя мама говорит, что это уже после революции плакаты делали, о культурном облике школьника Страны Советов, вот. А я думаю – срисовали: мы что – похожи на этих кудряшек? – И рассмеялась.
Да, он в своем кителе точно не был похож. Хотя…
Вечер после первого дня в школе Горка провел в задумчивости, мать даже встревожилась. Он пытался представить себе, что же за дети учились в его школе тогда, сто лет назад, в их маленьком городке и чьи это были дети, такие нарядные, как на картинках в коридоре, – чьих-то богатых? И сколько их было таких? Что-то тут не сходилось с тем, что рассказывала о своем детстве мать, с тем, как жили они и их соседи, вообще ни с чем не сходилось. Про Тома Сойера сходилось, даже про жизнь Айвенго он мог себе представить вполне ясно, а тут… Горка решил, что надо будет все разузнать поподробнее, и с тем уснул.
На самом деле старорежимные картинки в коридорах, и портреты каких-то бородатых дядек в сюртуках в классах, и сам факт, что эта школа существовала еще в девятнадцатом веке, и скрипевшие под облезлым линолеумом паркетные полы в «елочку» (кое-где было видно) – все это создавало определенную атмосферу, которую чувствовали и ученики, и учителя, некоторые из них, как вообразилось Горке, вполне могли бы преподавать и тогда, до революции, – соответствовали, можно сказать. Или старались соответствовать, как они это себе представляли.
Например, Людмила Михайловна буквально вспыхивала, когда слышала в ответ «ага». Она терпеть не могла это слово, и раз за разом выговаривала: дети, так говорить некультурно, надо отвечать «да» и не односложно, а развернуто. Или «айда». «Что значит „айда“? – вопрошала классная, обводя подопечных пристальным взглядом. – это заимствование из татарского, и вас даже не поймут, если вы так скажете кому-то в Москве, например, да хоть в Ульяновске! Есть нормальное русское слово „пойдем“, так и надо говорить». Учитывая, что из двух десятков человек в классе были всего два татарина, возражений не последовало, хотя Горка к таким наставлениям относился скептически: ага и ага, айда и айда – что тут такого неправильного?
А однажды в класс вместо приболевшей Людмилы Михайловны явилась седая старушка в буклях и платье с оборками и сказала, сияя лицом, похожим на печеное яблоко: «сегодня одной эчью с вами буду заниматься я. Вы знаете сказку про куочку ябу?» Полкласса прыснули, полкласса уткнулись в парты от неловкости, но старушка, не выговаривавшая «р», ничего не заметила и пол-урока вдохновенно рассказывала об образах и символах русских народных сказок. Поразительно, но очень быстро класс перестал замечать дефект ее речи и на всю катушку включился в обсуждение того, что значила печка Ильи Муромца и на что указывали надписи на камне у развилки дорог.
Вскоре выяснилось, что эта старушка, Изольда Соломоновна Лившиц, была заслуженным учителем школы РСФСР, а преподавать начала именно еще при царе. Конечно, она погорячилась, наверное, заговорив с первоклашками о символизме в фольклоре, но вышло здорово, – Горке, да и не только ему, очень понравилось. Возможно, и потому, что она с ними разговаривала и как с детьми, и одновременно как со взрослыми, понимающими людьми.
При всем этом Изольда Соломоновна навсегда осталась для их класса «куочкой ябой» – и в пятом классе, когда она вела уроки русского языка и литературы, и позже.
Еще один учитель, которого легко было представить себе в дореволюционной школе, был Анатолий Анатольевич Амадио, время от времени (Людмила Михайловна частенько прихварывала, несмотря на свою корпулентность), занимавшийся с «первашами» рисованием. Горка просто обмер в восхищении, увидев его в первый раз: высокий, весь в черном (и черные волнистые волосы, и черные глаза), подтянутый… даже не подтянутый, а напряженный как струна, вспомнилось Горке книжное, – нервное тонкое лицо и профиль! Просто с литографий о древних римлянах! Какими ветрами занесло такого человека в захолустную Бугульму, да вообще в СССР, кто были его предки – так и осталось для Горки тайной.
Он был строг и холоден с учениками – и тогда, на уроках рисования, и позже, когда преподавал в старших классах черчение; Горка намучился с ним (и наоборот, конечно) и когда пытался нарисовать кувшин, и тогда, когда пыхтел над чертежами – правильные линии были явно не его стихией. Правда, потом, насмотревшись Модильяни и Пикассо, Горка решил, что его кривобокие кувшины были вполне себе ничего, но в жилах Анатолия Анатольевича, похоже, текла кровь римских классицистов, и он решительно, сжав губы, перечеркивал Горкины творения одно за другим и запросто мог бы вывести «двойку» за черчение в шестом классе, если бы не умение Горки читать чертежи.
– Послушайте, у вас же хорошая голова, – говорил Горке Амадио (он всем ученикам говорил «вы»), – почему она не управляет, как надо, вашей рукой? Концентрируйтесь, концентрируйтесь!
И показывал – легко, не прибегая к инструментам, вычерчивая ортогональные проекции… или так же легко, летящим движением карандаша, набрасывая фигуры людей, животных… вычерчивая идеальные кувшины, черт бы их побрал!
Так впервые Горка понял, что он может не все (а у него были такие мыслишки – что может), и это его сильно озадачило. Потому что, вообще-то, ему было в школе скучно – и в первом классе, и во втором, и даже в пятом, пожалуй: бо́льшую часть того, чему их учили, он уже знал, а что не знал – схватывал играючи и всегда отвечал с запасом, учителя нередко просто останавливали его избыточность. Однако вот – «я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», но и угол выходил кривым.
Конечно, в школе были и другие учителя, не такие живописные, как «Куочка яба» или Амадио, даже совсем не живописные, а подчеркнуто сухие, одноцветные, можно сказать. Физкультуру, например, преподавала маленькая жилистая женщина, всегда в одном и том же застиранном трико, которая за год горкиной учебы ни разу не улыбнулась и ни разу никому не сказала чего-то ободряющего. Она была как автомат: построились, ноги на ширине плеч, вдох – выдох, вдох – выдох, пять наклонов влево, пять вправо – раз, два, три… разогрелись – к канатам!
Они разминались, бегали по кругу, по очереди лазали по канатам и шестам (с канатом Горка быстро научился управляться, а шест больно давил ему на коленки, Горка соскальзывал и тут же слышал требовательное: второй подход, работай руками, тянись!), потом с разбега прыгали через «козла», опять бегали по кругу…
Однажды вместо «козла» физрук поставила посреди зала козлы, как для бега с барьерами, с метр высотой, только грубые, будто со стройки, и приказала прыгать через них «ножницами». Показала сама, – легко, играючи, отошла в сторонку. Мальчишки и девчонки, выстроившись гуськом, принялись прыгать. У кого-то получилось сразу (у Горки тоже, хотя не очень уверенно), кто-то цеплял перекладину ногой и валился на мат позади козел, но, в общем, все шло споро, пока не дошло до Верки Уфимцевой, болезненной белесой девчонки, которую почему-то называли сектанткой (может, потому, что родители наотрез отказались отдавать ее в октябрята, а позже и в пионеры). Верка боялась козел, это было видно, но собралась, побежала – и с разбега хряснулась промежностью о брус. Все услышали, как что-то хрустнуло, и замерли. Верка, ставшая уж совсем как простыня, свалилась на бок, потом встала на четвереньки и молча поползла к скамейкам у стены. Они смотрели (Горка отметил, что Верка даже не заплакала, не было слез), и училка смотрела. Молча, поджав губы. Верка заползла на скамейку, села, раскорячившись, и тут физрук вдруг сказала в гулкой тишине спортзала: «Тяжело в учении – легко в бою, товарищи! На сегодня урок закончен».
«Зинаида Васильевна в войну была разведчицей, – рассказала потом Людмила Михайловна, – и с парашютом в тыл врага прыгала, и „языков“ брала, вы должны понимать, ребята». Ну да, одним из любимых занятий физрука было показывать им, как ходить, чтобы не было слышно, перекатывая ступню вбок с носка на пятку, чтобы ни веточка не хрустнула. А у Верки хрустнуло, так что ж, до свадьбы заживет, как любили говорить детям взрослые.
И ведь они реально так думали, сделал открытие Горка, когда стало ясно, что случай с Веркой Уфимцевой не привел ни к каким последствиям, не считая того, что ее на месяц освободили от физ-ры. Дети рассказали, конечно, о случившемся родителям, но никто и ухом не повел, даже тот же школьный комитет, в котором состояла мама Светки Лифантьевой, – никаких разбирательств, ни упрека физруку… Может, потому, что ее очень уважал директор школы, сам, говорили, фронтовой офицер.
Фамилия директора была Григорьев (Леонид Иванович), но школяры за глаза называли его не иначе как Крык. Он ходил всегда в сером двубортном пиджаке и брюках, похожих на галифе, только зауженное, которые он заправлял в высокие хромовые сапоги. Эти сапоги, кажется, были предметом гордости директора, – они всегда были начищены до блеска и издавали при ходьбе вот этот самый скрипящий звук – крык, крык, крык, и директор, складывалось впечатление, вышагивал так – как гусь, – чтобы этот «крык» звучал как можно более отчетливо.
И он ни с кем не разговаривал, – молча ежеутренне совершал обход школы, во дворе и в здании, иногда заглядывая в классы и кивая училкам, и уходил в свой кабинет. Говорили, что на войне он сорвал голос, но Горка знал, что это не так, потому что с ним Крык однажды заговорил.
Он вошел в туалет, когда Горка, пописав, разглядывал порозовевшие тетрадные листки – там, среди кала и мочи, – и соображал, отчего они порозовели. Крык встал рядом, тоже принялся писать, потом искоса посмотрел на Горку и вдруг спросил: «к органической химии готовишься? Молодец».
Застегнулся и вышел.
Горка не понял, какое отношение испражнения имеют к органической химии, но догадался, что директор принял его за старшеклассника, и это вызвало в Горке нечто вроде гордости: он всегда хотел быть взрослее. И сам факт, что с ним заговорил директор, который ни с кем не разговаривает, тоже, конечно, возвысил Горку в его собственных глазах.
А однажды они с Витькой Масловым, с которым Горка сошелся, потому что тот тоже знал много больше школьной программы, поняли, что значит Крык в ярости и почему его все боятся. Они болтали в коридоре у окна неподалеку от директорского кабинета и вдруг услышали ужасный, буквально звериный рев. В следующее мгновение дверь кабинета с треском распахнулась, и Крык выволок в коридор какого-то мальчишку, по виду класса из пятого, и со всего размаха дал ему пендель. Пацан полетел по воздуху, размахивая руками, а Крык развернулся и захлопнул за собой дверь.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе