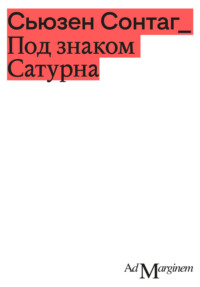Читать книгу: «Под знаком Сатурна», страница 3
Театр Арто – это выматывающая силы машина, преобразующая концепты разума в целиком «материальные» события, в числе которых – и сами страсти. Выступая против векового предпочтения, которое европейский театр отдавал словам как средствам выражения эмоций и идей, Арто стремится продемонстрировать органическую основу переживаний и физическую сторону идей – в телах актеров. Театр Арто представляет собой реакцию на то недоразвитое состояние, в котором на протяжении многих поколений оставались тела западных актеров (и голоса, если отбросить декламацию) – как и само искусство зрелищ. Для устранения дисбаланса, при котором на первый план выдвинут язык слова, Арто предлагает приблизить обучение актеров к тренировке танцоров, атлетов, мимов и певцов, «прежде всего положив в основу театра зрелище», как он пишет во «Втором манифесте театра жестокости» (1933). Он не предлагает подменить чары языка зрелищными декорациями, костюмами, музыкой, освещением и сценографией. Мерилом зрелища у Арто становится насилие над чувствами, а не их очарование; понятие прекрасного его совершенно не занимает. Арто вовсе не считал зрелищность саму по себе желанной и, наоборот, скорее хотел бы подчинить сцену крайней строгости – вплоть до исключения всякого символизма. «Объекты, реквизит, декорации на сцене должны восприниматься непосредственно… не из-за того, что они представляют – но чем являются сами по себе», пишет он в манифесте 1926 года. Позднее, в «Театре и его двойнике», он предложит полностью избавиться от декораций. Он призывает к «чистому» театру, управляемому «физикой абсолютного жеста, который сам есть идея».
Если в языке Арто чувствуются нотки платонизма, это неслучайно, ведь, подобно Платону, к искусству он подходит с точки зрения моралиста. Театр ему не очень по душе – по крайней мере тот, каким его в основном представляют на Западе и который он обвиняет в недостаточной серьезности. Его театр не будет иметь ничего общего с целями «бессмысленной, искусственной уловки», всего лишь развлечения. В центре полемики Арто – не просто противостояние исключительно литературного театра и театра мощных переживаний, но конфликт театра гедонистического и морально безупречного. Арто предлагает театр, который вполне могли бы одобрить Савонарола и Кромвель. Действительно, «Театр и его двойник» может читаться как исполненный негодования выпад против театра, своей враждебностью напоминающий «Письмо к д’Аламберу о зрелищах»: Руссо, возмущенный персонажем Альцеста в «Мизантропе» (в котором он усмотрел утонченную насмешку Мольера над искренностью и моральной чистотой как атрибутами неуклюжего фанатизма), утверждает в его заключении, что отсутствие нравственной глубины заложено в самой природе театра. Подобно Руссо, Арто восстает против моральной дешевизны большей части искусства. Как и Платон, он убежден, что искусство в целом лживо. Он вряд ли стал бы изгонять художников из своего Государства, но терпеть искусство готов лишь как «подлинное действие». Искусство должно быть познавательным. «Мне подходит лишь такой образ, который одновременно был бы познанием», пишет он. Искусство должно оказывать на публику благотворное духовное воздействие, эффект которому, по мнению Арто, обеспечивает отказ от любых форм опосредования.
Именно внутренний моральный голос Арто стоит за его призывом отсечь лишнее в театре, насколько возможно освободить театр от элементов-посредников – включая посредничество написанного текста. Пьесы лгут – а если какая-то из них и не лжива изначально, она приходит к фальши, обретая статус «шедевра». В 1926 году Арто объявляет, что не намерен создавать театр лишь для представления пьес и тем самым сохранения или пополнения списка освященных культурой шедевров. Наследие мировой драматургии он считает бесполезным препятствием, а самого драматурга – ненужным посредником между публикой и истиной, которая должна неприкрытой предстать со сцены. Здесь, однако, морализм Арто решительно расходится с платоновским: эта неприкрытая истина у него полностью материальна. Театр Арто определяет как место, где потаенные стороны «духа» открываются в «реальной, вещественной проекции».
Для воплощения мысли театр, сформулированный по правилам такой строгости, должен избавиться от посредства уже написанного текста, что тем самым положит конец разделению автора и актера. (И, соответственно, снимет самое древнее возражение против профессии актера как некоей психологической распущенности, когда люди произносят чужие слова и притворяются, будто испытывают функционально лицемерные чувства.) Что же до разделения актера и публики, его нужно сократить (но не упразднить), нарушив границу между сценой и установленными рядами кресел в зрительном зале. Арто с его иератическим чувствованием никогда не помышлял о театре, где публика активно участвовала бы в представлении, но он хотел покончить с правилами театрального этикета, позволяющими зрителям отмежеваться от собственного опыта. Имплицитно отвечая на возражения моралиста, обвиняющего театр в том, что он отчуждает людей от их подлинной самости, заставляя интересоваться воображаемыми проблемами, Арто намерен обратить свой театр не к разуму или чувствам зрителей, но ко «всему их существованию». Только самый воодушевленный моралист может стремиться к тому, чтобы люди ходили на спектакль, словно к хирургу или дантисту. Хотя фатальной такая операция для зрителей не станет (в отличие от посещения хирурга), она явно «серьезна», и публика не должна выйти из зала морально или чувственно «невредимой». В другой медицинской метафоре Арто сравнивает театр с чумой. Демонстрация истины подразумевает раскрытие скорее не личной психологии, а архетипов; это превращает театр в средоточие риска, поскольку «архетипичная реальность опасна». Зрители не обязаны отождествлять себя с происходящим на сцене. Для Арто «подлинный» театр – это опасный, устрашающий опыт, исключающий благодушные переживания, игривый настрой, обнадеживающую доверительность.
Ценность эмоционального насилия в искусстве долго оставалась основным принципом модернистского восприятия. До Арто, однако, такая жестокость носила беспристрастный характер и была нацелена исключительно на эстетическую эффективность. Бодлер, помещая «шоковый опыт» (по выражению Вальтера Беньямина) в центр своей поэзии и стихов в прозе, вряд ли стремился усовершенствовать своих читателей или наставить их на путь истинный. Но у Арто приверженность эстетике шока направлена именно на это. Безраздельная верность искусству как пароксизму представляет его таким же моралистом в области искусства, каким был Платон, – но надежды, которые он как моралист возлагал на искусство, отвергают как раз те отличительные особенности, в которых укоренены воззрения Платона. Поскольку Арто выступает против разделения жизни и искусства, он отметает все театральные формы, предполагающие расхождение реальности и репрезентации. Существование такой разницы он признаёт – но ее, по мнению Арто, можно преодолеть, сделав спектакль достаточно (то есть чрезмерно) жестоким. «Жестокость» произведения искусства наделена не только непосредственно моральной, но и когнитивной функцией. Согласно моралистическим критериям познания у Арто, изображение может быть подлинным, лишь будучи жестоким.
Взгляды Платона основаны на признании непреодолимого различия между жизнью и искусством, реальностью и репрезентацией. В знаменитой метафоре из VII книги «Государства» Платон сравнивает неведение с пребыванием в причудливо освещенной пещере, для обитателей которой жизнь предстает зрелищем, состоящим лишь из теней реальных событий. Пещера – это театр, а истина (реальность) находится за ее пределами, под солнцем. Арто же в платоновских образах «Театра и его двойника» занимает более снисходительную позицию по отношению к теням и зрелищам. Он признаёт, что существуют как истинные, так и мнимые тени (и зрелища), но можно научиться различать их. Он вовсе не готов отождествить мудрость с выходом из пещеры и созерцанием сияющей в зените реальности, полагая, напротив, что современное сознание страдает от нехватки теней. Исправить положение можно, оставшись в пещере, но придумав более эффектные зрелища. Арто предлагает театр, который послужит сознанию, «опознавая и направляя тени», а также разрушая «тени лживые», чтобы «подготовить путь для их нового поколения», вокруг которого выстроится «подлинное зрелище жизни».
Отвергая иерархическое представление о разуме, Арто преодолевает дорогое сюрреалистам искусственное разделение разумного и иррационального. Он отходит от привычной точки зрения, ставящей страсти превыше рассудка, а плоть – выше разума; ум, подстегиваемый наркотиками, предпочитающей уму прозаичному, а жизнь инстинктивную – мертвой работе мозга. Он скорее продвигает альтернативное отношение к разуму. Именно в этом состояла широко известная привлекательность незападных культур для Арто – но вовсе не это обратило его к наркотикам. (К опиатам Арто пристрастился, принимая их для успокоения мигреней и невралгических болей, от которых страдал в течение всей жизни, а вовсе не ради расширения сознания.)
Некоторое время Арто считал сюрреалистическое состояние разума моделью того единого, недуалистического сознания, к которому стремился сам. Порвав с сюрреализмом в 1926 году, в качестве более точной модели он выдвинул искусство – а именно театр, который Арто наделяет функцией заживления разрыва между языком и плотью. Это – лейтмотив его рассуждений о подготовке актеров как антитезе привычного обучения, не способного научить актеров тому, как двигаться и что делать с голосом помимо декламации (ведь они могут также вопить, рычать, петь, воспевать). Эта же функция становится и темой его идеальной драматургии. Отказываясь следовать нехитрому иррационализму, поляризующему рассудок и чувство, Арто видит театр местом, где тело возродится в мысли, а мысль – в теле. Свое собственное заболевание он определяет как разрыв внутри его разума («Целостность моего сознания нарушена», пишет он), вбирающий в себя раскол между умом и телом. Записки Арто о театре можно читать как психологическое руководство по их воссоединению. Театр стал его высшей метафорой саморегулирующейся, спонтанной, плотской, осмысленной жизни разума.
Разумеется, образы, с помощью которых Арто описывает театр в «Театре и его двойнике», созданном в 1930-х годах, становятся отголосками тех, что служили ему для описания собственных ментальных страданий в начале и середине 1920-х («Нервометр», переписка с Рене и Ивонной Алленди и «Фрагменты дневника из ада»). Арто жалуется, что его сознание лишено границ и не находит себе места, оторвано от языка или находится с ним в нескончаемой борьбе, надломлено, даже отравлено внутренней раздробленностью, лишено четкого положения или непоправимо зыбко (по-разному интегрируясь во время и пространство), оно одержимо сексом и необратимо заражено враждебными элементами. Основные характеристики театра Арто – это отсутствие четкого пространственного позиционирования актеров по отношению друг к другу и к публике; подвижность движения и душевного состояния; истязание языка и его преодоление в вопле актера; плотский характер зрелища и навязчиво жестокий тон. Конечно, он не просто воссоздавал свою внутреннюю агонию, а, скорее, представлял ее систематизированную, позитивную версию. Театр становится проецируемым образом (и неизбежно идеальной драматизацией) захватившей его опасной, «бесчеловечной» внутренней жизни, которую он с таким героизмом пытался преодолеть и утвердить, – но также гомеопатической техникой исцеления этой изуродованной, раздираемой страстями внутренней жизни. Будучи подобием эмоциональной и нравственной хирургии сознания, театр, по мнению Арто, просто обречен на «жестокость».
У Хьюма, открыто уподоблявшего сознание театру, этот образ носит морально отстраненный и абсолютно неисторический характер; он не имеет в виду какой-то конкретный театр, западный или иной, и счел бы неуместным напоминание о внутреннем развитии театра. Для Арто же решающим элементом этой аналогии является то, что театр – и сознание – может меняться. Поскольку не только сознание напоминает театр, но и театр (каким выстраивает его Арто) напоминает сознание, он может быть превращен в сценическую лабораторию по исследованию меняющегося сознания.
Записки Арто о театре – по сути, переосмысление надежд, которые он связывал с собственным разумом. Он хочет освободить театр (и свой ум) от заключения «внутри языка и форм». Освобожденный театр, предполагает он, сам освобождает. Давая выход предельным страстям и наваждениям культуры, театр изгоняет их демонов. Но роль театра у Арто не ограничивается исключительно катарсисом. Как минимум по замыслу (практика Арто в 1920-х и 1930-х годах – иное дело), его театр имеет мало общего с антитеатром игровых и садистских нападок на публику, разработанным Маринетти и дадаистами до и после Первой мировой. Он предлагает агрессию контролируемую, тщательно выстроенную, поскольку убежден: насилие над чувствами может стать разновидностью воплощенного интеллекта. Настаивая на когнитивной функции театра (драма, пишет он в эссе о Метерлинке 1923 года, есть «высшая форма умственной деятельности»), он исключает всякую случайность. (Даже в период близости с сюрреалистами Арто не прибегал к технике автоматического письма.) Театр, не раз отмечал он, должен быть «научным», то есть антитезой произвольности – не быть просто выразительным, спонтанным, личным или развлекательным, но иметь полностью серьезное и в конечном счете религиозное предназначение.
Акцент на серьезности положения театра у Арто также отделяет его от сюрреалистов, размышлявших об искусстве и его «терапевтической» и революционной миссии в весьма расплывчатых терминах. Сюрреалисты, чьи моралистические устремления носили куда менее непримиримый характер, чем у Арто, никак не увязывали занятия искусством с нравственной безотлагательностью и не пытались нащупать пределы конкретных художественных форм. Они чаще становились временными гостями – пусть часто и гениальными – в как можно большем числе искусств, полагая, что художественный импульс остается тем же, где бы он ни проявлялся. (Так, Кокто, выстроивший идеальную карьеру сюрреалиста, называл все, что он делал, «поэзией».) Предельная эстетическая смелость и авторитетность Арто обусловливаются отчасти именно тем, что, даже обращаясь к различным видам творчества и отказываясь, подобно сюрреалистам, следовать сковывающему делению искусства по выразительным средствам, он не усматривал в разнообразных художественных формах эквивалентные проявления одного многоликого импульса. Его собственные занятия, сколь бы разноприродными они ни были, всегда выдают поиски тотального вида искусства, в который вольются все остальные – как и само искусство сольется с жизнью.
Парадоксальным образом, именно нежелание наделять самостоятельностью отдельные сферы искусства привело Арто к тому, на что не решился никто из сюрреалистов, а именно переосмыслению одной конкретной художественной формы. Его влияние на эту форму – театр – столь велико, что историю всех серьезных достижений новейшего театра в Западной Европе и Америке принято делить на периоды до и после Арто. Никто из работающих сейчас в театре не избежал влияния самобытных идей Арто о теле и голосе актера, использовании музыки, роли драматического текста и о взаимодействии между пространством спектакля и пространством публики. Арто изменил наше представление о том, что является подлинным, чем вообще стоит заниматься. Из всех авторов, писавших о театре в нашем столетии, по важности и глубине с Арто можно было бы сопоставить только Брехта. Но Арто не сумел подействовать на сознание современного театра, будучи, подобно Брехту, великим режиссером. Его влияние не подкреплено опытом собственных постановок. Его практическая работа в театре в 1925–1926 годах, судя по всему, была настолько неудобоваримой, что не оставила практически никаких следов, тогда как идея театра, от имени которой он обрушивал свои эксперименты на невосприимчивую публику, лишь обрела со временем еще большую силу.
Начиная с середины 1920-х годов творчество Арто вдохновлялось идеей радикального изменения в культуре. В использовавшихся им образах проступает скорее не исторический, а медицинский взгляд на культуру: общество больно. Подобно Ницше, Арто видел себя врачевателем культуры – как равно и ее самым тяжело больным пациентом. Замышлявшийся им театр – это диверсия против культурных установлений, фронтальная атака на буржуазную публику, призванные продемонстрировать зрителям, что они мертвы, и пробудить их, вывести из оцепенения. Человек, который в последние три года из девяти, безвылазно проведенных в психлечебницах, будет внутренне опустошен сеансами электрошока, планировал с помощью театра сотрясти культуру таким же электрическим разрядом. Арто, жаловавшийся, что чувствует себя парализованным, хотел, чтобы театр «обновил смысл жизни».
В определенной степени предписания Арто напоминают многие из тех программ культурного обновления во имя простоты, élan vital6, естественности и свободы от ухищрений, что периодически возникали в последние два века западной культуры. Поставленный им диагноз – мы живем в неорганичной, «окаменевшей культуре», безжизненность которой он ассоциировал с доминированием письменного слова – уже в момент его оглашения никак не был свежей идеей; однако и десятилетия спустя значимости вынесенный им приговор не потерял. Доводы, которые Арто приводит в «Театре и его двойнике», перекликаются с аргументами Ницше, в «Рождении трагедии» сетовавшего на то, что полный жизненной силы афинский театр оказался засушен сократической философией, а именно введением персонажей рассуждающих. (Другая параллель с Арто: Ницше стал страстным вагнерианцем, вдохновившись концепцией оперы как Gesamtkunstwerk у Вагнера – до Арто это самая законченная идея тотального театра.)
Как Ницше отсылал к дионисийским церемониям, предшествовавшим светской, рационализированной и словесной драматургии Афин, так и Арто искал свои модели в незападном религиозном или магическом театре. Он не позиционирует Театр Жестокости как нечто новое в западном театре – тот «предполагает… иную форму цивилизации». Арто, однако, имеет в виду не какую-то конкретную цивилизацию, но, скорее, идею цивилизации, опирающуюся на известные исторические прецеденты – синтез элементов, позаимствованных в обществах прошлого и незападных и примитивных обществах настоящего. Такое предпочтение «иной формы цивилизации» по определению эклектично. (Иными словами, это композитный миф, порожденный определенными моральными потребностями.) Вдохновение для идей Арто о театре пришло из Юго-Восточной Азии: он видел выступления камбоджийской труппы в Марселе в 1922 году и театра Бали – в Париже в 1931 году. Но отправной точкой точно так же могли стать наблюдения за спектаклями дагомейских племен или церемониями шаманов у индейцев Патагонии. Главное, чтобы эта иная культура была по-настоящему иной – то есть не западной и не современной.
В разное время Арто проследовал по всем трем наиболее популярным дорогам, которые воображение интеллектуалов прокладывало от высокой культуры Запада к «иной форме цивилизации». Первой стала та, что сразу после Первой мировой, в работах Гессе, Рене Домаля и сюрреалистов, обозначалась как Поворот к Востоку. Затем пришел интерес к сокрытой сфере западного наследия: неортодоксальным духовным или откровенно магическим традициям – и, наконец, открытие жизни так называемых примитивных народов. Восток, древние антиномические и оккультные традиции Запада, экзотический коммунитаризм дописьменных племен – их объединяет нездешнесть, как пространственная, так и временнáя. Все они воплощают ценности прошлого. Хотя мексиканские индейцы тараумара существуют и по сей день, выживание племени было анахронизмом уже в 1936 году, когда их посетил Арто; ценности, которые они представляют, так же принадлежат прошлому, как и постулаты мистических религий Ближнего Востока, которые Арто в 1933 году изучал для своего исторического романа «Гелиогабал». Эти версии «иной формы цивилизации» свидетельствуют о стремлении к обществу, выстроенному вокруг открыто религиозных тем, и о бегстве от светскости. Арто привлекает Восток буддизма (ср. его «Письмо к буддийским школам», 1925) и йоги – но никак не Мао Цзэдуна, как бы он ни превозносил революцию. (Великий поход пришелся ровно на то время, когда Арто бился над постановками своего Театра Жестокости в Париже.)
Подобная ностальгия по прошлому – зачастую настолько эклектичному, что локализовать исторически его вряд ли возможно – стала аспектом модернистского восприятия, который в последние десятилетия воспринимается со все большим подозрением. Перед нами – предельно усовершенствованная перспектива колониста: эксплуатация в воображении небелых культур, чьи нравственные воззрения безмерно упрощаются, а мудрость растаскивается по кускам и пародируется. Убедительного ответа на эти упреки нет – но вот на обвинения в том, что ищущие «иную форму цивилизации» отказываются смириться с разочаровывающим результатом таких поисков или принять точное историческое знание, ответить можно следующее. Они и не стремились к такому знанию. Другие цивилизации используются в качестве моделей и стимулируют воображение именно потому, что они недоступны. Это одновременно образцы для подражания – и непостижимые тайны. Точно так же подобный поиск нельзя отмести как неискренний на основании того, что он оставляет без внимания политические силы, тождественные человеческому страданию: он сознательно противопоставляет себя такому восприятию. Эта ностальгия вписывается в намеренно аполитический взгляд на мир – сколь бы часто она ни поднимала знамя революции.
Одним из результатов стремления к тотальному искусству, обусловленного неприятием разрыва между жизнью и искусством, стало укрепление представления об искусстве как инструменте революции. Другим – отождествление и искусства, и жизни с незаинтересованной, чистой игрой. На каждого Бретона или Вертова найдется свой Кейдж, Дюшан или Раушенберг. И хотя Арто скорее ближе к Вертову и Бретону – свою деятельность он считал частью широкого революционного порыва, – как самопровозглашенный революционер от искусства он на самом деле оказывается меж двух этих лагерей: ему одинаково неинтересно воплощение как политических, так и игровых устремлений. Арто возмутили попытки Бретона увязать сюрреалистическую программу с марксизмом, и он порвал с движением в знак протеста против «предательства», как он считал, «духовной» по сути революции во имя политических интересов. Антибуржуазность была у него почти рефлексом (как и у большинства художников того времени), однако перспектива передачи власти от буржуазии пролетариату Арто никогда не привлекала. С его точки зрения, которую и сам он признавал «крайней», перемены в структуре общества по сути ничего не изменят. Революции, которой он присягал на верность, политика чужда – она декларативно задумана как попытка изменить вектор развития культуры. Арто не просто разделял широко распространенное (и ошибочное) убеждение в возможность культурной революции, не связанной с политическими изменениями: он верил, что единственно подлинной может быть революция, с политикой ничего общего не имеющая.
Призыв Арто к культурной революции подразумевает программу героической регрессии, подобную тем, что по-своему формулировали все видные антиполитические моралисты нашего времени. Лозунг культурной революции вряд ли можно счесть монополией левых марксистов или маоистов. Напротив, он был в особенности актуален для тех аполитичных мыслителей и художников (Ницше, Шпенглер, Пиранделло, Маринетти, Д. Г. Лоуренс или Паунд), которые чаще становились воодушевленными сторонниками правых партий. На левом фланге апологетов культурной революции отыщется немного. (На ум приходят разве что Татлин, Грамши, Годар.) Чисто «культурный» радикализм либо обманчив, либо в конечном счете скатывается к консерватизму. Планы Арто по подрыву и восстановлению жизненной силы культуры, его тоска по новому типу человеческой личности обнажают ограниченность всех аполитичных размышлений о культуре.
Культурная революция, которая отказывается быть политической, может привести лишь к теологии культуры – и к сотериологии. «Меня тянет к иной жизни», скажет Арто в 1927 году. Все творчество Арто завязано на спасении, и театр стал тем средством спасения душ, о котором он размышлял особенно глубоко. В ХХ веке театр нередко ставился на службу целям духовного преображения, по крайней мере начиная с Айседоры Дункан. Если взять самый последний и ритуализованный пример – Театр-лабораторию Ежи Гротовского, – вся деятельность по созданию труппы, репетиции и постановки пьес были призваны служить духовному перевоспитанию актеров; зрители нужны лишь в качестве свидетелей свершаемых актерами подвигов самопреодоления. Театр Жестокости Арто обещал перерождение публики – но на практике это утверждение опробовано не было (в отличие от разработок Гротовского в Польше 1960-х), и такая цель кажется куда менее достижимой, нежели дисциплина, к которой стремится Гротовский. При всем внимании Арто к эмоциональному и физическому армированию классически подготовленного актера, он никогда подробно не рассматривал, как предлагавшаяся им радикальная перековка скажется на актере как человеческом существе. Все его мысли сосредоточены лишь на публике.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе