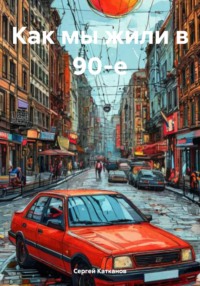Читать книгу: «Как мы жили в 90-е», страница 2
Почему же народ не рванул в фермеры? Ведь в любом колхозе можно было спокойно получить несколько гектаров земли в частную собственность. Всю колхозную землю разделили на паи и любой колхозник мог потребовать «выделить пай в натуре» для ведения фермерского хозяйства. До революции крестьяне только о земле и мечтали, а тут пожалуйста, бери её сколько хочешь. Да что-то фермеров не лишка появилось. Почему?
Помню, как на закате советской власти говорили: «На хрен все эти колхозы и совхозы, они не эффективны, Россию накормят фермеры». В 90-е впору было спросить: «Ну и где они, эти фермеры?» А они появлялись, в количестве хоть и недостаточном, но заметном, только чаще всего они разорялись по множеству причин.
Во-первых, фермеров изводило государство бесчисленными проверками, дебильными мелочными требованиями, запредельными налогами и т.д. Помню, на закате советской власти одной из претензий к государству был непомерно раздутый управленческий аппарат. Тогда мы ещё не знали, что такое по-настоящему раздутый аппарат. К примеру, при советской власти образованием области управляло ОБЛОНО – областной отдел народного образования. В 90-е глазом не успели моргнуть, как на месте этого отдела появилось управление из нескольких отделов. Вскоре на месте управления появился департамент из нескольких управлений. То же было, видимо, и с сельском хозяйстве.
Власть нашла шикарный способ бороться с безработицей среди интеллигенции. Тысячи людей шли в чиновники на вновь создаваемые места. Чем же занимались чиновники, если ещё вчера в них не было ни какой необходимости? Не вдаваясь в детали, их главная задача была в том, чтобы мешать работать тем, кто всё ещё пытался работать. Во всяком случае с этой задачей они справлялись хорошо. Уже в наше время Медведев как-то воскликнул: «Хватит кошмарить предпринимателей!» Вот что, оказывается, делали сельхоз чиновники: они кошмарили фермеров. Не все это выдерживали.
Во-вторых, наша территория называется Нечерноземьем. Наши тощие суглинки далеко не столь плодородны, как черноземы южных губерний. Гоголь восхищался родной Малороссией: «Воткни оглоблю в землю, к утру вырастет тарантас». А у нас сколько оглоблю в землю не втыкай, тарантаса всё нет как нет. Прокормиться от земли у нас очень трудно. Надо жилы рвать совсем не по-детски, а результат всё равно не гарантирован. Не даром ведь Нечерноземье называют зоной рискованного земледелия. Поэтому некоторые романтики, подавшись в фермеры, были сильно разочарованы. Тут, оказывается, адский труд с непредсказуемым результатом.
В-третьих, большой проблемой тогда были закупочные цены на продовольствие. Продукцию фермеров закупали порою по таким низким ценам, что те оставались в убытке. В этом Запад оказал нам медвежью услугу. Там так обрадовались вдруг открывшемуся огромному рынку сбыта, что поставляли нам продовольствие по очень низким, порою просто бросовым ценам, только бы на рынке закрепиться. И поставляли-то они нам одно дерьмо, но на Западе давно уже научились и дерьмо делать съедобным, во всяком случае, для нас оно было съедобно.
В США, к примеру, совсем не пользуется спросом красное куриное мясо (ножки), там предпочитают белое мясо. Ну а куриные окорочка они совсем не дорого отправляли нам. Это было при президенте США Буше-старшем, так что наши острословы прозвали сей продукт «ножками Буша».
Или, к примеру, у продовольственных резервов НАТО истекал срок хранения. Просроченные резервы подлежали утилизации, но вместо этого их отправляли в Россию. То есть для них это была вообще бесплатная еда, её всё равно пришлось бы уничтожить, так что отдавали они её совсем не дорого.
Не говоря уже о том, что крупные западные агрохолдинги десятилетиями упражнялись в снижении себестоимости своей продукции, не брезгуя всякими заменителями, химией, вкусовыми добавками. Наши во всем этом не успели ещё поднатореть, поэтому проигрывали.
Российские фермеры в поте лица производили качественные продукты, но не могли выдержать конкуренции с западными аграриями, которые кормили нас дерьмом, но по доступным для нас ценам. Кстати, ещё во вторую мировую американцы поставляли в нашу армию тушенку, которую у нас прозвали «второй фронт». А знаете, как сами американцы называли эту тушенку? «Сожри дерьмо и сдохни». Так что америкосам было не привыкать. В 90-е страны НАТО сделали всё для того, чтобы разорить наше сельское хозяйство и не позволить русским фермерам встать на ноги.
Была ещё одна причина, по которой фермеры в 90-е ни как не могли накормить Россию. Наши люди совершенно разучились работать и ни какого желания к этому не испытывали.
При царе Россия была аграрной страной, её становым хребтом было стомиллионное крестьянство. Большевики ненавидели крестьянство, потому что крестьянин был мелким собственником, и ему не интересно было строить социализм. В коллективизацию крестьянство почти полностью уничтожили, порою – физически. У самых лучших, самых трудолюбивых крестьян отобрали всё имущество и отправили туда, до куда далеко не все доехали живыми. Опору сделали на деревенскую бедноту, то есть бездельников и пьяниц, которых загнали в колхозы. Так на смену крестьянам пришли колхозники, люди, которые не любили и не умели работать. Успели вырастить несколько поколений профессиональных сельских трутней. От осины не жди апельсина.
Но даже в среде тупых и ленивых колхозников порою пробивалось крестьянское начало, многие имели личное подсобное хозяйство. По этим хозяйствам нанес сокрушительный удар Хрущев, решив, что если сельские жители ещё не окончательно утратили желание работать на себя, то это странный пережиток капитализма посреди торжествующего социализма.
Вы представляете, какие люди жили на селе, когда не стало советской власти? Они являли собой результат жесточайшей отрицательной селекции, которую советская власть вполне сознательно проводила в течение многих десятилетий, отбирая самых худших крестьян, чтобы именно они давали потомство. Колхозанам было совершенно не известно чувство собственника, чувство ответственности за результаты своего труда. Они привыкли работать как можно меньше, потому что от результатов их работы зарплата ни как не зависела.
Конечно, они были разными, но в целом это была бессмысленная биомасса, представления не имевшая о том, что такое вкалывать от рассвета до заката. Много работать для них значило жить плохо, а много зарабатывать они и не мечтали.
«Телега не х…, сто лет простоит», «Работа не Алитет, в горы не уйдет» (Был такой советский фильм «Алитет уходит в горы») – множество подобных поговорок, ранее немыслимых в крестьянской среде, порождала среда колхозная. И мы хотели от этих людей, чтобы они стали фермерами и накормили страну? Они способны были только ныть и жаловаться на свою нищету, на то, какая несправедливая теперь стала жизнь.
Один батюшка вспоминал о том, как он начал реставрацию сельского храма, нашел на это деньги и думал, что порадует местных жителей, подкинув им работы. Ведь они постоянно жаловались на то, что работы теперь не стало. Привел мужика в храм, рассказал, что надо делать, а мужик ошарашенно выпалил: «Так это ж сколько работы!» Батюшка, всё ещё не понимая происходящего, радостно подтвердил: «Да, очень много работы!», имея ввиду, что здесь и заработать можно будет хорошо. И тут он заметил, что мужик совсем не рад, он испугался того, что работы много. А ещё вчера он ныл, что работы нет. Отвыкли на селе вкалывать.
И всё-таки фермеры появлялись и многие из них выживали. Не смотря на то, что их кошмарило собственное государство, не смотря на то, что Запад давил их недобросовестной конкуренцией, не смотря на тощие наши суглинки, не смотря на отсутствие привычки рвать жилы. Даже единичные случаи успешных фермеров выглядели настоящим чудом. Вот ведь, думаю, кулачье недобитое. Всё-таки в иных наших колхозниках прорезались настоящие крестьянские гены.
Помню, в 93-м году приехал в Кич-Городецкий район, мне рассказали, что есть тут у них весьма успешный фермер. (То ли самый успешный, то ли единственный на весь район) Поехали с ним потолковать. Фермер рассказывал: «Работать, конечно, приходится очень много, буквально от рассвета до заката. Но нас в поле ни кто не гонит, мы сами решаем, когда надо поднажать, когда можно отдохнуть чуток. Приятно, когда работаешь на себя, и сам всё решаешь. Семья большая, 16 человек, рук всё равно не хватает, но… справляемся».
Этот человек запомнился мне тем, что он был радостный. Это была радость свободного труда, без начальников-идиотов, без товарищей-бездельников, без хронической бессмыслицы, которую приносит плохая организация труда.
Это тоже принесли с собой 90-е. Но не всем. И не везде. И не всегда. И не сразу. Хотя позднее я слышал, что существуют уже фермерские хозяйства по размерам сопоставимые с бывшими колхозами.
***
Но вернемся в город, где год за годом возникали всё новые проблемы. На смену гиперинфляции пришли задержки выплаты зарплат. Это был уже совсем другой кошмар, хотя тоже достаточно кошмарный.
Зарплату, скажем, задерживали на пару недель. Потом ещё недели на три, потом ещё. У нас в редакции задолженность по зарплате постепенно достигла трех месяцев. То есть где-то примерно за год мы не досчитались трех зарплат, и без того нищенских.
Жили с женой от копейки до копейки. Не только сэкономить ни чего не удавалось, но я не всегда даже знал, на что завтра хлеб куплю. Это в буквальном смысле. Заканчивались последние деньги, хлеба купить было уже не на что, а когда следующая зарплата не известно. Но Бог милостив, зарплату всегда выдавали именно тогда, когда кошелек пустел окончательно. Семейный бюджет тогда колебался между двумя состояниями: «Денег нет» и «Денег нет вообще».
Безденежье озлобляло до крайности. Помню, еду в автобусе на работу. Еду, конечно, без билета. То ли денег совсем не было, то ли последние копейки не захотел тратить. И прихватили меня контролеры. Так я на них чуть ли не заорал: «Я-то работаю бесплатно, поработайте и вы бесплатно». Откровенное хамство мне простили и вежливо попросили выйти из автобуса. Тогда приходилось относиться друг к другу с пониманием.
У отца случился инфаркт. Я прибежал в больницу, доктор выписал кучу лекарств. А у меня денег не было совсем. Тут уж, думаю, хоть украду, но денег на лекарства для отца добуду. Красть не пришлось. Теща выручила деньгами.
Пенсии, хоть и совсем убогие, платили регулярно. Как эта прижимистая старушка умудрялась с крохотной пенсии ещё что-то и экономить, я совершенно не мог понять. Но она принадлежала к другому поколению, это была совершенно другая порода людей. Им после войны через такое пришлось пройти, чего мы и близко не пережили. Так что её пенсия, может быть, даже казалась ей бессмысленно большой. Хотя и в её поколении далеко не все были такими прижимистыми, было множество старушек совершенно безмозглых, эти страдали куда больше.
Тогда я перестал вовремя платить за коммуналку. Коллеги пожимали плечами: «Но ведь это тупик». Я отвечал: «Ни какого тупика. Если в сентябре нам выплатят наконец зарплату за май, я тут же оплачу и коммуналку за май. И за июнь тут же заплачу, когда со мной рассчитаются за июнь. Когда контора погасит передо мной всю задолженность по зарплате, у меня не будет задолженности по коммуналке».
Так, кстати, и вышло. Мне начали аккуратно платить зарплату, а я начал аккуратно платить за коммуналку. Редакция постепенно погасила всю задолженность по зарплате.
Но трехмесячная задолженность по зарплате по тем временам была сущей фигней. На предприятиях, особенно в сельской местности, зарплату не выплачивали порою по два года. Но людей ни кто не увольнял. И люди продолжали работать. Я охренел, когда узнал об этом, посетив Чагодощенский стекольный завод.
Завод почти стоял, но что-то внутри него ещё продолжало шевелиться, кое-какую работу там ещё продолжали делать. А людей ни кто не увольнял, им просто не платили. И люди ходили на работу, полагая видимо, что если они уволятся, так задолженность перед ними ни когда не погасят.
Тогда я задумался о том, что такое «экономическая психология». Я в общем-то сам изобрел это понятие. Может быть, это сделали и до меня, но мне об этом ни чего не известно. Западные экономисты учили нас, что экономические законы универсальны и объективны, то есть они действуют одинаково в любых условиях и независимо ни от каких субъективных факторов. Иными словами, западная экономическая теория является единственно возможной, она будет действовать в любой стране и среди любого народа. Но я понял, что это не так.
Вот, скажем, на Западе предприятие не может найти заказов, не может сбыть свою продукцию. Что сделает хозяин? Если вообще не закроет предприятие, то во всяком случае уволит почти всех рабочих, то есть всех, кого он не может обеспечить работой. А что делает хозяин у нас? Он почти ни кого не увольняет, он просто перестает платить людям зарплату. Почему так, можно долго рассуждать, но факт остается фактом. Экономические субъекты на Западе и в России реагируют на кризис совсем по-разному.
Теперь рабочие. Если на Западе рабочим не платить, они просто уволятся и будут искать себе другую работу. Даже если с работой на рынке труда очень плохо, но ведь самая маленькая зарплата всяко лучше, чем полное отсутствие зарплаты. Одновременно будут выбивать долги из бывшего работодателя. Что делают наши рабочие? Они продолжают ходить на работу, хотя им и не платят. Это трудно понять. Ведь даже если бы на речке с удочкой сидеть, это было бы и приятнее, и полезнее, чем ежедневное присутствие на работе безо всякого вознаграждения. Да они там что-то ведь и делали на своём заводе, просто им за это не платили.
Почему так? Другая экономическая психология. То есть объяснить это феномен смогли бы скорее психологи, чем экономисты, хотя для объяснений лучше бы искать специалиста, сведущего в обеих областях знания.
Запад уверен, что дополнительный труд очень легко купить, это лишь вопрос цены. Но это не везде и не всегда так. Вот, к примеру, работает в Африке американское предприятие, где трудятся местные рабочие. Хозяин недоволен тем, как работают негры и решает применить безотказное, на его взгляд, средство – он удваивает им зарплату. Он не сомневается, что негры теперь будут работать в два раза лучше. Вместо этого негры стали ходить на работу только до обеда. Они легко сосчитали, что прежняя зарплата им теперь полагается за полдня работы. То есть зарплата их и раньше устраивала, а вот урабатываться они не хотят. А ведь на Западе работяги стали бы жилы рвать за удвоенную зарплату.
В России, конечно, не как в Африке, но и не как в США. И за примером далеко ходить не надо. Подходит ко мне как-то начальник рекламного отдела нашей редакции. Ему нравится, как я пишу, он предлагает мне подготовку рекламных текстов. Это предложение могло обеспечить мне довольно существенную добавку к зарплате, но я ему ответил: «Беда в том, что меня деньги не интересуют». Мы посмеялись, пожали друг другу руки и разошлись.
Он решил, что у меня такой юмор. В известном смысле я и правда пошутил, деньги меня на самом деле интересовали. Но мне было не интересно и даже неприятно готовить рекламные тексты. И зарплаты мне на жизнь хватало, а вместо того, чтобы перерабатывать, мне интереснее было лишнюю книжку прочитать. Хотя, конечно, не все в редакции были такие ленивые.
Один американский экономист, приехавший в Россию в качестве советника, то есть собиравшийся «лечить» нашу экономику, через некоторое время доложил своим: «У пациента другая анатомия». Понял. Молодец. А большинство западных экономистов так ни чего и не поняли.
***
Ситуация в экономике тогда была настолько причудливой, что это вряд ли имело аналоги. Предприятия выживали по таким невероятным схемам, каких вы не найдете в учебниках экономики. Вот, к примеру, какую публикацию я подготовил после командировки в Тотьму.
Развитой феодализм
На Тотемском льнозаводе уже 2 года не выдавали зарплату деньгами. Расчеты с людьми производятся частично и только продуктами. Самую малость денег дают в исключительных случаях, например, на похороны или на лекарство. А если и муж, и жена работают здесь, то наличных денег им взять совершенно негде. При этом завод всё-таки работает, выпускает продукцию, и сокращения штатов не было. Это, по мнению руководства, всё равно не помогло бы в решении проблем предприятия.
Удивительная у нас всё-таки страна. Во всем мире падение объемов производства приводит к сокращению кадров. У нас – нет. Ни в одной стране люди без денег работать не станут. Наши – работают. По всем законам такое предприятие, как Тотемский льнозавод, в сложившейся ситуации должно прекратить своё существование. Но завод существует.
А ситуация вот какая. Если раньше из полутора десятков хозяйств района лен сеяли практически все, то сейчас осталось только одно – «Большевик». И «Большевик» давно бы это дело бросил, но завод и семена ему помогает приобрести, и помощь в уборке гарантирует, и вывоз берет на себя.
Начал завод заключать договоры с хозяйствами Бабушкинского, Тарногского, Верховажского районов. В последних двух районах тоже есть льнозаводы, но тотьмичи рассчитываются лучше, а потому им отдается предпочтение.
Трудно сбывать продукцию, ведь производимое льноволокно – не готовый продукт, на потребителя непосредственно с ним не выйдешь. А потому открыли цех по производству смоляной пакли, строители её берут охотно.
Всех рабочих всё равно не удается загрузить работой по специальности, и вот появился швейный цех. Шьют и спецодежду для себя, и ширпотреб – простыни, халаты.
Изменилась технология переработки льна, высвободились площади – мочильные камеры. Их переоборудовали и на территории завода обосновалось ТОО «Монолит», производящее бетонные блоки. Появилось здесь так же ТОО «Эврика», которое занимается переработкой пиломатериалов.
Так что со льнозавода выходят теперь и бетон, и халаты, и доски. Всё это, казалось бы, вполне естественная и необходимая в рыночных условиях изворотливость. Но положение завода не просто тяжёлое, оно именно ненормальное. Ведь полбеды в том, что нет сырья. Беда, когда нет денег. Ни у кого нет. Зачем, к примеру, заводу доски? За доски можно приобрести ГСМ. В свою очередь за ГСМ можно приобрести сырьё для основного производства. И ни каких денег. Между тем, рыночной экономики без денег не бывает, а потому возникает очень серьёзное подозрение, что мы с полного размаха въехали даже не в дикий капитализм, а в развитой феодализм.
Всем, очевидно, ещё со школы памятно, что натуральное хозяйство, когда ни чего не продается и ни чего не покупается, это признак именно феодализма. Так вот мы припадаем к своим «истокам и корням», возрождая механизмы хозяйствования, с которым весь мир, да и Россия тоже, распрощались сотни лет назад.
Ситуация получается совершенно уникальная, не имеющая ни названия, ни аналогов. Если деньги не обеспечены товаром, это инфляция. А если товар не обеспечен деньгами? Для этого даже слова не придумано. Собственно говоря, в стародавние времена люди для того и придумали деньги, чтобы избежать сложностей товарообмена.
Конечно, жили люди и при феодализме, и ещё не известно, хуже ли нас они жили. Но нынешняя закавыка в том, что элементы феодализма соседствуют с реалиями вполне современными. Если с районным бюджетом льнозавод так же рассчитывается при помощи зачетов, то вот с федеральным… НДС в республиканскую казну не берут ни бетонными блоками, ни рабочими рукавицами. Деньги желают получить, странные люди. То есть в Москве ни как не хотят признавать реалий феодализма. Хотя и здесь, казалось бы, можно найти выход. Если у Тотемского льнозавода есть задолженность перед федеральным бюджетом по налогам, так ведь и у бюджета есть задолженность перед заводом по компенсации за энергоресурсы. Зачесть бы одно за другое, но не тут-то было.
Недавно у завода забрали «Жигули» в счет налогов. Остается дожидаться, когда московские чиновники вместо компенсации за энергоресурсы пригонят на завод свой «Мерседес».
***
Перечитывая этот старый текст, я заново восхищался потрясающей русской смекалкой, невероятной нашей изворотливостью, позволяющей выживать в любых условиях, включая те, каких вообще не бывает. Кто сказал, что в русском народе заглохла предпринимательская жилка? Наши новые предприниматели выживали в таких условиях, в которых разорились бы большинство западных бизнесменов. Им не хватило бы смекалки для того, что бы постоянно находить выходы из совершенно противоестественных ситуаций.
Ситуация на Тотемском льнозаводе относится к 1998 году. До этого я вспоминал ситуацию на Чагодощенском стеклозаводе, которая относилась к 1994 году. Там была полная безнадега, здесь уже научились выживать. Собственно, уже выжили. Оставалось совсем немного до нормализации товарно-денежных отношений.
Кстати в Тотьме одна работница культуры показала мне множество талонов на питание в столовых, выдаваемых самыми различными предприятиями района. Эти талоны ходили по рукам наравне с деньгами, ими рассчитывались за товары и услуги. Талоны были четко обеспечены содержанием меню разных столовых. По-ра-зи-тель-но! В Тотьме, по сути, проводили эмиссию собственной валюты. До чего же людей-то довели. И они ещё рассказывали об этом со смехом.
Что это было? Это был монетаризм в действии. Нашей экономикой по сути руководили из Вашингтона, а у них была одна экономическая теория – монетаризм. Понятно, что лучший способ борьбы с инфляцией – это сжатие денежной массы. Денежную массу сжали до такой степени, что экономика начала задыхаться, но вашингтонских стратегов это мало волновало, а у Москвы своего мнения не было.
Помню, в самом конце 90-х один российский политик говорил с трибуны: «Надо печатать деньги! Надо просто знать эту тему, и печатать деньги». С точки зрения азбучных истин экономики, это звучало дико, но экономика не сводится к азбучным истинам. Это было самое настоящее восстание против западных монетаристов. В конечном итоге восставшие русские победили.
***
Не претендую на исчерпывающий обзор того, что произошло в 90-е с советскими предприятиями. Могу говорить лишь о том, чего коснулся лично, как человек и как журналист. Но и та информация, которой я владел, позволяет сделать некоторые общие выводы.
Иные предприятия выжили относительно легко, потому что их продукция даже в те годы пользовалась устойчивым спросом. Некоторые выжили с большим трудом лишь благодаря ярким предпринимательским талантам новых хозяев. Некоторые закрылись по субъективным причинам, потому что там оказались хозяевами «красные директора», совершенно неспособные хозяйствовать в условиях рыночной экономики. Эти предприятия можно было спасти при умелом управлении, но не срослось.
А некоторые предприятия закрылись в силу причин чисто объективных. Эти предприятия породил социалистический способ хозяйствования, когда рентабельность вообще ни кого не интересовала, а любые убытки просто покрывало государство. Когда начали считать каждую копейку, вдруг оказалось, что эти шарашки ни кому и на хрен не нужны.
Так закрылся судоремонтный завод, который был структурным подразделением Сухонского речного пароходства. С этим заводом была связана вся жизнь моего отца, к счастью, он вышел на пенсию до того, как всё рухнуло.
И грузовые, и пассажирские речные перевозки – штука чрезвычайно дорогостоящая. Это только кажется, что сама природа подарила нам бесплатную водную дорогу, так надо ею пользоваться. Ну если других дорог нет, тогда конечно. А если есть?
Тогда, к примеру, от Вологды до Тотьмы и ещё много куда бегали маленькие скоростные теплоходы «Заря». Хотя до Тотьмы и автобусы ходили. Автобус ехал 4 часа, цена билета была 4 рубля. «Заря» шла 6 часов, билет стоил 6 рублей. Какой дурак мог предпочесть «Зарю»? Но дело в том, что автобусов не хватало, билеты на них трудно было купить. И всех, кого не могли увезти по суше, везли по воде. Потом автобусов добавили, а потом резко увеличилось количество личного транспорта. «Зори» стали совершенно не нужны.
Даже к нам на дачу, которая была всего в 7-и километрах от Вологды, всё ни как не могли сделать нормальную дорогу, к нам ходили 2 теплохода. Дорогу сделали и про речной транспорт забыли.
С грузовыми перевозками было то же самое. Главная задача, ради которой существовало Сухонское пароходство, была заброска в восточные районы области разнообразных грузов. Река Юг на востоке была мелкой, суда могли пройти по ней только по самой высокой воде, весной. И вот ежегодно, как только сходил лёд, из Вологды в восточные районы отправлялся целый караван судов. Это называлось «Операция Юг». Выйти надо было очень рано, а вернуться очень быстро, пока уровень воды не понизился. Иначе была опасность «осушить флот на Юге». Суда остались бы там на целый год и в следующем году уже не могли бы завести грузы. Это была бы катастрофа.
«Операция Юг» была ежегодным плановым авралом. Это был самый настоящий дурдом. Но что же делать, если нормальной дороги в восточные районы не было. Потом дорогу построили, и главная цель существования Сухонского пароходства исчезла.
Конечно, наши суда и после «Операции Юг» всю навигацию перевозили какие-то грузы. Возили даже арбузы из Астрахани. Но было ли это рентабельно? Взять хотя бы сухогруз, на котором я плавал с отцом. Он имел 4 трюма. Вместимость трюма на глаз около двух вагонов, то есть судно перевозило всего 8 вагонов. Экипаж – 8 человек. А грузовой железнодорожный состав может доходить до ста вагонов. Экипаж локомотива – 2 человека. При этом два мощных судовых дизеля жрут солярки всяко не меньше, чем тепловоз. К тому же речной транспорт очень тихоходный по сравнению с железнодорожным и автомобильным. А техническое обслуживание судов потребовало создания целого завода. И использовать этот транспорт в наших широтах можно всего 6 месяцев в году.
Но ведь река – это дорога, которую не надо строить? Строить- то её не надо, но обслуживать приходится, а это хлопотно и недешево. Судоходная река – это система бакенов, система береговых разметок, это система шлюзов, это необходимость углублять русло и т.д. В итоге перевозка грузов по реке становится удовольствием настолько дорогим, что надо вообще денег не считать, чтобы пользоваться таким грузовым транспортом.
Очевидно, в иных условиях использование речных сухогрузов может быть вполне оправданным и даже необходимым, но, видимо не в Сухонском пароходстве, которое прекратило своё существование вместе с судоремонтным заводом.
А ведь какой большой флот у нас был! Краса и гордость! Конечно, сердце щемило, когда наши суда шли на продажу, а то и вовсе на металлолом. Но это было требованием жизни. Это было следствием естественных процессов. Нельзя вечно длить существование того, что нежизнеспособно и в общем-то ни кому не нужно, кроме тех, кто с этого кормится. Что убыточно, того не должно быть. Потому что в условиях реальной экономики ни кто эти убытки покрывать не станет.
Поэтому, когда сейчас говорят, что в 90-е произошёл общий развал экономики, надо внимательно смотреть, а нужны ли были вообще те предприятия, которые закрылись? Или они были порождением бесплодных и бессмысленных коммунистических фантазий, порождением той власти, которая денег не считала и экономить не умела, потому и рухнула вместе с теми предприятиями, которые были не нужны.
Конечно, можно найти примеры того, что предприятия, пусть и не высокодоходные, но всё-таки нужные, в которые можно было вдохнуть вторую жизнь, вместо этого сознательно банкротили, чтобы использовать их базу для получения более высоких прибылей. Порою, разрушали то, что не надо было разрушать. От этого горько. Но это издержки, вызванные людской жадностью и недальновидностью. Не уверен, что без этих издержек можно было обойтись.
***
Нельзя не сказать про пенсии той поры. Они были не просто низкими, а как-то бессмысленно, запредельно маленькими. У меня, например, к концу девяностых была уже очень хорошая зарплата, я был заместителем главного редактора крупнейшей областной газеты и получал больше 11 тыс. руб. Рядовые журналисты у нас получали около 3 тыс. руб. Жена, школьный учитель, имела зарплату 1 тыс. 800 руб. Такая зарплата считалась уже нищенской. А у моей мамы пенсия была 400 руб. И у других пенсионеров, которых я знал, пенсии были примерно такие же. Как в те годы можно было жить на эти деньги, я совершенно не понимаю.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе