Истории жизни двух парижских мальчиков, Георгия Эфрона и Дмитрия Сеземана, которые в конце 1930-х годов оказались в числе возвратившихся на родину русских эмигрантов. Мы сейчас понимаем, какая это было роковая ошибка, а они конечно поняли не сразу - пытались убедить себя, что все правильно, что оставленная Франция всем плоха, а здесь - рай трудящихся, что близких арестовали просто по ошибке и вот-вот отпустят, что нищета, косность, забитость союза им только кажется... Жизнь одного завершилась трагедией, второй эту трагедию пережил, поборол и даже смог, подобно семье Кривошеиных, выбраться обратно, во Францию.
Что и говорить, это история о вреде сделок с дьяволом. Как бы заманчиво не рисовал дьявол перспективы, что бы не обещал, тот кто пойдет на сделку с ним неизменно окажется ни с чем и в аду. Именно так получилось с семьями Цветаевых-Эфрон и Сеземан-Клепининых. Обещали соввласти им все: признание на родине, достойные должности, Цветаевой - небывалые тиражи книг, по факту - вместо вышеперечисленного получили аресты, расстрелы, ссылки, нищету, изломанные, исковерканные жизни... В Париже они считали себя чужими, иностранцами, но только возвратившись поняли, что по-настоящему чужими они стали в Союзе, а той России, что виделась в парижских снах и что так отзывалась ностальгической болью в душе, нет и быть уже не может...
Сложно определить литературный жанр произведения. С одной стороны не автобиографическая повесть, а с другой не историческое научное исследование эпохи, хотя то и другое в этом произведении широко представлено. Язык повествования легкий, ёмкий и выразительный. Структура произведения соответствует хронологии жизни двух героев Георгия и Дмитрия, а также членов их семей. Объем книги великоват и соответствует двухтомнику. Автор описывает перипетии, выпавшие на долю героев повествования, в декорациях событий того времени: романтичной Франции, красного террора и второй мировой войны. На этом фоне проявляются не только чувства страха, недоверия, неопределенности, неустроенности, но и первой влюбленности, дружбы, сексуальности. Автор пишет, что аресты людей в конце 30-х годов - это как повседневная реальность, как постоянная угроза, к которой привыкли, с которой давно смирились. Однако, касаясь арестованных родственников героев, чувствуется не заживающая душевная рана и постоянное беспокойство о них. Повествование ведется в основном по дневникам рано ушедшего Георгия и о его друге Дмитрии, мы узнаем только от его лица. Отрочество - это сложнейший период жизни человека, который ищет свое место в этом мире. Мы узнаем об его увлечениях и пристрастиях с очень качественным описанием декораций, в которых они реализуются, окружающих его людях, всевозможных достижениях и трудностях. На Георгия огромное влияние оказал период жизни во Франции, он тоскует о нем и пытается адаптироваться в не похожих условиях СССР. Он высок, красив, эрудирован, высокомерен, со вкусом одевается, много читает, театрал, но безумно одинок. Он не укладывается в советский шаблон, из-за чего ему трудно сходиться со своими сверстниками, называющими его Мусье, так как уделяет много времени поиску их недостатков. Чего только стоит его высказывание об Анне Ахматовой: «Мне никто не импонирует - всех видишь насквозь…». Единственного своего друга, тоже эмигранта из Франции, то хулит, то боготворит. Григорию хочется любви, но он не стремится к ней, пока инициативу не проявила нравящаяся ему Валя, на самом деле он робок и всё время чего-то ждет, надеясь, что всё за него должны сделать другие. Если Дмитрий пытается заработать сам необходимые ему карманные средства, то Георгий просто тратит деньги, получаемые от мамы. В нем слабо развито мужское деятельное начало. Наряду с политикой и человеческими страстями С. Беляков дотошно по воспоминаниям современников акцентирует внимание на архитектуре Москвы, транспорте, одежде, косметике, модернизме, театре, популярной музыке, кулинарии и многом другом. Книга создает эффект полного погружения в эпоху. Конечно, произведение не является подробным справочником описываемого времени, но умелое использование документальных свидетельств современников оставляет именно такое, редкое для литературы, ощущение. На фоне жизни Георгия автор описывает и перипетии, выпавшие на долю его матери, поэтессы Марины Цветаевой. Интересно показана в произведении разница пропагандистского описания войны (патриотизм, жертвенность, героизм…) и личностного (паника, трусость, безысходность…), о котором обычно в литературе не пишут. Примерно также героев окружают знаменитые писатели и поэты, но они заняты решением бытовых проблем, а не искусством. И, наконец, ужас Георгия при превращении имитируемого им одиночества в реальное, с которым он сталкивается со смертью матери. В современных российских социальных сетях полно людей, мечтающих вернуть СССР, мне представляется, что именно им адресовано это произведение, чтобы лишить их наведенного коммунистической пропагандой блистательного лоска на, почившее в Бозе, государство. Но вряд ли они поверят этому, хотя мои родители, жившие в те годы, говорили о сходных негативных чувствах, испытываемых тогда ими.
Какое все-таки говорящее название книги литературного критика, писателя, историка Сергея Белякова "Парижские мальчики в сталинской Москве". То есть нечто совершенно архитипичное в чем-то почти лубочном? Нарядные, любезные ловеласы в застенках НКВД? Веселые светские львята в лапах деспотической тирании? Начиная читать, не предполагаешь, с какой быстротой автор избавит тебя от всех стереотипов. И в то же время подтвердит каждое слово в названии книги. Время, исследуемое автором, на основании дневников Георгия Эфрона - парижского мальчика, сына Марины Цветаевой и Сергея Эфроны, пять лет с 1939 по 1944. С приезда главного героя Георгия Эфрона (Мура) в Советский Союз до его гибели. Георгию 14 лет в начале книги, в конце 19. Каких-то пять лет, на за эти годы успело разрушиться абсолютно все, что было в его жизни - семья, прошлое, будущее. Каждый последующий шаг, начиная со злополучного решения ехать в СССР, только ухудшал ситуацию. Шаг первый - Сергей Эфрон увлекся идеями коммунизма и начал сотрудничать с органами внешней разведки Советского Союза. Автор приводит столько фактов и подробностей этого увлечения, ссылаясь на множество источников, что вдруг ловишь себя на мысли - идеи действительно светлые, сколько великих умов увлекалось ими, и потом - это же родина, и у молодого государства действительно много врагов... как не помочь? Кто, если не мы? И вот уже автор ведет тебя уверенной рукой по пути своих героев. Шаг второй - Цветаева берет четырнадцатилетнего сына и едет вслед за мужем. Надо сказать, ехать она не хотела. Но отъезд мужа изменил отношение к ней соотечественников. Марина мгновенно стала нерукопожатной. Ей мгновенно объяснили, что ей должно было быть стыдно - за мужа, за то, что не предотвратила, ну, вы понимаете. Она пыталась противостоять, конечно, но мимо нее начали проходить как мимо пустого места. Уехали. Так Георгий (Мур) оказывается в Советском Союзе. И ведь действительно - парижский мальчик. Поздно приехал, личность уже сформирована, своим не стать. Муж и старшая дочь Цветаевой в тюрьме, а Марина с сыном, как ни странно, не так уж плохо устроены. Сколько я наслышана о непрактичности Цветаевой, но оказывается она работала и зарабатывала раза в два больше рабочего или инженера. Мур имел карманные деньги и возможность развлекаться, потакать своей любви к красивым вещам. Одноклассники вовсе не презирали его за репрессированных отца и сестру - они и не знали. Сталинская Москва - богатый красивый город. Писатели живут в нем, как короли, как новая аристократия. Невероятные деньги. Невероятные возможности. И невероятная паника перед лицом войны. Все, что показывает нам автор, мы видим сначала глазам Мура, а затем автор цитирует еще множество источников. Мур - удивительный мальчик. Начитанный, умный, красивый и с очень нелегким характером. О, этот вопль подростков всех времен: "Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает!" Кто же в Советском Союзе поймет Мура с его любовью ко всему французскому, начиная с философии и заканчивая красивой одеждой. С его страстью к парикмахерским. С его карьерными амбициями. С его мизантропией, сарказмом, эгоизмом. С его желанием обладать красивой взрослой женщиной - все время приходится напоминать себе, что ему пятнадцать, шестнадцать. И все бы ничего, если бы не война. Далее только по наклонной. Уход из жизни Цветаевой ужасает так, словно мы об этом не знали заранее. Подожди, подожди, а как же твой сын? Кому он нужен, этот "несчастный, но заносчивый подросток", считающий себя взрослым, кроме матери? Кто проведет его по жизни? Далее одно ошибочное решение Мура за другим. Василий Аксенов, врач по первой профессии, читая дневники Мура, делает вывод, что Мур был болен ювенильным диабетом. Сейчас этот термин уже не употребляют. "Ювенильный" - звучит как что-то, что ребенок "перерастет". Но нет, это просто инсулинозависимый диабет, неизлечимо. Смертельно. Заболевает Мур, судя по развитию событий, уже после смерти матери. Отсюда утрата сил, интереса к жизни и к женщинам, сводящий с ума голод, который приводит даже к воровству. Если бы мать была рядом! А так даже не диагностировали. Мизантропичность, вечную раздражительность Мура тоже можно было бы объяснить диабетом. Один из симптомов высокого уровня глюкозы в крови. Если бы Марина жила, если бы показала его врачам, все было бы иначе. Инсулин в СССР начали производить с 1928 года, можно было бы жить и жить. И в армию бы не призвали. Тяжело ребенку быть одному - упадет, кто его поднимет? Страшно не время само по себе, нет. Страшно, что вот был человек наделенный с лихвой талантами, словно на пятерых отсыпали. С волей, с целеполаганием, с усердием, с карьерными амбициями все в порядке. С жизнелюбием отлично. Уверенности в своем будущем хоть отбавляй... А потом даже не поймешь, когда камень покатился с горы.
18 июня 1939 г. 14-летний Георгий Эфрон вместе с матерью Мариной Цветаевой приехал в СССР, где их уже ждали отец, Сергей Эфрон, и сестра Ариадна. Всю свою сознательную жизнь Мур, как звала его мать, прожил во Франции, но от своего будущего в Советском Союзе ждал только хорошего. Надежды развеялись очень скоро. Не прошло и трех лет, как отца расстреляли, сестра оказалась в лагере, а мать покончила с собой. Сам же Мур погиб в ноябре 1944 г. в боях за Белоруссию.
В основу этой книги легли дневники Мура, его письма к близким и друзьям, воспоминания современников. Несмотря на это, документальный роман Белякова скорее про сталинскую Москву, чем про парижских мальчиков. Это хроника советской повседневности, а не биография знаменитого подростка.
Москва конца 30-х гг. предстаёт перед Муром городом по-булгаковски фантасмагоричным. Городом, где знали толк в джазе, заботились о нарядах, а вечерами ходили в театры и рестораны. В газетах рекламировали санатории, соевый соус и консервы из крабов, которых, кстати, никто не хотел покупать. Можно было заказать доставку продуктов из ближайшего гастронома или приятно провести время в Коктейль-баре.
Да, в это же время шли аресты и почти каждый москвич, в том числе и Мур, носил передачи в тюрьму для кого-нибудь из близких. Никто не мог чувствовать себя в безопасности, но жизнь москвичей не замыкалась в тоске и отчаянии.
Сам Мур предстает человеком не слишком приятным. Его эгоизм, самовлюбленность и мизантропия вполне отвечают духу нынешнего времени, но мало соответствуют эпохе коллективизма и дружбы народов. Однако книгу стоит читать не из-за Мура и даже не из-за Марины Цветаевой, которая упоминается эпизодически и вскользь. Книгу надо читать, как свидетельство эпохи, мрачной, но прекрасной. Эпохи, когда жизнь продолжалась несмотря ни на что.
Уже с первых страниц я поняла, что это будет не просто рассказ о сыне Марины Цветаевой, это будет интереснейшее погружение в жизнь людей, решивших вернуться из эмиграции в Советский Союз из благополучной Франции. Была ли это роковая ошибка или любовь к Родине?
За основу исследования жизни Георгия Эфрона, Мура, как называла своего сына Марина Цветаева, автор взял его подробные дневники, письма и воспоминания родственников и знакомых. И поверьте, мне показалось, что это был самый противоречивый подросток на земле. Прожженный сноб, эгоист, начитанный и педантичный, воспитанный, любящий комфорт, едкий и трудолюбивый. В Муре было всё - в свои пятнадцать лет он рассуждал не хуже любого академика, в нем чувствовалась порода, но ставил себя он выше всех, презирал русских людей и так и не смог стать своим, советским парнем.
«Мур проживет всего девятнадцать лет и пять месяцев. Первые девять месяцев - в Чехословакии. Последние пять лет - в Советском Союзе. Тринадцать лет и семь месяцев - во Франции».
Книга рассказывает не просто о судьбе семьи Цветаевой и других вернувшихся, это блестящая иллюстрация жизни Москвы 30-х годов. Автор погружает нас в культурную атмосферу столицы - какое кино смотрели на экранах, какие постановки шли в театрах, как богатые советские граждане отдыхали в элитных ресторанах и в каких магазинах отоваривались. Как выглядела и чем жила Москва в предвоенные годы и какое место там нашел парижанин Георгий Эфрон.
Сколько же я нового узнала! Я ведь и не могла представить, а на уроках истории нам не рассказывали, что творилось в столице, какое настроение было у жителей, когда немцы стояли под Москвой. Столько всего удивительного про любимый город, который для Мура так и не стал родным. Да, он умер в бою за Советский Союз, но Франция так и осталась для него Родиной и самым счастливым местом на земле.
Это безумно крутая книга, от которой очень сложно оторваться. Во-первых, история Мура Эфрона, и вообще всех этих детей «возвращенцев» супер интересная. Удивительно идейными они были людьми. Верили в коммунизм до последнего. И как же больно читать, что сделала система со всеми этими образованными людьми.
Во-вторых, автор книги выбрал отличный формат повествования, он говорит не только про своих героев, он рассказывает о том, что их окружало. Какую еду они ели, на какое кино ходили, как одевались в то время в сталинской Москве, в каких квартирах жили и какие разговоры разговаривали. И все это легким языком. Ощущение, что смотришь черно-белый фильм про идеальную страну, которую нарисовали себе эти ребята. Да, в повествование есть и грустные моменты, и всю жесть, которая происходила в то время автор не скрывает. Но все равно ощущение легкости не покидает ни на минуту. Мне кажется, таким приемом Сергей Беляков хотел передать ощущение этих ребят, которые думали, что у них еще столько всего впереди.
Эту книгу очень классно прочитать в паре с воспоминаниями Марии Белкиной «Скрещение судеб». Белкина часто упоминается на страницах. В нее какое-то время даже был влюблен Мур. Так что история получится объемнее. Правда в своих мемуарах Мария больше рассказывает о тяготах Цветаевой и Мура (ее воспоминания куда мрачнее, но не менее интересные).
Данное произведение я прочитал благодаря премии "Большая книга". Книга написана крайне увлекательно и интересно, буквально погружая читателя в мир давней Москвы. На выходных я обязательно прогуляюсь по центру Москвы, по улицам, где в предвоенные годы проводили время герои книги. Очень занимательно и всесторонне описаны увлечения горожан: от кино, театров, музыки до футбола. Также красиво и отчётливо передан внутренний мир Мура, гамма его настроений и переживаний. Я сам снова почувствовал себя юношей. Вспомнил и многие юношеские поводы для неуверенности, заблуждения, максималистские умозаключения, школьные настроения. Военному времени достаётся достаточно небольшая часть книги, на мой взгляд, незаслуженно. Особенно время, проведённое в Ташкенте, и полное суровых лишений и тягостей, голода, одиночества. Из недостатков необходимо отметить некоторую недосказанность важных моментов в жизни мальчика: скудные описания ареста сестры и отца, а также смерти матери. Кроме того, остаётся нераскрытой тема первого романа. Писатель умеет увлечь отношениями двух молодых героев, но резко меняет тему повествования, лишь украдкой в нескольких местах упоминая переписку с Валей.
Всегда бывает желание видеть в родственниках и друзьях знаменитых людей как бы тени последних. Когда за семью выдающегося человека берутся историки и журналисты, для них она часто оказывается не более чем источником информации о главном герое. Так могло бы стать и с сыном Марины Цветаевой и Сергея Эфрона Георгием. Георгий родился в 1925 году в Чехословакии, до четырнадцати лет жил в Париже, потом с матерью вслед за сестрой и отцом переехал в СССР. Он пережил арест отца и сестры, пережил самоубийство матери, во время войны страдал от голода в эвакуации в Ташкенте и потом, вернувшись в Москву, был призван и погиб на фронте в 1944 году. Очень многие свои наблюдения он зафиксировал в дневниках, большая часть которых сохранилась. Биографы Цветаевой относятся к этим дневникам как к ценнейшему источнику о жизни поэтессы. Да, Георгий был юн и во многом наивен. Да, иногда он был почти циничен в суждениях о других. Да, он писал плохие стихи (особенно на фоне гениальной матери). Но можно ли увидеть в его дневниках не тень матери, а отдельную и самостоятельную личность? Не воспринимать ее как «вторичную»? Именно такую развитую личность увидел екатеринбургский историк Сергей Беляков, автор исторических работ «Гумилев сын Гумилева» (вторая премия «Большой книги» в 2013 году), «Тень Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя» и «Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой». Кажется, что на некоторые темы сегодня нельзя высказать неангажированного мнения. Например, на тему Украины и ее стремления к независимости. Тем не менее, например, «Тень Мазепы» Белякова производит впечатление именно научной работы, где нет ни истерики, ни крайностей, ни пропаганды, а есть кропотливая работа с сотнями источников. Такова же и его новая книга «Парижские мальчики в сталинской Москве», посвященная в первую очередь как раз Георгию Эфрону. Издательство определяет жанр книги как «документальный роман». Действительно, лучше не скажешь. Мы проходим с Георгием Эфроном весь его, к сожалению, недлинный путь, как если бы читали о нем роман. Но есть одно важное обстоятельство: в этой книге нет не единого суждения или факта, не подкрепленного документальным доказательством. Поэтому работа Белякова – это, с одной стороны, книга для читателя, а не для специалиста, то есть увлекательная и интересная, а с другой, она имеет ценность научной монографии.
Даже короткую жизнь трудно свести к нескольким тезисам. Тем не менее, похоже, что в работе Белякова можно все же выделить главный нерв. Три четверти своей жизни Георгий Эфрон прожил во Франции, но последние пять лет он провел в СССР. Кем он тогда был, французом или русским? Он в совершенстве знал оба языка и под конец жизни хорошо представлял себе особенности жизни в обеих странах. Смог ли он сделать выбор? «Парижские мальчики» дают ответ: Георгий пытался стать русским, но, по-видимому, все же остался французом. Он мечтал стать советским москвичом, но образ родного Парижа для него так и не поблек. Эти устремления, разочарования и мучительные сомнения в своей национальной принадлежности хорошо прослеживаются в его дневниках.
Как же вообще так получилось, что он оказался в СССР? Здесь необходимо проследить историю его отца. Сергей Яковлевич Эфрон тоже не был тенью своей жены, однако его путь как личности был сложен. В 1918 году он сражался на Дону вместе с белыми. В эмиграции пытался стать искусствоведом, но не получилось. Не сложилась у него и с работой редактора. Снимался даже во французском немом кино. В общем мыкался по жизни в поисках своего призвания. Со временем он переменил мнение к большевикам и в итоге был завербован советскими спецслужбами, что, как пишет Беляков, уже не должно вызывать никаких сомнений. Вероятно, что он участвовал в организации убийства одного советского агента, во всяком случае французская полиция начала об этом подозревать. Поэтому сначала сестра Георгия Арианда, а потом и сам Сергей Эфрон вернулись в СССР. За ними в 1939 году последовали Марина Цветаева и Георгий. Для Цветаевой старая Россия умерла и уже похоронена, тем не менее поэтесса решила быть с мужем. Некоторое время семья жила на даче НКВД в Подмосковье, и здесь Георгий Эфрон, известный под семейным именем Мур, обретает друга Митю Сеземана. Семья последнего была тоже связана со спецслужбами и тоже прибыла в СССР из Парижа. Мур и Митя в Париже уже были знакомы, но друзьями стали только в СССР. Митя Сеземан – это второй «парижский мальчик» в книге Белякова, и он тоже чрезвычайно важен для понимания Георгия Эфрона. У двух юных парижан много общего, прежде всего родной город, который они оставили, но не только. Они интересуются литературой, политикой и музыкой, и в этом плане им скучны советские сверстники. Кто из них мог бы поддержать их разговор о Малларме или политическом противостоянии во Франции? Конечно, они еще интересуются гастрономией и девочками, но ценность их дискуссий от этого не уменьшается. Сергей Беляков позволяет нам увидеть их глазами сталинскую Москву рубежа 30-40 годов и в некотором смысле всего СССР.
Рисуя эту Москву, автор привлекает массу источников, и в итоге мы фактически имеем дело с живой и красочной энциклопедией, на страницах которой оживают улицы, парки и исторические здания. Мы видим, как москвичи ходят на парады физкультурников и играют в футбол, как они слушают джаз и обедают в дорогих ресторанах. Это очень важный тезис Белякова: жизнь в СССР не исчерпывалась сменами на заводе (по будням) и демонстрациями (по праздникам). Люди стремились и одеваться, и хорошо питаться, и даже обучались танцам. В Москве, как и при царе, устраивались балы. Иными словами, жизнь кипела. Еще в революционной Москве в 1918 году появился музей западного искусства с коллекциями импрессионистов. И это притом, что импрессионисты тогда еще не добились всеобщего признания, и даже Лувр отказывался принимать их работы. Более того, тезис Белякова можно даже усилить: советское общество в предвоенном Союзе фактически было буржуазным. Существовало весьма выраженное разделение, по сути иерархия. Привилегированный класс мог позволить себе обеды в «Национале» и поездки в элитные санатории, где на обед подавали форель, а на десерт пирожные. В это же самое время колхозник за месяц получал столько, что ему едва ли хватило бы прожить день в Москве, как «господа». И действительно, сама жизнь в Москве как будто была ориентирована на потребление. Сейчас мы говорим об импортозамещении, а ведь уже в 1930-е советская пищевая промышленность, например, производила сыры бри, камамбер и рокфор, правда, очень дорогие. Лишь после войны исчезнет такой «буржуазный» советский человек, любивший джаз и изящное потребление.
Оказавшись в СССР, Георгий Эфрон искренне хотел стать советским человеком. Он верил в социализм и считал Союз страной, где претворяются в жизнь лучшие идеалы. Надежда увидеть равенство и благоденствие была так сильна, что ее не поколебали даже первые впечатления, а именно трудности и воровство на таможне и грязные вагоны. Он искал не плохое, а наоборот подтверждение своим идеалистическим представлениям. До первого отъезда из Москвы, а позже эвакуации в Ташкент и вообще знакомства с провинцией, Георгий имел дело только Москвой, а она была витриной страны. Он и не скрывал своего стремления оказаться как бы в лучшей части СССР и испытывал сильное разочарование, если приходилось жить не то что не в Москве, а даже не в центре Москвы, то есть вдали от культурной жизни. Все изменилось с началом войны, когда осенью 1941 года была реальная угроза сдать Москву немцам. Тогда Мур узнал реальную цену советским коммунистам и вообще людям, некоторые из которых уже готовились встречать завоевателей. Он видит грязь не только в советской власти, но как бы и в самой русской сущности и даже записывает русофобский анекдот. Поначалу он и его друг Митя Сеземан пытаются в юном возрасте сделать выбор, который трудно дается даже взрослым людям. Они отказываются от настоящей родины Франции. С началом войны и поражением Франции Париж, как скажет Георгий, уже не будет культурной столицей мира. И все же любовь к родной стране у них не пропадет. Георгий не любил пафос, но преисполнялся воодушевления, когда говорил о Париже. Причем тоскоовал он даже не по современной Франции, а по Франции периода «прекрасной эпохи», когда творили его любимые поэты и когда был возможен «обеспеченный индивидуализм». В итоге он отдаст свое сердце именно Парижу, а выросший Дмитрий Сеземан десятки лет спустя вернется в родной город жить.
У Георгия Эфрона и его друга не получилось интегрироваться в советскую реальность. Поначалу они восторгались Советским Союзом, но они также хотели спорить и доказывать свою точку зрению. Это было совсем не похоже на то, как вели себя их советские сверстники. Они вообще видят и понимают очень много. Оставаясь марксистом, Георгий пытается понять расстановку политических сил летом 1940 года. Будучи семиклассником советской средней школы, он анализирует действия СССР и других стран, и приходит к выводу, что война Германии и СССР неизбежна. При этом и в не таких масштабных, но таких важных для истории культуры вопросах он предстает весьма категоричным. Например, он соглашается с разгромной рецензией Корнелия Зелинского на сборник Цветаевой и называет стихи матери «тотально оторванными от жизни и ничего общего не имеющими с действительностью».
Книга Сергея Белякова выстроена вокруг дневников Георгия Эфрона, но ее нельзя назвать простым их пересказом. В «Парижских мальчиках» потрясающее количество внутренних связей, когда совершенно разнородные источники дают единую и непротиворечивую картину жизни страны. Вот, например, конец финской войны, о чем делает запись Георгий, и тут же в книге мы читаем запись из дневника Бунина, которую тот делает во Франции, за тысячи километров от Москвы. Или другой пример. Георгий смотрит в Москве знаменитый фильм «Большой вальс» в Москве, и чуть позже его на другом краю страны смотрит Виктор Астафьев. Поэтому Белякова трудно обвинить в одностороннем взгляде. Он охватывает историю во всей ее полноте и многообразии. По-видимому, Беляков ни с кем не полемизирует и не решает спорные вопросы цветаеведения. Во всяком случае, он не предлагает версий там, где молчат дневники. Его задача раскрыть перед нам личность Георгия Эфрона и рассказать о жизни Советского Союза рубежа 1930-40 годов. При этом интересна ему не столько политическая или идеологическая история, сколько бытовая, каждодневная. Здесь собрано столько интересных фактов, которые трудно найти в популярных источниках. Беляков пишет о том, что в СССР в 1937 году наладили производство шампанского и вскоре уже бутылки из-под шампанского стали принимать в качестве стеклотары. О том, какой был дефицит бумаги и как ее централизованно распределяли между писателями. О том, как в газетах печатались объявления о защите диссертаций и каждый желающий мог прийти на защиту. О том, как в январе 1930 года в Москве запретили колокольный звон. О том, как лишь в 1939 году в СССР впервые завезли крупную партию бананов. О том, как всем обладателям радиоприемников нужно было их регистрировать на почте. И даже о том, что были годы, когда СССР в год посещало меньше иностранцев, чем сегодня людей посещают Антарктиду. Беляков пишет о здравоохранении, как в советское время ещё существовала, но уже умирала частная медицина. О метеорологических фактах и рекордах, о парадах первого мая, которые затмевали своим великолепием праздник октября. Все это обилие деталей и взглядов со стороны превращают книгу в интереснейшее историческое путешествие. А Георгий и Митя – это вовсе не функции и сухие источники информации, а большие личности, чья жизнь необъятна.
Беляков действительно освободил Георгия Эфрона от тени матери, и, кстати, он почти не цитирует стихов Цветаевой. Георгий предстает перед нами умным молодым человеком с обострённым восприятием окружающего мира, глубине которого не мешает неопытность. Его дневник - это не просто свидетельство о времени. Это запечатленная судьба. Собственно, здесь даже не нужна интерпретация, потому что Эфрон говорит сам за себя, причем вещи довольно интимные. Его жизнь начинается и кончается взрывами. Когда он родился, Цветаева вспоминала, что на полу загорелся спирт. Это был первый взрыв. А второй – это когда, по-видимому, немецкая бомба попала в обоз с ранеными, оборвав жизнь совсем молодого человека, которому не исполнилось и двадцати. Путь Георгия Эфрона прошел между этими двумя взрывами.
Историк не может быть избыточно дотошным. Наоборот, это важное качество профессии. Однако дотошность Белякова вовсе не утомительна. Что подумает читатель о книге, десять процентов которой составляют примечания и ссылки? Что это будет очень нудное чтение, интересное в лучшем случае специалистам. Но книга Белякова - это именно книга для читателя. Автор не просто хронологически следует за своими героями, передавая факты их жизни, а раскрывает их в контексте своего времени. «Парижские мальчики» - это очень увлекательная история Георгия Эфрона, история Москвы и история СССР.
О сыне Марины Цветаевой – Георгии, известно мало. Он погиб в 19 лет, едва попав на фронт. Родившийся в Чехии, большую часть жизни проживший в Париже – каким он был? Многие современники отзывались о нём негативно – эгоистичный, циник, бывал груб с матерью, но в то же время – разносторонне развитый, интеллектуал, очень одарённый молодой человек.
Его жизнь беззаботного парижского мальчика закончилась в 1937 г., когда агент НКВД Сергей Эфрон и его семья вернулись на родину. Почти сразу Сергей Яковлевич вместе с дочерью Ариадной были арестованы, а Цветаева и Мур остались одни в предвоенной Москве.
Описание Москвы 30-х гг. занимает в книге значительное место. Ночные аресты, страх, ощущение беды, конечно, всё это было. Но были и оркестры в парках (играли джаз!), и рестораны, и футбольные матчи. Цветаева кое-что зарабатывала переводами, и Мур мог позволить себе развлечения. Даже в начале войны «Москва оставалась островком относительного благополучия».
Тем не менее они уехали в эвакуацию, возвращался откуда Георгий уже один. «Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты» – предсмертная записка Цветаевой.
В 1943 г. Мур поступил в Литературный институт, он хотел стать переводчиком. Однако Литинститут не давал «бронь», и в феврале 1944 г. Георгия призвали в армию. 7 июня 1944 г. «красноармеец Эфрон был ранен в бою и убыл на излечение в 183-й медсанбат». До больницы он так и не добрался, пропал без вести. Вероятно, грузовик с ранеными был атакован немецким самолётом.
Конечно, чудеса случаются редко, и, скорее всего, Георгий Эфрон – любимый сын Марины Цветаевой – погиб. Но фраза «пропал без вести» даёт надежду: а может, он попал в плен? ушёл к союзникам? вернулся в Париж? Ведь вернулся же во Францию другой «парижский мальчик» – Дмитрий Сеземан. Его жизнь описана в книге не так подробно, скорее, это один из вариантов, как могла сложиться судьба Георгия, останься он жив.
«Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова - одна из лучших книг в жанре нон-фикшн 2022 года. Документальное повествование Белякова, автора блестящей дилогии об истории Украины и российско-украинских отношениях, на этот раз посвящено судьбе юных русских репатриантов: Георгию (Муру) Эфрону и Дмитрию Сеземану, старшему товарищу Мура, а так же их семьям.
Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой и агента советской внешней разведки Сергея Эфрона, родился в Чехии, вырос во Франции и оказался с родителями в Москве в 14 лет: судя по книге Белякова, Мур был дореволюционным русским по воспитанию и интересам, французом по привычкам и манерам, но отчаянно хотел стать обычным советским подростком. А Митя Сеземан на всю жизнь сохранил в себе русское начало и французский шарм, став при этом антисоветским человеком: он раньше тинейджера Мура понял, что такое реальный СССР.
Книга Белякова - это глубокое исследование всего советского социума в 1937-1941 годах: считается, что это был расцвет сталинского социализма в отдельно взятой стране. Только что прошли большие московские процессы, на которых были приговорены к смертной казни ближайшие соратники Ленина и другие видные партийцы, фактически окончились коллективизация и индустриализация, загнавшие крестьян в колхозное рабство и на великие стройки коммунизма, где рядом с вольнонаемными трудились сотни тысяч узников ГУЛАГа.
Столица же была ровно такой, какой она изображена на картине 1937 года Юрия Пименова «Новая Москва»: широкие, залитые солнцем, улицы, огромные правительственные здания, открытые пространства, по которым рассекает предмет роскоши - личный автомобиль.
Беляков рассказывает обо всех сферах советской жизни предвоенного периода: от культурной программы и гастрономических удовольствий до свободного секса и квартирного вопроса. Несмотря на репрессии, тотальную пропаганду, тяжёлый труд и ожидание неизбежной большой войны, советские люди казались счастливыми: их лишили возможности сравнивать.
В этот СССР, больной шпиономанией и спрятанный за железным занавесом, вернулись семьи Эфрон и Сеземан: отца и старшую сестру Мура вскоре арестовали, тогда же забрали родителей Мити. Мур остался с мамой - великой, но совершенно неприкаянной в быту поэтессой - а Митя с бабушкой: по сути, ребята оказались предоставлены сами себе, как герой повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика».
Тем не менее, Москва жила насыщенной жизнью между "Националем" и подвалами Лубянки: очевидно, что для юного Мура арест близких не стал большой травмой и, можно сказать, что он принял правила игры. Москва очень понравилась Георгию, который много времени гулял по центру города: 15 лет, буйство гормонов, а вокруг много красивых и ухоженных женщин старше Мура (чувственный мальчик, он уйдёт из жизни девственником)
Всё это мы знаем из максимально откровенных дневников Георгия Эфрона, который вёл записи с детства до своей гибели на фронте в 19 лет: полное издание тетрадей Мура в 2000-е годы стало сенсацией. Сын Марины Цветаевой и сам выделялся неординарным литературным дарованием и очень жёстким взглядом на окружающий его мир.
Мур и Митя хотели вписаться в окружающее общество, но у них это не получилось, у каждого по своему: оба юноши разочаровались в советском проекте. А завтра была война…
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе
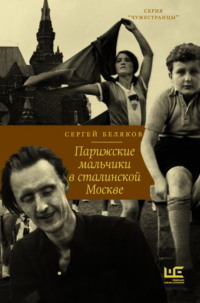
Отзывы на книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве», страница 7, 85 отзывов