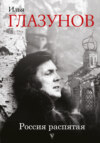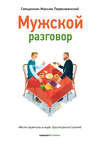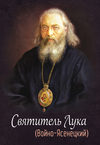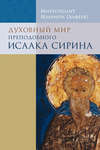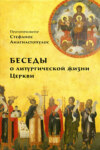Читать книгу: «Искусство жить, или Как быть счастливым, несмотря ни на что», страница 3
Инстинкты
Сам факт наличия инстинктов у человека многими учёными отрицается. Признается, что инстинкты – врождённая последовательность действий, вызванных некой потребностью, – есть у животных, а то, что мы этим словом называем у людей, на самом деле разного рода рефлексы, некие автоматические действия, привычки и т. п. Спор об этом идёт не первую сотню лет и сам по себе интересен и поучителен. Я – тоже поборник точного использования слов не только в научном обиходе, но и в бытовом. Но иногда – при написании этой книги, например, – я позволяю себе некоторую вольность и буду пользоваться словом «инстинкт» так, как мы им пользуемся в обычной жизни. Мы говорим, например: «Я инстинктивно отдёрнул руку от горячей поверхности только что вскипевшего чайника». Строгий научный редактор скажет: «Такое поведение вовсе не инстинкт, а автоматическая реакция, возникшая либо на основе собственного опыта (уже обжигался), либо на основе подражательного поведения и послушания (видел, как другие обожглись; мама сто раз говорила: ”Не трогай, он горячий”)». Даже такие биологически обусловленные стремления, как поиск пищи и размножение, не все считают инстинктами, поскольку не только у человека, но и у высших приматов эти стремления не подкреплены автоматическими действиями, заложенными в природу: и поиску пищи и даже размножению надо научиться.
Для целей этой книги важно знать о наших устойчивых поведенческих реакциях, независимо от того, являются они врождёнными и приобретёнными. С учётом сделанных оговорок, будем использовать слово «инстинкты» применительно к людям.
В литературе можно встретить много разных перечней инстинктов человека. Чаще всего, упоминают следующие: продолжения рода, самосохранения, альтруизма, исследования, доминирования, свободы, сохранения достоинства. В первом издании я описал проявления различных инстинктов довольно подробно, в этом оставлю лишь некоторые краткие пояснения.
Содержание и направленность инстинктов ясны из их названий, хотя иногда нужны пояснения. Скажем, инстинктом продолжения рода называют, чаще всего, комплекс из сексуального инстинкта спаривания, к которому присоединяют заботу о потомстве. Инстинктом самосохранения обозначают многие поведенческие реакции, направленные на адаптацию к изменяющимся обстоятельствам, стремление избежать возникающих угроз.
Инстинкт альтруизма, присущий людям как стадным существам – это готовность помогать другому (alterno латыни «другой»).
Инстинкт исследования формируется как следствие одного из обязательных условий выживания вида: поиск, обучение, творчество. Человек должен всё время искать новое, обретать новые знания, саморазвиваться: именно в этом его видовое преимущество, именно это позволило человеку выжить, приспособиться к условиям выживания и конкурентной борьбы.
Инстинкт доминирования – стремление к лидерству, превосходству – относится к качествам, которые необходимы для реализации механизмов естественного отбора.
Инстинкт свободы – термин неудачный, и название сбивает с толку. Это происходит, потому что понятие «свобода» мы используем как социальное. Инстинкт свободы, если он существует, проявляется на самых ранних стадиях эволюции человека, а не тогда, когда возникло рабство и прочие виды социальных несвобод. Этим инстинктом можно называть стремление к «проверке на прочность» разных видов поведенческих ограничений: приблизиться к огню и лишь потом обжечься, узнав, что это больно и опасно; попробовать прыгнуть с большой высоты, а потом испытать боль и узнать, что с определённых высот прыгать опасно, – вот проявления свободы как инстинкта. В этом смысле он тесно связан, а может быть, и совпадает с инстинктом исследования.
Инстинкт сохранения достоинства предписывает отличать: что со мною можно делать, а чего – нельзя. Здесь следует провести разграничительную линию между социальными понятиями чести и достоинства и биологическим инстинктом. Чаще всего мы встречаемся с социально обусловленным комплексом «собственного достоинства». Не столь важно, врождённое это свойство или нет, но фактор этот весьма влиятельный. Именно те, у кого этот комплекс сильно развит и даже доминирует, становятся «невольниками чести», готовым ради сохранения достоинства подавить в себе инстинкт самосохранения. Нелегко жить человеку с обострённым чувством достоинства.
Завершая условный перечень инстинктов, скажу следующее: не называйте какие-либо инстинкты «низменными». Нет низменных инстинктов! Это естественная, важная и нужная часть нашей природы. Есть низменные поступки, противоречащие принятой морали и нравственным нормам.
Инстинкты есть у каждого человека, но в «разных количествах» и с разной иерархией. Этим, в частности, мы отличаемся друг от друга. У одних преобладает инстинкт доминирования, и такой человек стремиться лидировать, у других «главным» является инстинкт альтруизма, и такие люди становятся отзывчивыми, сопереживающими. Психологи для описания людей с тем или иным доминирующим инстинктом ввели, соответственно, семь типов: эгофильный (себялюбивый), генофильный (ставящий превыше всего свой род, семью), альтруистический, исследовательский, доминантный, либертофильный (свободолюбивый) и дигнитофильный (от лат. dignitas- «достоинство»). Подробное описание характерного поведения каждого типа можно найти в литературе по психологии и попробовать определить свой. Для нашей цели – «стать счастливыми» – полезно знать, к какому типу мы относимся.
Я, например, отнёс бы себя к «исследовательскому» типу, потому что мне всегда была присуща любознательность, граничащая с рассеянностью. Я увлекался разными науками, разными профессиями, был готов отказаться от материального достатка ради чего-то нового и интересного. На второе место «в самом себе» готов поставить сразу два инстинкта, поскольку не могу определить, какой из них «сильнее»: генофильный или альтруистический. Скорее всё-таки генофильный – сначала, а альтруистический – потом: своим близким я готов помогать и жертвовать всем ради них всё-таки охотнее, нежели чужим. Потом, наверное, следует поставить дигнитофильность (собственное достоинство): я довольно остро переживаю ситуации, которые воспринимаю как унизительные. Набравшись жизненного опыта, я стараюсь их предвидеть заранее и не допускать возможности их возникновения. Дальше в моей характеристике стоит свободолюбие, потом – стремление к доминированию, на последнее место поставил бы себялюбие.
Моя характеристика самого себя наверняка содержит неточности, и в зависимости от обстоятельств и периода жизни иерархия инстинктов в чём-то менялась. Так поставив на предпоследнее место инстинкт доминирования, я должен при этом признать, что я, скорее всего, «генетический лидер»: мне гораздо легче и естественнее взять на себя ответственность и быть лидером, вести за собой, чем быть ведомым. Здесь, думаю, сказывается влияние другого врождённого свойства – темперамента, но об этом далее.
Каждому важно понимать: что для него гармонично и естественно, а что будет идти вразрез с его природой. Зная это, можно не допускать ситуаций, в которых «счастья не видать». Так, например, жизнь меня не раз и не два выводила на лидерские позиции, мне пришлось занимать руководящие должности. Я с ними неплохо справлялся, но всегда хотелось от них избавиться. Я никогда не стремился к карьерному росту и хотел просто заниматься любимым делом. Что ещё важно: лидерские качества во мне есть, а вот инстинкт доминирования, стремление быть лидером, командовать, распоряжаться выражены слабо.
Советую всем «искателям счастья» проанализировать самого себя подобным образом, но при этом помнить, что нет плохих типов и плохих инстинктов. Инстинктов нельзя стыдиться. Они хороши в любом сочетании и в любой последовательности. Проблемы возникают только тогда, когда какой-то инстинкт настолько подавляет все остальные, что человек впадает в состояние патологии, инстинктопатии. Если «исследователь» становится фанатом, то ради познания чего-либо он может быть готов провести жестокие эксперименты на живых людях. При сверхдоминировании инстинкта самосохранения мы получим сверхэгоиста, при чрезмерном преобладании инстинкта доминирования-диктатора, тирана. Инстинктопатии, как и все остальные психопатологии, должны лечить профессиональные врачи.
Важно также понимать, что опасны не только чрезмерные доминирования инстинкта, ведущие к инстинктопатии, но и чрезмерные подавления инстинкта, ведущие к проблемам или той или иной неудовлетворённости. Психологи указывают, что подавление инстинкта самосохранения вызывает тревогу и страх; подавление инстинкта продолжения рода – неудовлетворённость, агрессивность и тоску; альтруистического – вину и муки совести; исследовательского – неудовлетворённость, агрессивность, печаль; инстинкта доминирования – неудовлетворённость, агрессивность, враждебность, презрение; инстинкта свободы – протест или депрессию; инстинкта сохранения достоинства – гнев, отвращение или депрессию. В целом же ущемление или подавление инстинктов вызывает одну из двух наиболее универсальных эмоциональных реакций: агрессивно-протестную или капитулятивно-депрессивную.
Осознание вреда от подавления инстинктов не означает предоставления им полной свободы. Это не требуется, да это и невозможно, поскольку мы – существа социальные и должны жить в соответствии с принятыми нормами нравственности и поведения, ограничивающими многое. Мы должны не подавлять инстинкты, а сдерживать их чрезмерные порывы, уметь вовремя это осознать и направить в приемлемое русло.
Выскажу ещё одно предположение, как мне кажется, фундаментального характера. То, что человек может подавлять проявление инстинктов и вообще как-то влиять на них, их иерархию, составляет то, что мы называем «свобода воли». Именно это отличает человека от животного, именно это даёт нам возможность быть счастливыми или несчастными.
Темперамент
Итак, инстинкты – это врождённые поведенческие реакции, но у разных людей одни и те же по содержанию инстинктивные реакции протекают в различных формах, с разной интенсивностью и скоростью: у кого-то – бурно и быстро, у кого-то – замедленно и неярко. Эти формы так же, как и инстинкты, относятся к настолько устойчивым свойствам, что некоторые считают их врождёнными. Их называют темпераментами и выделяют обычно следующие виды: холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик. Они хорошо описаны в научнопопулярной литературе, и поэтому не стоит на этом останавливаться излишне подробно. Напомним лишь самые основные черты, обращаясь к некоторым удачным формулировкам из книги В. Гарбузова «Человек-жизнь-здоровье: древние и новые каноны медицины» (ссылка в списке литературы).
Холерик упорен и настойчив, непреклонно целеустремлён. Он – борец. Холерик безжалостен к себе и требователен к другим. Он вспыльчив и нетерпелив, колюч и неуживчив, прямолинеен и бескомпромиссен, поэтому с ним трудно. Его девиз «все – или ничего», и во имя достижения цели он идёт на любой риск. При этом у него подавлено чувство страха и снижен болевой порог. Со сбитыми в кровь локтями и коленями он упорно лезет в гору. Если он упёрся в забор, то не ищет калитку, а таранит его, прокладывая себе дорогу. Узлы он не развязывает, а рубит. Это человек одной идеи, одной страсти, одной любви. Он неутомим. Но при этом холерик нестабилен: целеустремлённый порыв может мгновенно смениться апатией. Невзгоды, если они чрезмерны, не гнут, а ломают человека холерического темперамента. Он легко может стать агрессивным, терять контроль над собой. Холерик прямодушен, и его побеждают хитростью. Он не чувствует нюансов переживаний других, и ему не присуща тонкая интуиция. Но, поняв другого, холерик помогает до конца, рискует жизнью во имя его спасения. Он – защитник слабых, всегда впереди, пробивает дорогу другим, надрываясь и не жалея себя. За ним как за каменной стеной.
Флегматик по характеру медлителен. Он делает все неспешно, терпеливо и на совесть. Он – молчун, и от этого кажется бесчувственным, равнодушным, хотя в душе его доброта и понимание других. По своей природе он справедлив, безотказен и не ропщет, а терпеливо ждёт лучшего, но он страшен, если чаша его терпения переполнена – тогда перед его гневом бледнеет гнев холерика. Однако обычно, если ему становится невмоготу, он уходит молча, и это уход лучшего работника, лучшего семьянина. Его сила велика, но рассчитана на неспешность. Он более упорен, чем холерик, но это упорство терпеливого. Он, как и холерик, обладает непоколебимой волей, но, опять-таки, волей неторопливого. Там, где холерик ломается, флегматик начинает снова и снова поднимать разрушенное, строить новое. Он знает свою ахиллесову пяту – медлительность в мыслях и в действиях. Но, будучи тугодумом, он принимает верные, мудрые решения, избегая риска и авантюр. Он понимает: ему не вывернуться, мгновенно не сориентироваться в опасности. Поэтому флегматик избегает всего, что требует находчивости и быстроты. Он замкнутый. Легковесные разговоры и быстрая перепалка не для него. Слово его, как и дело, надёжно. Он домосед, будто рождённый для оседлости, для мира, но непоколебимее всех и на войне. Новые формы поведения у флегматика вырабатываются медленно, но долго сохраняются.
Сангвиник скор во всём: он быстро думает и говорит, он находчив, остроумен и не лезет за словом в карман. Он стремителен в действиях, и все горит в его руках. Он мгновенно оценивает людей, ситуацию и молниеносно ориентируется. Его не застать врасплох. Он «внезапен», не зная, что такое внезапность, ибо всегда и ко всему готов. Естественно, он гибок и компромиссен, не таранит преграду, как холерик, и не берет её осадой, как флегматик, а овладевает стремительной атакой или обходит её. Он легко загорается, но и быстро остывает, не огорчается и не печалится, теряя или не находя. У него много целей, много идей, но, легко загораясь, он так же легко отказывается от задуманного, если путь труден, и от идеи, если она не может быть реализована сразу. Ему все даётся легко, и он щедр, расточителен, влюбчив. Он, как летний день, когда солнце и дождик одновременно, он плачет – и тут же смеётся. Он и огорчается, не унывая. Он общителен и находит общий язык с любым человеком. У холерика один друг, у флегматика ни одного, у сангвиника много. Он – среднее между холериком и флегматиком, он – как мост между ними. Природа наделила его настолько выигрышными данными, что он может позволить себе быть легкомысленным. Он вывернется, как уж, выберется из-под упавшей стены, проскользнёт в любую щель, догадается, найдётся, даже обманет и, в конце концов, оставит холерика и флегматика далеко позади себя со сжатыми кулаками и разинутым от удивления ртом.
Меланхолик похож на флегматика: он тоже медлителен, не спешит проявлять активность. Но в отличие от флегматика его пассивность обусловлена относительной слабостью нервно-психической системы, а не стремлением уйти в себя и сосредоточиться. При внешне вялой реакции его внутренние переживания остры и глубоки. Меланхолик раним, чувствителен, склонен к депрессивным состояниям. У него нередко бывает заниженная самооценка, чаще всего они бывают интровертами. При всех этих слабостях меланхолики порой достигают выдающихся результатов там, где важны тончайшие нюансы и оттенки чувств и эмоций. К меланхоликам относят таких великих людей, как Гоголь, Шопен, Чайковский.
Ясно, что реальный человек редко бывает «чистым» сангвиником, холериком, меланхоликом или флегматиком, но более выраженный по сравнению с другими тип темперамента определить можно и нужно. Это не теоретическое любопытство, а практически важное знание о самом себе. Потому что, если вы, скажем, «в целом сангвиник», а от вас требуется (обстоятельствами, верой, собственными заблуждениями, влияниями других людей, идей и проч.) не быть сангвиником, а поступать как холерик или флегматик, вы будете несчастны и, вполне вероятно, начнёте болеть.
Одни и те же жизненные невзгоды по-разному воздействуют на сангвиников, холериков и флегматиков. Если холерик претерпевает жизненный крах, все цели, к которым он стремился, стали недостижимыми, он ломается как личность и может заболеть, спиться и погибнуть. Флегматик в такой же ситуации «начнёт с начала» и будет терпеливо стремиться к цели, а сангвиник, не унывая, поставит перед собой новые цели, наметит новые пути. Сангвиника, однако, тоже подстерегают беды и несчастья, если его заставят вести себя в соответствии с темпераментом флегматика или холерика. Если у сангвиника тупой, несправедливый и жёсткий начальник, прерывающий все инициативы, осуждающий за любую мелочь, требующий от него методичного, неукоснительного следования заданной процедуре (что вполне комфортно для флегматика), то сангвинику будет плохо, и он станет думать, куда ему уйти, чтобы не зачахнуть совсем. Холерик в той же ситуации может начать борьбу с начальником ни на жизнь, а на смерть!
«Подавление или искажение темперамента – путь к неврозу или к психосоматическому заболеванию. Не будут здоровыми и холерик, флегматик, сангвиник, вынужденные жить вопреки своему темпераменту, своей врождённой натуре», – пишет В. И. Гарбузов.
Понимание своей природы, как мы видим, трудно переоценить. Зная себя, можно избежать проблем, жизненных невзгод и крахов, не растрачивать себя на бесплодную борьбу, искать и находить приемлемые, комфортные формы жизни, работы, поведения. Наши инстинкты и темперамент составляют неизменную, врождённую основу нашей личности. Определите свой доминирующий темперамент ведите себя в соответствии с ним, не подавляйте его. Счастье холерика не совпадает со счастьем флегматика или сангвиника.
Телосложение и конституция
Разве есть связь между телосложением и счастьем? Разве не любой человек – высокий или низкий, худой или полный – может быть счастливым? Конечно же счастливым может быть любой, но, чтобы эффективно овладеть «искусством быть счастливым», надо правильно учитывать своё телосложение – неизменное, данное нам от природы – и те особенности, которые в связи с этим возникают. Тип телосложения – не только эстетическая или спортивная характеристика. Связь между телосложением («фигурой») и особенностями индивидуальной психики существует, и этому посвящено немало исследований.
Тело человека на протяжении жизни изменяется: мы толстеем и худеем, у нас меняется осанка и проч. Удалось, однако, выделить характеристики, которые при этом остаются неизменными. Эти характеристики называются соматотипами (от греч. somatos – «тело») или конституционными типами телосложения человека. Сложилось несколько подходов к типологии телосложения, но мы не будем перегружать книгу их описанием. Дадим упрощенные, но достаточные для наших целей подходы к типологии конституции.
Первая, наиболее распространенная, выделяет следующие типы: нормостеник, гиперстеник и астеник. Приведем описания, взятые из учебной литературы.
Гиперстеническая конституция. Ее обладатель широкоплеч, имеет хорошо развитую грудную клетку, крепкое телосложение, «квадратную» форму головы с крепкой нижней челюстью. Он жизнерадостен, общителен, энергичен, имеет хорошее здоровье. У гиперстеников левополушарный тип мышления, значит, у них присутствуют в действиях логика и деловая хватка. Эти люди «без сантиментов», энергичны, напористы. Склонны к полноте.
Астеническая конституция. Для людей этого типа характерны узкие плечи, слаборазвитая грудная клетка, хрупкое сложение; форма головы астеника часто треугольная вершиной вниз, череп широкий, подбородок узкий. Отличаются повышенной возбудимостью нервной системы, слабостью психики, неуверенностью в себе. Часто замкнуты, имеют монотонный голос, сдержанны, мышление левополушарное. К полноте не склонны.
Нормостеническая конституция. Ее представители отличаются атлетическим телосложением в сочетании с уверенностью. Они как бы являются средним звеном между двумя первыми типами конституции. Форма головы нормостеника треугольная вершиной вверх, подбородок массивный, узкий череп. Стиль мышления правополушарный. Обладает психической уравновешенностью, адекватными реакциями на окружающую действительность, уверенностью в себе, своих возможностях, стабильным настроением. Общительны, любят и принимают жизнь, чувствительны, имеют склонность к полноте.
Упомянем и иной подход к типологии (В. Гарбузов), ограничивающийся всего двумя типами: сухой-жилистый и толстый-округлый. Большинство людей можно определенно отнести к одной из этих групп.
«Сухощаво-жилистые» – мощно заряжены энергетически, чрезвычайно выносливы, обладают сильной половой конституцией. В такую «одежду» чаще всего облачён холерический темперамент. Такие конституция и темперамент гармонично сочетаются с «маскулинной» (мужской) группой инстинктов. Чаще они бывают высокого или среднего роста, крепкого телосложения, со средней шириной плеч, а иногда – узкоплечие.
«Толстые – округлые» (или «мышечно-округлые») – со средним энергетическим потенциалом и средней или слабой половой конституцией. В такую «одежду» чаще всего облачён флегматический темперамент. Такие конституция и темперамент соответствуют «фемининной» (женской) группе инстинктов. Чаще они бывают среднего или низкого роста, широкоплечие, широкогрудые, зачастую с выраженным брюшком.
Хотя описание типов таково, что какой-то из них нам может показаться более привлекательным, нежели другой, не стоит приходить к этому выводу. Все типы самоценны, и ни один из них не лучше другого. Каждый обладает столь важными преимуществами, что выделить «лучший тип» невозможно. Проблема может возникнуть не из-за типа конституции, а из-за того, что вы себя неверно воспринимаете или вдруг захотите «стать другим». Тип изменить невозможно, и если вы им недовольны, вы тем самым уже создаёте своё «несчастье». В то время как счастливым можно быть с любым типом конституции. Надо просто знать свои особенности, сильные и слабые стороны.
Не сталкивайте свои врождённые качества друг с другом, используйте обходные маневры и хитрость в общении с самим собой, с постановкой жизненных целей. На пути к счастью надо быть и тактиком и стратегом, в том числе и по отношению к самому себе.
Начислим
+21
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе