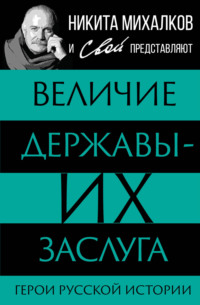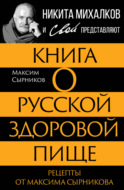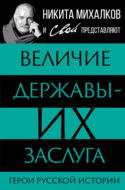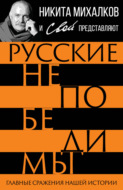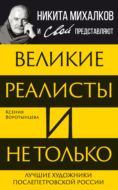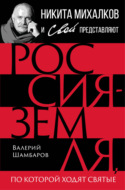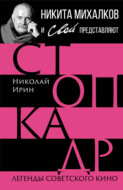Читать книгу: «Величие державы – их заслуга. Герои русской истории», страница 4
Иваново царство. Иван III и зарождение империи
Валерий Шамбаров

Иван III Васильевич. Портрет из Царского титулярника 1672 года, Государственный исторический музей, Москва
Если бы живший в начале правления Ивана III москвич вдруг перенесся на три-четыре десятка лет вперед, то не узнал бы ни свой город, ни родную страну, попал бы в совершенно иной мир, переменившийся всего за одно поколение. Огромная, могучая держава раскинулась от Финского залива до Урала и Оби, хотя до того наши земли кончались уже за Коломной, Можайском, Клином, а дальше лежало чужое. Прежде над Русью довлела атмосфера постоянного страха, перманентной опасности: с запада нависала грозная Литва, с юга – Орда, с востока – Казань. Даже отца первого русского государя, великого князя Василия Васильевича захватывали в плен татары, и где – в сердце его владений, под Суздалем! Свои же князья резались между собой в свирепых усобицах. Василия II раз за разом свергали его дядя Юрий Звенигородский, двоюродные братья Василий Косой и Дмитрий Шемяка…
Тяжелые впечатления детства остались с Иваном Васильевичем на всю жизнь. С грустью и содроганием вспоминал он, как ехали с отцом и малолетним братом на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, как невесть откуда налетели свирепые всадники, а усердные слуги заботливо прятали перепуганных мальчишек, куда-то везли, кому-то передавали с рук на руки. А в итоге все равно очутились княжичи под стражей – вместе с ослепленным родителем (ставшим с тех пор Василием Темным), молились, зная, что вот-вот могут убить… Это был первый горький опыт для будущего правителя – страшный пример того, как на Руси быть не должно.
Отметим важный факт: к власти Иван III пришел одновременно с рождением самостоятельной (автокефальной) Русской церкви! Являвшаяся центром мирового православия Византия скатилась в унию, но одолевший врагов Василий Темный сумел созвать в декабре 1448-го Освященный Собор, на котором избрали митрополита всея Руси, святителя Иону. Там же государь провозгласил 8-летнего Ивана великим князем, ближайшим помощником, по сути, глазами ослепленного отца. Получилось, что первым своим шагом независимая Церковь благословила основоположника русского самодержавия. Могут ли такие совпадения быть случайными?
О Третьем Риме тогда, разумеется, никто не мог и мечтать. Василий Темный поставил мальчика соправителем вынужденно. Продолжалась гражданская война с Шемякой. Калека-отец болел и считал необходимым подготовить себе преемника. С той же целью наследника в двенадцать лет обвенчали с десятилетней тверской княжной Марией: женатый человек считался на Руси уже взрослым. Ему и действовать пришлось не по-детски: на свадьбу приехал из похода против Шемяки, а сразу после венчания возглавил армию на Оке – воины ждали Орду. Конечно же, были у него помощники из воевод, однако Иван III быстро всему учился, чувствовал себя все более уверенно, проверяя готовность полков к сражению, заседая на советах с отцом и боярами, принимая иноземных послов, разбираясь с проблемами Новгорода, Вятки, Рязани. В 1462 году Василий Темный преставился, и никакие церемонии восшествия на престол наследнику не потребовались: было два великих князя – остался один.
В свои 22 года он был уже опытным политиком и военным. Особое внимание обратил на ратное дело. Раньше основу войск составляли разношерстные и далекие от дисциплины «дворы» (дружины) удельных князей и бояр. Иван Васильевич взялся формировать поместную конницу из детей боярских, профессиональных бойцов, давал им вместо платы деревню-другую, сам закупал для них лучшее оружие и коней, выделял ратников не по роду, но по способностям. Такой армии еще не было ни в одной европейской стране, и подчинялась она непосредственно государю. Опираясь на нее, великий князь продолжил линию отца по собиранию русских земель. Василий Темный присоединял владения противников и заговорщиков, Иван III взял курс на объединение Руси.
Преодоление феодальной раздробленности в странах Западной Европы сопровождалось свирепыми войнами, у нас без междоусобиц тоже не обходилось, но постепенно стали преобладать иные процессы. Ярославские и ростовские князья «измельчали», разорились, подрабатывали при государевом дворе. Теперь их окончательно перевели в служилое сословие, а для сельских тружеников это стало великим благом. Раньше обнищавшие хозяева выжимали из них все, что могли, сейчас крестьяне стали государевыми, платили фиксированные подати в казну. Рязань измучили набегами татары, Псков – ливонские рыцари. Под защитой великокняжеских войск они обрели относительную безопасность, начали мирно прирастать к Москве.
Среди важнейших факторов оказалась не только воинская сила. Еще в годы правления Ивана Калиты митрополит Московский Петр учил, что высшая добродетель для властителя – правда. Наставником Ивана III был другой праведный архипастырь, Иов. Святителя Петра государь тоже глубоко чтил, в честь обретения и перенесения его мощей установил праздник. Урок правды он усвоил в полной мере, самолично вел суд, разбирал тяжбы, и молва о его справедливости разошлась далеко за пределы Руси.
Сын турецкого султана Ахмет тогда писал: «Того великого князя Иваново доброе имя слышим, Правосудом его зовут». Когда боярская верхушка Новгорода решила переметнуться под власть Литвы, решающий перелом в разыгравшемся противостоянии внесли не успехи на поле брани, а именно правда и справедливость. Иван Васильевич настоял на своем праве судить в Новгороде, и сразу же на его стороне оказался весь простой народ: шел к нему в дни приездов великого князя, устраивал массовое паломничество в Москву. Привыкшие к бесконтрольному хищничеству местные бояре творили «много зла в земле той, межи себе убийства и грабежи, и домов разорение от них напрасно, кой с которого сможаше». В лице Ивана III новгородская беднота получила защитника от произвола, мудрого правителя, объединявшего территории, связывавшего их общими органами управления. Великий князь провел полную кодификацию права, создал единый свод законов растущей державы – «Судебник».
Вятскую республику пришлось покорять силой: она превратилась в гнездо разбойников, нападала на русские земли, заключала союзы с казанскими ханами. Но можно ли считать присоединение Твери сугубо насильственным? Это княжество захирело, бояре и воины уходили оттуда служить в Москву, срывались с насиженных мест и крестьяне: во владениях Ивана III жилось гораздо лучше. Только тверской князь Михаил взвинчивал себя обидами, воспоминаниями о былом величии, в озлоблении заключил союз с Литвой. Поначалу Иван Васильевич лишь предупредил его, демонстрируя военную мощь, и удовлетворился покаянием. Но тот взялся за старое, добавив к своим прегрешениям клятвопреступление. Когда во второй раз пришло московское войско, тверичи не захотели сражаться за такого князя, ему оставалось лишь спасаться бегством, а его подданные охотно перешли под власть Ивана III. Попутно с собиранием земель вставал вопрос о том, как называться отныне большому государству? Прежде писали: «великое княжество Владимирское и Московское». Когда же оно вобрало в себя Тверь и Новгород, в документах той эпохи стало появляться новое имя – Руссия или Россия.
После смерти первой супруги Ивана Васильевича невесту для него нашли за границей – племянницу последнего императора погибшей Византии Софью (Зою) Палеолог. На русских печатях и монетах появился двуглавый орел. Держава Ивана III показала себя достойной преемницей римского величия: стала крепко бить казанских ханов, заставила освободить всех захваченных соседями за сорок лет пленных.
В 1480 году нарождавшуюся державу планировала раздавить коалиция могущественных врагов. Великий князь литовский Казимир заключил союзы с Ливонским орденом и ханом Большой Орды Ахматом (последний собирал наследство Золотой Орды, подчинил Хорезм, татар Сибири). Вдобавок взбунтовались вздорные братья государя Андрей и Борис, снеслись с Литвой. В столь опасном положении Русь не находилась уже сотню лет.
В историю были некогда внедрены версии двух враждебных по отношению к Ивану III летописей: будто бы он струсил, бежал с фронта. К этим «свидетельствам» добавилось послание епископа Вассиана Рыло, вообразившего себя вторым Сергием Радонежским, убеждавшего государя выйти, подобно Дмитрию Донскому, на смертный бой. Эти байки развенчал видный военный историк Александр Нечволодов, убедительно показавший, что каждый шаг русского правителя был четко выверен, просчитан.
Иван Васильевич внес еще одно новшество в ратное дело. Осознав, что главнокомандующему вовсе не обязательно самому скакать во главе полков, он и в прошлых войнах располагал свою ставку в тылу, откуда удобнее руководить войсками. А в советах Вассиана не нуждался вовсе. Намеревался победить врагов без решающей битвы, без большой крови. Мятежных братьев смирил мудрым словом, против Казимира использовал крымского хана: тот вторгся в Подолию, в результате чего литовское войско к Ахмату не прибыло.
Орду сдерживали на Угре, не давали переправиться, преднамеренно тянули время предложениями о переговорах, ждали, пока татары не будут измотаны, не станут мерзнуть и голодать по осени. Тем временем по Волге в глубоком тылу неприятеля плыл десант Василия Звенигородского и служилого царевича Нур-Девлета, чтобы погромить столицу Ахмата Сарай. Результат известен: полная и блестящая победа при минимальных потерях.
Москва становилась полноправной преемницей Константинополя и в качестве центра мирового православия. В Предуралье некоторые племена были крещены еще в XIV веке св. Стефаном Пермским, им изрядно доставалось от соседей-язычников. Россия вступилась за единоверцев, а обидчикам пришлось покориться Ивану III. Гонения на православие – при поддержке римского папы Александра VI Борджиа – развернулись в Литве, и снова раздался голос московского правителя, крайне недовольного тем, что «строят латинские божницы в русских городах, отнимают жен у мужей, а детей у родителей и силою крестят в закон латинский». «Могу ли видеть равнодушно утесняемое Православие?» – сурово вопрошал великий князь. В двух войнах его ратники так всыпали противнику, что вынудили прекратить религиозные притеснения, при этом отобрали треть литовских владений, а граница нашей державы пролегла в 50 км от Киева.
Воеводы Ивана Васильевича уже совершали походы и за Урал, приводили здешние народы под государеву руку. На реке Нарове был построен первый русский порт с выходом на Балтику – Ивангород. Снова пришлось воевать – со Швецией и Ливонским орденом. В результате Россия добилась права свободно торговать за морем.
Иван III был человеком широких взглядов, чрезвычайно любознательным, не чурался заимствования у иностранцев полезного, зазывал к себе лучших специалистов, и их на Руси становилось все больше: греков, немцев, итальянцев. Иноземцы ехали к нам за большими заработками, так проходила – в нашу пользу – «утечка мозгов». Завозились новейшие изобретения, технологии, отливались лучшие в мире пушки, возводились великолепные здания. По планам Ивана Васильевича преображалась его столица.
На месте обветшалых храмов рос комплекс дивных соборов, вместо стареньких, построенных при Дмитрии Донском стен сооружались неприступные твердыни нового Кремля.
Не все было гладко. Принявшего титул государя всея Руси великого князя никто не надеялся свергнуть, однако интриги приняли скрытые формы. С запада в нашу страну проникла «ересь жидовствующих». Тайные сектанты появились среди духовенства, высокопоставленных вельмож. При странных обстоятельствах умер наследник престола Иван Молодой. Группировавшиеся вокруг снохи государя Елены Волошанки еретики стали продвигать на трон ее ребенка Дмитрия, ради этого в 1497 году ложно обвинили в заговоре супругу Ивана III Софью, сына Василия, обрекли их на опалу, а приближенных к ним – на казнь.
Правосуд, хоть и не сразу, разобрался в ситуации: через год осудил и покарал клеветников, вновь приблизил жену и Василия. Сперва он видел в случившемся следствие обычной борьбы придворных группировок, но со временем стала всплывать правда о сектантах, а в православной вере государь оставался твердым. На Соборах 1503-го и 1504-го ересь была осуждена, главных апологетов предали смерти, прочих отправили в заключение.
Будучи очень обстоятельным человеком, Иван Васильевич успел завершить все свои земные дела. Женил наследника Василия, достроил Архангельский собор в Кремле, ставший усыпальницей государя. После его кончины продолжились работы по строительству еще одного храма – св. Иоанна Лествичника, с самой высокой в нашей стране колокольней. Ей народ дал имя Ивана Великого – в честь человека, сумевшего собрать вокруг небольшого Московского княжества иные фрагменты доселе мозаичной Руси, слить их воедино, превращая в обширную и непобедимую Россию.
Не земной славы ради. Как Иван Грозный Казань брал
Валерий Шамбаров

Иван IV Васильевич. Портрет из Царского титулярника 1672 года, Государственный исторический музей, Москва
Обстановка на восточных рубежах Руси тревожной была издревле. Там теснила соседей Волжская Булгария, превратившаяся после распада Золотой Орды в Казанское ханство. Войны с ними пришлось вести многим государям, начиная с Владимира Крестителя. И причиной тому были не территориальные споры и не конфликты на религиозной почве. Мусульмане служили в Москве, имели Касимовское ханство на Оке – в общем, жили с русскими дружно, даже сражались заедино.
Булгария и ее преемница Казань являлись крупными центрами торговли. Волга и Каспий связывали их со странами Востока, куда поставляли меха и рабов. Охота за людьми стала тут главным промыслом, а хозяйства казанцев буквально расцвели на труде невольников. Очевидец писал, что край сей «кровию русскою беспрестанне кипяще». Еще Дмитрий Донской в 1376 году в ответ на грабительские набеги разгромил Булгарию, заставив признать над собой власть Москвы
Походы на Казань неоднократно предпринимали Иван III и Василий III, которые вынуждали «оппонентов» заключить мир, сажали на их престол своих ставленников.
Острастки хватало ненадолго. Землевладельцам требовались рабы, купцам – «живой товар», простонародье зарабатывало ловлей-пленением. Пророссийских ханов быстро свергали.
В XVI веке на нашу страну не однажды нападало подвластное турецкому султану Крымское ханство, чьи правители стремились протолкнуть на казанский престол своих родственников. Последние также просились под эгиду османского повелителя. На русских стали нападать совместно.
В Москве при малолетнем Иване IV бояре Шуйские отравили его мать, захватили власть, разворовали казну, развалили армию, а оборону страны норовили подменить миротворчеством. Шли на любые уступки крымскому хану и турецкому султану, обещая не трогать Казань. Те пришли к выводу: русская держава ослабела, значит, можно на ней поставить крест… Летопись отмечала: «Рязанская земля и Северская крымским мечом погублены, Низовская же земля вся, Галич и Устюг и Вятка и Пермь от казанцев запусте».
Последние были территориально ближе крымцев, быстрей вторгались в густонаселенные районы Руси. Современник тех событий рассказывал: «Батый протек молнией Русскую землю, казанцы же не выходили из нее и лили кровь христиан, как воду… кого не брали в плен, тем выкалывали глаза, обрезали уши, нос, отсекали руки и ноги». Казанский хан Сафа-Гирей уже считал себя победителем, требовал платить ему такую же дань, как когда-то Золотой Орде, иначе о мире и говорить не желал.
Подросший Иван Васильевич сверг временщиков и снова стал посылать воевод на Восток. Осадами крепостей те себя не утруждали, грабили, разоряли чужие селения и возвращались назад. Оценив убытки от таких рейдов, часть казанской знати потребовала мира, но верх в ожесточенном споре взяла «крымская» партия. Сторонников переговоров с Москвой казнили, или они бежали к русским.
В 1547-м Иван IV первым из великих князей венчался на царство, что означало не только духовную преемственность от Византии – царями на Руси величали ханов Золотой Орды. Таким образом, государь претендовал на то, чтобы стать ее наследником, а венчание означало полученную от Бога власть и величайшую ответственность за безопасность Церкви, страны, подданных. Взяв их под свою защиту, Иван Васильевич решил возглавить походы на Казань.
Первый обернулся бедой: при переправе треснул лед на Волге, потонули пушки и немало ратников. Во время второго (1549) препятствовали вначале снега и морозы, а при осаде Казани снова вмешались оттепели и половодье: поспешный неподготовленный штурм был отбит, пришлось отступить, пока Волга не вскрылась и не отрезала армию от русских земель.
Иван Васильевич в свои 19 лет показал себя храбрым командиром, с арьергардом прикрывал отход, встав на пути погнавшегося вслед неприятеля, проявил качества умелого полководца.
На Казань русские ходили, как правило, зимой, когда замерзали реки и болота. Царь решил поменять тактику, обратив внимание на гору Круглую у впадения в Волгу Свияги. По преданию, ему явился во сне св. Сергий Радонежский, указавший строить в этом месте крепость. Государь лично осмотрел гору и сказал воеводам: «Здесь будет город христианский. Стесним Казань; Бог даст нам ее в руки». Быстро набираясь военного опыта, Иван IV усилил артиллерию, впервые в России создал профессиональную пехоту, стрелецкие формирования. Высоко оценив боевые качества казаков, стал приглашать их на службу.
План начали выполнять ближайшей зимой. Под руководством лучшего инженера дьяка Ивана Выродкова возле Углича рубили бревна, изготавливали детали крепостных стен. По весне сплавили их по реке. Когда к Круглой подошли государевы полки, работники принялись копать рвы, собирать из заготовок укрепления. Казанцы и другие жители этих мест вначале подумали, что русское войско просто разбило лагерь и огородилось передвижным гуляй-городом, но как только у всех на глазах возникла крепость Свияжск, под власть царя стали переходить племена марийцев, чувашей, мордвы. Их делегации Иван Васильевич принимал радушно, угощал за своим столом, не жалел для них подарков.
Казаки, стрельцы, отряды конницы с ватагами коренных жителей перекрыли дороги на Казань, осадили ее со всех сторон. Двухлетнего хана Утемыш-Гирея опекала мать Сююмбике, чей фаворит крымский улан Кощак призывал ждать помощи извне. Подданные взбунтовались, предпочтя мир с Россией. Сбежавшие крымцы погибли в схватках с русскими заставами или попали в плен. Казань вновь признала себя вассалом Москвы, пригласив на престол служилого касимовского хана Шаха-Али.
Русский царь уже давно знал цену подобным соглашениям. Он потребовал выдачи Сююмбике с сыном, освобождения всех русских пленных, уступки правобережья Волги со Свияжском. С ханшей и ребенком обошелся милостиво, поселил их при дворе, наделил имениями. Поток освобожденных невольников сравнивали тогда с «исходом Израиля». Только тех, кто получил помощь в Свияжске, насчитали 60 тысяч, однако многие уходили другими дорогами.
Казанцы отпустили лишь часть рабов, остаться без рабочей силы категорически не желали. Царь же настаивал на строгом выполнении договора, на освобождении всех. Рабовладельцы озлобились. Наломал дров и Шах-Али, убивавший и грабивший собственных конкурентов. Благоразумные татарские князья подались к русским, предупредили: будет мятеж. Просили государя взять ханство под свое прямое правление.
Иван Васильевич послал с отрядом князя Семена Микулинского, но крымцы и турки, опередив его, подняли ногайцев с астраханцами, а в Казани организовали заговор. Не дождавшийся помощи Шах-Али сбежал. Тут-то заговорщики и взбунтовали народ, объявили, что московиты хотят всех истребить, после чего внезапно напали на царские заставы и обозы. В татарскую столицу прорвался вместе с ногайцами астраханский царевич Ядигер, которого провозгласили ханом. Захваченных русских заставляли отречься от христианства, а за отказ умерщвляли самыми зверскими способами. Тем самым путь к примирению был отрезан. От России отпали племена Поволжья…
Но государь не пал духом, объявил о желании возглавить новый поход. Боярская Дума выступила против этого, постановила послать воевод да и вообще отложить спецоперацию до зимы. Сколько за оставшееся время казанцы могут сжечь сел, погубить людей и как без контроля со стороны царя ведут себя воеводы, Иван Васильевич хорошо знал. Потому-то и обратился к митрополиту Макарию: «Хочу не земной славы, а покоя христиан. Могу ли я некогда без робости сказать Всевышнему: се я и люди, Тобою мне данные, если не спасу их от свирепости вечных врагов России?»
Решение о походе принималось не Думой, а церковным Освященным собором. Артиллерию и припасы отправили в Свияжск на судах. К собранным полкам царь выехал в июне 1552 года, а чтобы сразиться с неприятелем, не пришлось даже далеко ходить.
Крымский хан Девлет-Гирей, желавший не только Казань спасти, но и самому крупно пограбить, тогда решил для себя: «Когда русские рати уйдут на Волгу, ударю на Москву». Султан дал ему полки янычар, артиллерию, в результате собралась стотысячная орда. Предвидя такое развитие событий, Иван IV для марша на Казань стал собирать полки не в восточных городах, как раньше, а в южных, на Оке, и те в полной боевой готовности встретили неприятеля достойно: отогнали от Тулы, погромили отступавших, а после этого двинулись к главной цели.
Начинавшийся с Освященного собора поход осознавался как священный, «за други своя». Воины шли избавить Русь от терзавшей ее столетиями угрозы. Путь во многом напоминал паломнический: во Владимире и Муроме государь поклонился гробницам святых угодников, с армией везли знамя Дмитрия Донского и чудотворные иконы, в дороге исполнялись все церковные службы, строго соблюдались посты (хотя прежде ратники от них, как правило, освобождались).
У Свияжска воины переправились через Волгу. Увидев огромное войско русских, к царю потянулись старейшины изменивших недавно племен, покаялись. Он всех прощал, но требовал подтвердить верность делом. Марийцы, мордва, чуваши вышли чинить дороги, выделили 20 тысяч ополченцев. Прибыли казаки «с Дону и с Волги и с Яика и с Терека». Армия достигла численности в 150 тысяч человек.
Государь хотел избежать жертв, предложил Ядигеру и его подданным самые щадящие условия: выдать главных виновников мятежа, переприсягнуть Москве. Но в Казани всем заправляли организаторы бунта и расправ, которые настраивали горожан: «Не в первый раз увидим московитян под стенами, не в первый раз побегут назад, и будем смеяться над ними!» Русским ответили бранью, понося царя, Россию и православие.
Наши ратники стали обкладывать город полевыми укреплениями. Артиллерия открыла огонь. Осада была трудной: разразилась буря, потопившая на реке суда с припасами. Часть бояр потребовала отступления. Иван Васильевич не пошел у них на поводу, послал за новыми припасами в Свияжск и Нижний Новгород.
В Казани тем временем засели 33 тысячи воинов, которые отваживались на эпизодические вылазки. Из лесов на русские порядки налетал конный корпус князя Епанчи. То на одном, то на другом участке закипали жаркие схватки. Царь приказал обезопасить тылы.
Всадников неприятеля выманили, выпустив на поле телеги с добром почти без охраны. Русская пехота и конница, выскочив из засады, отрезали татарских воинов от леса, а затем окружили и перебили. Наша кавалерия устремилась в глубь ханства, прочесывая селения, уничтожила базу Епанчи в Арске.
От пленных русские узнали местоположение источника воды, подвели туда бомбу и взорвали. Казанцы нашли еще один ключ – пусть с плохой, но в целом пригодной для питья влагой. Тогда штурмовавшие испробовали другой способ: построили высокую деревянную башню, ночью придвинули ее к стенам, установив на ней десять больших и 50 средних орудий. Простреливая город, сбили все тяжелые пушки татар. Царь периодически повторял предложения о капитуляции, но противная сторона их отвергала.
Уже наступила осень с холодами и дождями. Иван Васильевич понимал: скоро погода заставит снять осаду, а значит, все усилия и потери окажутся напрасными. Для штурма под стены подвели три мины. Первую, пробную, взорвали 30 сентября, и она снесла часть стены. Казаки и стрельцы захватили Арскую башню. Царь сделал последнюю попытку избежать побоища, приказал войскам отступить, но из захваченной башни бойцы ему передали: «Здесь будем ждать вас». Защитникам Иван Васильевич предъявил все те же мягкие требования: выдать главных изменников, выполнить прежние соглашения.
И вновь последовал отказ. Казанцы упрямо заделывали проломы, перед Арской башней сооружали новую стену из срубов. И только теперь, исчерпав все мирные средства, государь велел воинам готовиться «пить общую чашу крови». 1 октября, в великий праздник Покрова Божией Матери, ратники исповедались, причастились, а утром 2-го заняли исходные позиции. Отдавший все необходимые распоряжения самодержец просил благословения у Господа, стоя в походном храме на литургии. Когда прозвучала фраза Евангелия «Да будет едино стадо и един пастырь», громыхнул страшный взрыв, а во время произнесения слов «Еще молимся Господу Богу нашему помиловати государя нашего, царя Иоанна Васильевича, и покорити под нозе его всякаго врага и супостата» – землю сотряс второй.
Над Казанью поднялись клубы дыма, пыли, мелких обломков. Ринувшиеся вперед полки захватили стены, но рубка продолжилась на улицах. Город был большим и богатым. Часть ратников соблазнилась, пошла грабить, а сорганизовавшиеся защитники бросились в контратаку, начав истреблять охотников за барахлом. Последние в ужасе побежали, заражая паникой других.
Прискакавший к воротам царь встал там со знаменем в руках. Видя его, беглецы останавливались, собирались вместе. Половине личной дружины Иван Васильевич приказал спешиться и бросил в город 10 тысяч свежих бойцов. Татар опрокинули, однако те уже дошли до остервенения и в плен не сдавались. Большинство из них погибло. 5 тысяч вырвались и ушли в леса.
Иван IV въехал в город на следующий день. Его встретили массы русских людей, до сих пор остававшихся в неволе. Государь велел разместить их в лагере, кормить с царского стола. Над грудами убитых плакал, про соплеменников говорил, что они как страдальцы пали за веру и Россию, про казанцев же сказал: «Они не христиане, но подобные нам люди». Все трофеи отдал воинам, пояснив: «Моя корысть есть спокойствие и честь России».
После таких жертв о прежних условиях мира речи быть не могло. Можно ли доверять клятвам, которые обернутся новыми морями крови? Купленную дорогой ценой безопасность державы Иван Васильевич закрепил навсегда: ханство присоединилось к России, Казань освятили крестным ходом, а в центре города русский правитель своими руками установил крест и повелел на этом месте строить Благовещенский собор.
С побежденными обошелся милостиво. Разослал жалованные грамоты жителям края. Сохранил им привычные порядки, веру, те же подати, что они платили хану. Простил даже пленного Ядигера, приняв его на службу и подарив ему имения. Бывший хан был настолько поражен благородством победителя, что попросил себя окрестить, и стал вернейшим другом государя. Кстати, именно с того времени пошло выражение «сирота казанская». Многие местные дети потеряли родителей, и их отдавали в русские семьи. Иван Васильевич повелел заботиться о них, как о собственных чадах, опекунам платили пособия от казны.
Казанский край прирастал к России, из очага противостояния превращался в ее неотъемлемую часть. Открывались пути дальше на восток: на Урал, в Сибирь… В центре Москвы, на Красной площади, государь в благодарность Господу воздвиг храм-памятник в честь взятия Казани – дивный, неповторимый собор Покрова Пресвятой Богородицы на рву, знакомый каждому русскому человеку как храм Василия Блаженного.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе