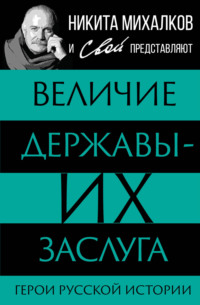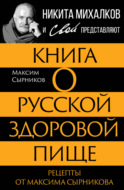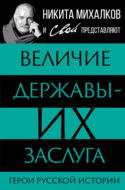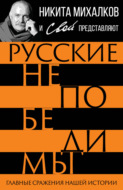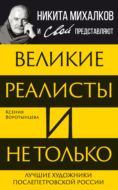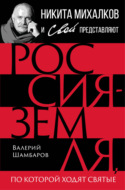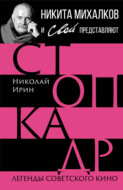Читать книгу: «Величие державы – их заслуга. Герои русской истории», страница 3
Дары преподобного Сергия
Сергей Перевезенцев

Изображение святого Сергия Радонежского на покрове,1420-е годы
Точная дата рождения одного из самых почитаемых русских святых неизвестна. Ученые, исследовавшие его жития и другие более или менее аутентичные источники, связанные с земной жизнью Преподобного, искали эту дату в историческом отрезке от 1313-го до 1322 года. При этом большинство сходилось во мнении: родился святой в начале мая.
Русская православная церковь определила условный день появления на свет величайшего подвижника земли Русской – 3 мая 1314 года. И уже с начала 2014-го в стране проходят общенациональные торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
Ничего нет, если Правды нет
В 1328 году, чтобы не допустить волнений, многих жителей Ростова выселили из города в московские земли. Так, волей великого князя Ивана Калиты, в подмосковном местечке Радонеж оказался ростовский боярин Кирилл с женой Марией и сыновьями – Стефаном, Варфоломеем и Петром. Через девять лет Варфоломей уйдет из дома, примет монашество и станет основателем Троицкого монастыря. А затем прославится как величайший русский подвижник преподобный Сергий Радонежский (1314–1392), который во все последующие века считался небесным покровителем всех московских государей и главным небесным молитвенником за Русское государство и русский православный народ. Вот такие парадоксы дарит нам иногда история…
На протяжении вот уже почти семисот лет преподобный Сергий – самый почитаемый святой всего православного Русского мира. Чем полюбился он русскому сердцу? Почему еще при жизни святого подвижника люди стали тянуться к нему за советом и благословением?
«Ничего нет, если Правды нет…» – написал когда-то один из средневековых русских книжников. Правда, как ее понимали наши пращуры, – это то, что мы называем сегодня «социальной справедливостью». Троицкий монастырь в те тяжелые времена стал символом такой Правды, русской Правды…
Житие преподобного Сергия рисует нам образ очень скромного, терпеливого и неприхотливого в бытовом отношении человека: «…Одежда новая никогда не прикрывала тело его, ни сукно немецкое нарядное, разукрашенное… Но только из сукна простого, то есть из сермяги… одежду носил, ветхую, не раз перешитую, и неотстиранную, и грязную, и многим потом пропитанную, а иногда даже и с заплатами». Основой жизни старец считал труд, ибо только собственным трудом, по его убеждению, человек имеет право добывать себе пропитание. Житие Преподобного предлагает нам множество рассказов о его трудах. Вот один из таких рассказов. В голодный год Сергий пришел к некоему монаху Даниилу и предложил соорудить сени перед его кельей, а в качестве платы за труды попросил гнилого хлеба. Даниил тут же вынес Сергию целое решето хлеба и был готов отдать его даром, но Преподобный ответил: «Прибереги хлеб до девяти часов, потому что я прежде, чем руки мои не потрудились, и до работы, платы не беру».
По таким же правилам жила и вся Троицкая обитель, особенно после того, как приняла общежительный устав. В его основе лежали несколько главных принципов – равенство всей братии (включая игумена), запрет на частную собственность, совместный стол и молитва, послушание и четкое распределение обязанностей, наконец, ежедневный неустанный труд. Троицкий монастырь стал первой в Московской Руси общежительной обителью, а Сергий Радонежский был поставлен в его первые игумены.
Затем по примеру Троицы самим Сергием и его учениками общежительные монастыри основываются по всей Руси. И везде становятся центрами притяжения для местного люда. Почему? Прежде всего потому, что иноки в этих обителях жили так же, как и окрестные крестьяне, а правила монастырского бытия оказались схожи с принципами жизни сельской общины. И крестьяне увидели в монахах сами себя – таких же тружеников, живущих столь же скудно и скромно. И узнали в этом столь чаемую русским сердцем Правду…
Чистота души
Но Правда общежительных монастырей состояла не только в том, что иноки жили, как соседние с ними крестьяне, а прежде всего в том, что они хранили «чистоту души», т. е. нравственную чистоту. Иноческое трудолюбие, скромность и воздержание не были вынужденными, не были вызваны, как у большинства современников, лишь жестокими условиями окружающей жизни, но стали результатом свободного выбора каждого из монашествующих. И первым среди насельников московских общежительных обителей такой выбор сделал преподобный Сергий.
Его житие сообщает нам, что еще до принятия общежительного устава Сергий «братии, как купленный раб, служил: и дрова для всех… колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил, и остальную пищу, нужную братии, готовил; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах черпал и на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил… Ночью же Сергий в молитвах без сна проводил время; хлебом и водой только питался… И что бы он ни делал, псалом на устах его всегда был… Так пребывал он в молитвах и в трудах, плоть измучил свою и иссушил, желая быть небесного города гражданином и вышнего Иерусалима жителем».
Затем, уже став игуменом, преподобный Сергий строго следил за соблюдением монастырского устава: «Завершив молитву в келье своей, выходил он из нее после молитвы, чтобы обойти все кельи монахов. Сергий заботился о братии своей, не только о теле их думал, но и о душах их пекся, желая узнать жизнь каждого из них и стремление к Богу. Если слышал он, что кто-то молится, или поклоны совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или святые книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радовался, и Бога благодарил, и молился за них Богу, чтобы они до конца довели добрые свои начинания. Если же Сергий слышал, что кто-то беседует, собравшись вдвоем или втроем, или смеется – негодовал он об этом и, не терпя такого дела, рукой своей ударял в дверь или в окошко стучал и отходил. Таким образом он давал знать им о своем приходе и посещении и невидимым посещением праздные беседы их пресекал. Затем утром на следующий день призывал он к себе провинившихся; но и здесь не сразу запрещал им беседы, и с яростью не обличал их, и не наказывал их, но издалека, тихо и кротко, как будто притчи рассказывая, говорил с ними, желая узнать их прилежание и усердие к Богу…»
Духовное единство
«Христос есть истинная правда…» – писал все тот же средневековый русский книжник. В самом деле, общежительные монастыри притягивали к себе окрестный и дальний православный люд не только и не столько потому, что иноки жили, как обычные крестьяне, но в силу того, что в иноческих обителях торжествовала истинная христианская вера, как говорили в те времена, будто «сам Христос пребывал». Вот в чем было главное чудо – монахи трудились и жили похожим на крестьян образом, но по-другому – в чистоте души и со Христом.
Именно преподобный Сергий Радонежский, стремясь сам и направляя монастырскую братию к «жизни во Христе», ввел в русскую жизнь идею и практику «высокого жития», как реальный пример достижения в обычных жизненных обстоятельствах духовного совершенства. Он же предложил несколько принципов «высокого жития». Прежде всего Преподобный призывал иноческую братию к отказу от мирских соблазнов – богатства, власти, ненависти, насилия. Отказ от всего мирского должен был способствовать тому, чтобы иноки хранили смирение и любовь. Столь же необходимой составляющей «высокого жития» являлась идея внутренней духовной свободы, как высшей степени свободы вообще. Наконец, еще одно из условий «высокого жития» – и для отдельного человека, и для монастырской обители, и для общества в целом, – преподобный Сергий видел в единомыслии. Единомыслие для отдельного человека – это целостность души, полностью посвященной служению Господу. Для обители – единство помыслов и действий всех иноков, которые своим подвигом умножают Христову Любовь на земле и подают пример остальным людям. Для общества – это идея единства, благодаря которому Русь только и может спастись.
Не случайно обитель, основанная преподобным Сергием, была посвящена Святой Троице. Сергий Радонежский видел в Троице высший христианский образ Единства и Любви, ибо ипостаси Святой Троицы единосущны, не знают ненависти, но исполнены Любви. Святая Троица – это еще и прообраз того, как должно строиться человеческое общежитие вообще и русское общество в частности. Следовательно, Святая Троица, в честь которой и была основана обитель на горе Маковец, становилась и символом единства Руси. Впервые в русской истории преподобный Сергий придал идее Святой Троицы реальное, конкретное звучание, преобразовал христианский догмат в символ живого единства, к которому должны стремиться все. Как показала дальнейшая история, именно из Троицкой обители русские люди и в XIV веке, и позднее ждали импульсов к возрождению единства в Русском государстве, ибо эти импульсы исходили как бы от Самого Господа. А икона «Святой Троицы», написанная Андреем Рублевым, духовным учеником преподобного Сергия, почиталась не как произведение искусства, но опять же как воплощенный символ Божественного единения.
И сам преподобный Сергий много потрудился во славу единства Русской земли. Не раз в наиболее драматичные моменты истории помогал князьям услышать друг друга, убеждал их прекратить кровопролитные усобицы. Ради этого совершались его «миротворческие походы» в Нижний Новгород и Рязань. Эту же цель преследовал Преподобный, освятив своим участием княжеский съезд 1374 года: на съезде был составлен союз, который вывел в 1380 году полки на Куликово поле. Наконец, в 1380 году троицкий игумен благословил московского великого князя Дмитрия Ивановича и все русское воинство на битву с полчищами Мамая и отправил сражаться двух монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослябю, предварительно посвятив их в схиму. На Куликовом поле именно Пересвет положил почин великой победе, встретившись в поединке со «злым печенегом», позднее прозванным Челубеем…
Когда мы опять начнем биться над сложными для нас вопросами (а биться будем, куда ж мы от этих вечных, «проклятых» вопросов денемся?), давайте вспомним и те ответы, которые семьсот лет назад нашел для нас преподобный Сергий Радонежский: жить надо в правде, чистоте души и духовном единстве. Эти заветы преподобного Сергия – его подарки и современникам, и нам, потомкам. Вот только сумеем ли мы ими воспользоваться? А преподобный Сергий Радонежский молится за нас на небесах…
Вера и правда Московской Руси. Благоверный великий князь Димитрий Донской
Валерий Шамбаров

Дмитрий Иванович Донской. Портрет из Царского титулярника 1672 года, Государственный исторический музей, Москва
За свою относительно короткую жизнь он сделал немало для того, чтобы Москва со временем стала единым центром великой страны и всего православного мира.
Тогда казалось: мир валится в тартарары. Погибали величайшие государства. Обваливалась Византия. В пламени усобиц, под копытами татарских коней пали Киевская и Владимирская Русь. Да и Золотая Орда, поглотившая их, надламывалась раздорами. В этом мрачном месиве возникло зерно новой державы – Московской. Создавали ее святые.
Младший сын св. Александра Невского, св. Даниил Московский, был рачительным хозяином, взялся благоустраивать свое маленькое и бедное княжество. К его же сыну, Ивану Калите, переехал на жительство св. митрополит Петр. Он наставлял: Москва должна стать духовным центром Руси. «И сам прославишься, и сыновья и внуки твои в роды, и град сей славен будет во всех градах русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща враг его, и прославится Бог с ним». Надо угождать не людям, а Господу, и Он вознаградит князей. Чем угождать? Не только строительством храмов, но и правдой. Справедливостью.
Это принесло свои плоды. Москва и зависимые от нее княжества – Ростовское, Ярославское, Белозерское, Галичское – выглядели относительно благополучным островком на фоне остальных русских земель. Но успехи оказались зыбкими. В 1350-х на нашу страну обрушился новый кошмар – чума. Вымирали целые города, и многие верили: настал конец света. В Москве поветрие унесло великого князя Симеона, его детей, брата, митрополита Феогноста, а простолюдинов никто не считал. Это были первые детские впечатления княжича Дмитрия. Царство смерти, гробы, похоронный плач.
Уцелевшие русские становились более сплоченными. Новое поколение росло упорным, энергичным, трудолюбивым. Иначе можно ли было выжить? Это племя обращалось к вере, было смелее и самоотверженнее. Оно уже видело, как «много» значат земные блага и сама жизнь… Подрастала именно та генерация, которая выйдет на Куликово поле.
Чумой бедствия не ограничились. Умер отец княжича, Иван Красный, и Дмитрий в возрасте восьми лет очутился на престоле. А Русь рухнула в дрязги. Подняли головы старые соперники Москвы. Полезла задираться Рязань, закрутили интриги новгородцы. Тверские властители вспомнили, что они тоже имеют право на великое княжение. Великокняжеский престол перехватил суздальский и нижегородский Дмитрий-Фома. Все, чего достигли московские государи, шло прахом.
Окружение маленького Дмитрия возглавил св. митрополит Алексий. Он взял мальчика под опеку, растил из него настоящего правителя. Учил примерно так же, как св. Петр: князь за каждый свой шаг отвечает перед Богом. Обязан защищать и устраивать землю, вверенную ему Господом. Должен поддерживать справедливость, контролировать бояр и чиновников – блюсти правду. Правда и порядок сами по себе очень много значили.
Об этом растекалась молва. В московские владения потянулись люди из других земель, где не было ни крепкой власти, ни защиты. Перебирались из княжеств, завоеванных литовцами. Русское государство прирастало еще не территориями – жителями. Ремесленниками, землепашцами, воинами.
Да и успехи, достигнутые предшественниками Дмитрия, не пропали втуне. Удельные князья помнили, что под властью Москвы жилось куда лучше и надежнее, чем теперь. А в Орде как раз началась «замятня». Претенденты на трон свирепо резали друг друга. Этим и воспользовалось правительство св. Алексия. У очередного скороспелого хана Амурата сумело отспорить ярлык на великое княжение. Дмитрий-Фома не уступал, упрямился. Что ж, на него двинулось войско. В этом наставники Дмитрия тоже преуспели, рать была отличной, многочисленной. Присоединились удельные князья, они выбрали московский порядок, а не возврат к анархии. Дмитрий-Фома не осмелился сопротивляться, отдал власть. В 1362-м в возрасте 12 лет Дмитрий Иванович был провозглашен великим князем всея Руси.
Правда, соперник не смирился. Пустил в ход взятки, доносы и ханский ярлык все же перекупил. К нему примкнули те князья, кому не нравилось единение Руси, – Константин Ростовский, Дмитрий Галичский и Иван Стародубский. Москва не позволила раздуть серьезную усобицу. Снова выступили рати, обложили Суздаль, вынудили противников сдаться. А св. Алексий задумал погасить вражду не только военными методами. Дмитрию Ивановичу исполнилось 16 – по тогдашним обычаям считай взрослый. У Дмитрия-Фомы расцвела дочка Евдокия. Чем не пара? Две половинки Владимирской Руси, западная и восточная, скреплялись семейными узами. Заслали сватов, сыграли свадьбу.
На татарских склоках московское правительство играло все смелее. Формально признавало меняющихся ханов, но дань платить перестало. На «сэкономленные» деньги Дмитрий принялся укреплять собственные владения, и в Москве вместо обветшалых деревянных стен впервые стал строиться каменный Кремль. Это оказалось совсем не лишним. Ведь до мира и согласия на Руси было очень далеко. С суздальцами и нижегородцами замирились, однако активизировался другой враг. Возвышение Москвы не давало покоя тверскому князю Михаилу, а в конфликт тот не постеснялся втянуть Литву – огромную и могущественную по сравнению с княжеством Дмитрия, охватывавшую нынешние Белоруссию, Украину, Смоленщину, Брянщину. Государь Литвы Ольгерд приходился Михаилу родственником и охотно согласился подсобить в покорении Руси.
Литовские нашествия накатывались на нашу страну трижды. По жестокости и размаху они не уступали самым свирепым татарским набегам. «И поплени людей бесчисленно, и в полон поведе, и скотину всю с собой отогнаша», «и все богатство их взя, и пусто сотвори». Дважды Ольгерд осаждал Москву, и лишь новенькие каменные стены останавливали его.
Дружба и спайка с другими княжествами помогали преодолевать последствия вторжений. Совершенствовалось боевое мастерство. Москвичи и их союзники приспособились умело маневрировать, окружали врагов. Из второго похода Ольгерду пришлось бесславно отступить. Из третьего он едва унес ноги. Это поднимало авторитет Дмитрия Ивановича. Он выступал защитником уже не только Москвы, но всей Руси. И та признавала в нем общего предводителя.
В 1375 году тверской Михаил снова затеял склоку, позвал литовцев, да еще и у Мамая выпросил ярлык на великое княжение. Однако по призыву Дмитрия на Тверь выступили нижегородцы, суздальцы, ярославцы, белозерцы, ростовцы, моложцы, стародубцы. Сочли нужным примкнуть и властители, не входившие в великое княжество Владимирское, но понявшие, что надо держаться вместе с Москвой, Семен Оболенский, Роман Новосильский, Иван Тарусский. Никогда еще с домонгольских времен не собиралось такой армии. Враз она прижала смутьяна.
Русь в свое время погибла от разделения, сейчас под рукой московского государя восстанавливалось ее единство. И сам Дмитрий не обманывал возложенных на него надежд. Энергично укреплял границы. Возводились крепости, налаживалась система оповещения. Каждое лето на рубеж Оки стали выходить войска, прикрывая страну от татарских набегов. Хотя границу защищали не только крепостями и заставами. Великий князь обращался к св. Сергию Радонежскому. Преподобный старец приходил в порубежные города, приводил учеников, основывал монастыри в Серпухове, Голутвине. Новые обители появились и под Нижним Новгородом. Стены и башни твердынь дополнялись маковками храмов. Это было одно целое, как богатырское кольчужное ожерелье и крест на шее. Ратник защищал святыни, а святыни поддерживали его. Что он значил без Божьей милости?
Сергий Радонежский пользовался высочайшим почтением. Все уже верили: он святой. Живет среди людей, но связан с Небесным миром. Владыка мирил враждовавших князей, благословлял начинания государя, давал ему советы. Дмитрий, в свою очередь, поддерживал служение Троицкого игумена. Их общими усилиями появлялись новые монастыри в Стромыни, Киржаче, под Ростовом…
С в. Сергия не напрасно называли «игуменом земли Русской». Такого чина не значилось в церковном уставе, он родился в народе. Сколько дорог измерил, скольких святых воспитал для Церкви этот игумен! Его ученики устроили более сорока монастырей. Русь покрывалась ими, как зримым знаком благодати Божьей. Последователи преподобного уходили и в дальние, еще не освоенные леса. С в. Кирилл срубил келью на берегу Белого озера, св. Ферапонт – на Сухоне, св. Дмитрий Прилуцкий – под Вологдой, св. Стефан пошел просвещать пермяков. Так началось совершенно необычное, уникальное освоение Русского Севера – не армиями, не купеческими колониями, а монастырями.
В Литве грянули гонения на православных, и великий князь помог единоверцам, зимой 1378–1379 годов послал рать двоюродного брата Владимира Андреевича и Дмитрия Боброка-Волынского. За один поход под покровительство Москвы перешли Стародубское, Трубчевское, Брянское, Новгород-Северское, Черниговское, Елецкое, Новосильское, Оболенское, Одоевское княжества.
Сплочение и духовная сила Московской Руси в полной мере сказались на Куликовом поле. Воины великого князя сумели разгромить несметные вражеские полчища. Победа оказалась настолько впечатляющей, что даже литовский государь Ягайло поджал хвост, выражая готовность подчиниться Москве. Дмитрий Донской решил закрепить братство, сложившееся на поле битвы. 1 ноября 1380-го он созвал съезд всех князей. Чувства были свежими, и никому не требовалось доказывать: пока русские вместе, они способны противостоять кому угодно. Князья дружно поддержали идею Дмитрия, «велию любовь учиниша меж собою».
Ему удавалось не все. Слишком сильна была инерция прошлого, всюду колобродили эгоизм и гордыня. Свои же, нижегородские, родственники завидовали успехам Дмитрия. Стряпали доносы в Орду. В 1382 году случилось нашествие Тохтамыша – совместно с теми же родственниками. Сгорела Москва, похоронили 24 000 перерезанных жителей. В общем, на взлете русским перебили крылья. Опять пришлось смиряться, покоряться, платить хану дань. Тут как тут проявились все враги единения. Ополчился Олег Рязанский. В который раз всколыхнулись амбиции тверского Михаила. А новгородские «золотые пояса» вообще обнаглели, вели переговоры о том, как бы передаться Литве.
И все-таки возврата к прошлому не произошло. В Рязань отправился св. Сергий. Ничем не прошибить было упрямого князя Олега – ни войнами, ни указанием на страшные ошибки. Но «кроткие словесы» преподобного чудесным образом проняли его. Олег «умилися душею», устыдился святого мужа. Согласился заключить с Дмитрием Ивановичем «вечный мир и любовь в род и род». Посватал за своего сына дочку московского государя. А удельные князья не забыли, насколько важно и выгодно быть вместе. В 1386-м на строптивый Новгород выставили полки 26 городов. Московский князь не стал доводить дело до сражения – самостийники струсили. Шутка ли, на них шла вся Русь! Предпочли просить прощения, откупаться данью.
Короткая земная жизнь св. Дмитрия Донского подходила к концу. Он полностью отдавал себя служению Отечеству. И сгорел в 38 лет. Весной 1389 года расхворался, 19 мая преставился. Хоронили в Архангельском соборе, и голоса певчих заглушались народными рыданиями. Плакала толпа, запрудившая площади, плакали бояре, священники. Свои сокровенные замыслы он реализовать не успел. Еще не удалось сбросить со страны и народа ордынскую дань. Хотя в завещание государь уже включил красноречивый пункт: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду…» Он мечтал об этом, вел к этому Русь.
Его владения выросли незначительно: князь Мещеры Александр Укович, старый соратник Донского, передал ему свое лесное княжество. И тем не менее за время правления Дмитрия Ивановича государство стало неизмеримо сильнее. Налилось энергией. Прежний рыхлый костяк Руси срастался вокруг Москвы. А сын Василий уже смог присоединить целые области – Нижний Новгород, Суздаль, Муром, Тарусу… Сливались воедино без войн и громких побед – при полной поддержке местных жителей. Зрели плоды того, что было подготовлено св. Дмитрием Донским.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе