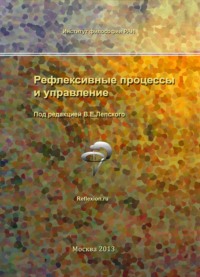Читать книгу: «Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов IX Международного симпозиума 17-18 октября 2013 г., Москва», страница 7
Изучение проблемы свободы в контексте постнеклассической научной рациональности
Е.И. Кузьмина, В.А. Холмогоров, И.В. Гусев
(Военный университет МО РФ, Москва; ФСО России; Избирательная комиссия Ульяновской области РФ)
При изучении проблемы свободы как феномена личности, требующей онтологической глубины и аксиологической насыщенности, психологическая наука ещё в двадцатые годы ХХ века благодаря работам С.Л. Рубинштейна и Л.С. Выготского получила мощный импульс к переходу на этот новый этап в своём развитии. Продолжение изучения свободы, по нашему мнению, предполагает решение следующих исследовательских задач.
1. Поиск методологических основ – философских идей, порождающих богатое семантическое пространство исследования феноменов свободы и ответственности. Сопряжение разных точек зрения, осуществлённое в ходе разработки рефлексивно деятельностного подхода к пониманию феномена свободы [1] позволило расширить горизонты его познания, выявить роль рефлексии;
2. Операционализация идей экзистенциальной философии [5]: приоритета разума над рассудком, открытости иному, самоосуществления в познании бытия, овладения всеми мыслимыми точками зрения на объект познания, присутствия живым сознанием в каждом из способов бытия всеобъемлющего. Экзистенциальный подход, предполагающий в экспериментальном исследовании проявления трансцендирования, становится реальным при изучении принятия решения (выбора) в условиях неопределенности.
Выбор, совершаемый человеком в условиях неопределённости, открывает возможности проведения рефлексивно-деятельностного анализа к изучению свободы, основанием которого является субъектно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна [2], а также концепция рангов рефлексии и обобщенная модель свободного выбора В.А.Лефевра, согласно которой у потенциально свободного субъекта «…есть потенциальная возможность… детерминировать значения х1 и х2 <альтернатив выбора> и при этом оставаться реалистом", 225. Неопределенность при осуществлении выбора в условиях совместной деятельности усиливается за счет отсутствия четкого знания о мотивах, планах другого человека, что инициирует рефлексивное управление.
В проведённых нами экспериментальных программах «Отношение к виртуальному запрету» и «Выбор ядра коллектива» их участники осуществляют выбор в ходе совместной деятельности. Основой построения этих программ выступила самооценка, «пронизывающая» все этапы исследования. Обладающая рефлексивной природой, она отражает ценность и значимость Я, отношения человека к миру, к себе как субъекту, является компонентом Я-концепции, самосознания, самоопределения, самооценивания, стержневой характеристикой личности. Самооценка даёт возможность проникновения в сознание человека: в многозначные отношения между уровнями обобщения Я (реальное и идеальное, единичное-особенное-всеобщее) на различных рангах системы рефлексии.
Первую экспериментальную программу составили начатые в 90-е гг. исследования с виртуальным запретом [1; 4]. Испытуемые выполняли задание по модифицированной нами гештальт-технике Д.Н.Хломова «Рисунок на двоих». Модификация заключалась в том, что лист бумаги А4 выдавался каждой паре с едва заметным перегибом пополам: «У вас есть лист бумаги на двоих. Рисуйте, что хотите 30 минут молча». В ходе рисования участники исследования самоопределялись по отношению к ограниченному в своих возможностях Я: вырабатывали свою позицию по отношению к запрету, наделяли совместную деятельность нравственным содержанием, решали вопросы права, защиты своей индивидуальности. При анализе каждый рассказал о сюжете, контакте, желании выхода за черту, чувствах. Из старшеклассников 30 % вышли на территорию партнёра. Отметим, что линия перегиба листа опредмечивается, воспринимается испытуемыми в качестве границы, запрещающей выход на «чужую» территорию. Из видов границ возможностей, выделенных на основании рефлексивно деятельностного подхода [1], они сталкиваются с границей-катализатором, усиливающей мотивацию по преодолению запрета. Выявлено, что выходу за «черту» у школьников способствуют социальный интеллект (высокий уровень познания преобразования поведения по тесту Дж. Гилфорда, М.Салливена) и экзальтированность; препятствует – интернальный локус контроля. Курсанты не выходили на территорию партнёра, отстаивали принципы суверенитета, товарищества, ответственности. Многие студенты вышли за черту; их рисунки свидетельствовали о слиянии и совместном творчестве.
Свобода выбора в совместном рисовании проявляется на всех уровнях деятельности, особенно, на уровне целеполагания при выборе альтернатив: «выйти» или «не выходить» на территорию партнёра. Субъект, в случае возникновения желания осуществить выход, в результате рефлексии на границы своих виртуальных возможностей, стремится разрешить противоречие «Я-несвободное» – «Я-свободное». Ответственный человек с «доминантой на лицо другого» (А.А.Ухтомский) включает образ партнёра в рефлексивную систему, учитывает его желания, определяет зону активности в ситуации контакта, прогнозирует последствия своих действий.
Вторая экспериментальная программа по изучению ядра коллектива, начатая З.В. Кузьминой на базе студенческих групп (1986), продолжена Е.И. Кузьминой и В.А. Холмогоровым в спецподразделениях [4]. Референтность группы изучается нами как феномен коллектива. В начале исследования в ходе деловой игры участники отвечали на вопрос: «Какие требования Вы предъявляете к своим товарищам по службе, т. е. какими качествами должен обладать каждый член Вашей группы, чтобы она работала эффективно?». Осуществлялась коллективная работа по выбору ценностей, значимых для группы, интенсифицировались процессы духовного слоя сознания, самоопределения индивидуального и коллективного субъекта. На основании индивидуальных идеальных рядов качеств составлялся групповой эталонный ряд. Результаты самооценки и оценки членов группы по качествам эталонного ряда выступили основой для процедуры индивидуального выбора наиболее референтных лиц – ядра коллектива и определения мотивов его выбора по факторам (когнитивному, коммуникативному, перцептивному). С помощью референтометрии, мотивов выбора и показателей эффективности профессиональной деятельности удалось выявить качественную характеристику ядра коллектива, операционализировать основания его выбора, доказать влияние референтности группы на эффективность её деятельности. Члены ядра коллектива, как правило, успешны в профессии. Через три года после эксперимента они получили повышение по службе. В сплочённых группах спецподразделений члены ядра коллектива имеют более высокий (по сравнению с другими) индекс референтности: выше оцениваются по всем трём факторам, особенно, по когнитивному. Результаты формирующего эксперимента по модифицированной нами методике А.П. Егидеса и Н.Ш. Сугробовой свидетельствуют: в групповом эталонном ряду произошли изменения – на первые места были выбраны профессионально-значимые качества, близкие к КОТД: дисциплинированность, интеллект, профессионализм. Эти данные имеют ценность для совершенствования процесса управления.
Литература
1. Кузьмина Е.И. Психология свободы: теория и практика. – СПб.: Питер, 2007.
2. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – М.: АН СССР, 1957.
3. Лефевр В. А. Рефлексия. – М.: "Когито-Центр", 2003.
4. Кузьмина Е.И., Холмогоров В.А. Референтность группы. Учебное пособие. – М.: ООО «Угрешская типография», 2011.
5. Ясперс Карл. Разум и экзистенция / К.Ясперс; пер. А.К. Судакова. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013.
Ценностно-рациональные основания управления современными инновациями
А.Б.Курлов
(Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа)
Современное понимание сути социального управления существенно отличается от первоначальных представлений о нём. Теперь оно, прежде всего, подразумевает универсальный характер процедур, ориентированных на управление проблемами ценностного плана, которые обусловлены обширной социальной синергией. При этом, «ценности разнообразны как формы облаков» [1, С. 360]. Поэтому, стремление субъекта управления к формированию строгих линейных связей с объектом нивелирует это разнообразие, по сути, разрушая основания его социальности, девальвируя потенциал объекта инновационного развития.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: возможно ли управление инновациями? Казалось бы, что ответ на него прост: поскольку инновации выражены в вещной форме, то они вполне управляемы. Однако не все так просто. Дело в том, что возможными инновации делает субъектное творчество, а оно, по сути, процесс во многом стихийный. Поэтому, традиционное экстраполяционное прогнозирование, в этом случае, оказывается неэффективным в силу того, что мы не можем предсказать возможные качественные изменения (инновации), которые порой задают совершенно новые порядки в развитии объекта управления.
В то же время было бы неправильно абсолютизировать стихийность в творчестве и переносить ее на весь инновационный процесс. На самом деле, прежде чем творчество породит инновацию, то есть воплотится в вещь, – оно претерпевает иные метаморфозы. Результатом творчества является открытие, которое никогда не имеет вещных форм. Инновации же существуют лишь в качестве прикладных аспектов открытия. Поэтому между открытием и инновацией возникает разрыв, ибо не всякое открытие становится инновацией. Но любое открытие обладает собственной ценностью, так как углубляет наше понимание мира. В то же время любая инновация социально значима лишь постольку, поскольку она способна изменить мир.
Следовательно, будучи прямым порождением творчества, открытие стихийно, случайно, неуправляемо. Но инновация, будучи следствием открытия, существует иначе. В разрыв между открытием и инновацией входит субъектный замысел, возникающий в силу осознания человеком некоей ценности, благодаря которому открытие и имплицирует свои возможные практические (вещные) следствия. Именно поэтому управление инновациями становится возможным, т. к. они тесно связаны с ценностями и мотивами преобразующей деятельности человека. В связи с этим актуализируется антропоориентированный подход к данной проблеме. Его суть состоит в том, что управляемость процесса инновационной деятельности всецело обусловлена возможностями согласования разнонаправленных интересов и целей людей на основе определенной системы социальных ценностей. По сути, речь идет об идеологии, способной консолидировать усилия людей в рамках рассматриваемого процесса. Последняя предстает в форме системной целостности – [цель + технология целедостижения], благодаря которой инновационная деятельность и обретает аттрактивность, определяя, в какие формы инноваций будут «отлиты» результаты тех или иных открытий.
При этом указанное определение целей (и ценностей) отнюдь не должно являться прерогативой властных субъектов, ибо управление инновациями, оставаясь открытым (не зарегулированным) процессом, не приемлет директивных техник менеджмента. Последние, к сожалению, все в большей степени продолжают доминировать в практике российского истеблишмента. При сохранении такой тенденции, может быть утрачена обратная связь с многочисленными проявлениями последствий внедрения инноваций, что уже сейчас проявляется в целом ряде деструктивных системных эффектов, разрушающих основания российской социальности. О. Тоффлер в свое время отметил, что стремясь «…предотвратить шок от столкновения с будущим…мы не можем позволить себе непродуманных решений…» В противном случае «…это означает, совершить коллективное самоубийство» [2, С. 55–56].
В силу этого, стратегическое управление инновационным процессом должно быть реализовано отнюдь не субъектами власти, а экспертами, способными создать рациональные – научно обоснованные модели развития новых форм консолидации деятельности людей на основе социально значимых ценностей. Проблема состоит в том, что механизм стратегического управления инновациями чрезвычайно сложен, что предполагает использование принципов социальной самоорганизации при прогнозном определении результатов инновационной деятельности. В этих условиях и кульминируется роль экспертизы, как главного инструмента при создании рассматриваемых управленческих стратегий.
Экспертный взгляд на процесс самоорганизации метаморфозно изменяющейся российской социальности чрезвычайно актуален именно сегодня. Он, в первом приближении, показывает, что под осцилляторами следует понимать различные формы и порядки не всегда четко структурированных современных социальных практик; под аттракторами – инновационную деятельность. В этой системе детерминированного хаоса аттракторы неизбежно ведут к целям – инновациям [3, С. 11–62]. Спектр последних чрезвычайно разнообразен в силу отсутствия базовой социальной идеологии, что и обусловливает безграничный горизонт этих целей. Поэтому, российская социальность «обречена» на хаотичные инновационные изменения, и в этом смысле неуправляема. Но, управление инновациями возможно в ином формате, – оно может быть реализовано через социальные ценности. При этом, аксиологические установки будут действовать как модуляторы, «разрешая» те инновации, которые соответствуют наличным социальным приоритетам и, «запрещая» иные. Если базовым ценностным параметром является «потребление», о чем цинично свидетельствуют многочисленные проявления нашего наличного бытия, то соответственно и будут реализовываться те инновации, которые соответствуют этой преференции.
В конечном счете, социальная действительность это проекция внутренней природы человека, как существа способного оценивать и преобразовывать этот мир. Инновационная деятельность и инновации становятся орудиями этого преобразования. Надо в то же время ясно понимать, что, изменяя реальность, человек изменяет и свои ценностные приоритеты. В скором времени эти изменения могут принять необратимый характер и направление инноваций, внедряемых в структуры нашей жизни, будут все в большей степени определять ценностный, а, следовательно, и социально-деятельностный облик нашего общества. И если будущее нам не безразлично, мы должны прилагать максимум усилий к рациональному планированию потока социальных нововведений и управлению инновационной деятельностью не на партикулярном, а на номотетическом уровне фиксации социетально значимых ценностных ориентиров.
Литература
1. Дьюи. Дж. Либерализм и социальные действия.// О свободе. Антология мировой либеральной мысли. – М.: Традиция, 2000. – С. 331–384.
2. Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.– 558 с.
3. Курлов А.Б. Основы информационной аналитики./ А.Б.Курлов, В.К.Петров. – М.: «Юрист», 2009.– 350 с.
Версия происхождения и природы рефлексии
А.Е. Левинтов
(Институт образовательных технологий АНХ И ГС при Президенте РФ)
Как возникает и формируется рефлексия, впервые я, кажется, стал понимать, когда брал интервью в 2003 году у Владимира Александровича Лефевра в Ирвайне. Речь шла о детских воспоминаниях эвакуации из Ленинграда ранней весной 1942 года:
«Я помню, были налеты, но, слава Богу, бомбы проходили мимо нашей машины. Мы благополучно доехали и попали на так называемый эвакопункт. И оттуда нас отправили в Вологду. Я помню эту дорогу в Вологду. Я боялся, что меня выкинут из поезда, потому что из вагона в то время (товарный вагон, конечно) выбрасывали людей. Рядом сидела женщина, у которой все время хотели выбросить ребенка. Она его прижимала и не отдавала. Я тогда не знал, что ребенок был уже мертвым. Выбрасывали мертвых людей из этого вагона. Он был полностью набит людьми, и я боялся, что меня выбросят. Я тогда не понимал, что выбрасывают трупы.»
Страх перед смертью, которую ребенок еще не понимал, привел к поискам спасения, к отысканию в себе, в своем сознании чего-то недоступного смерти и потому управляющего и ею, и жизнью, и самим человеком. Это был первый акт рефлексии и первая зарница рефлексии, и первый шаг по пути спасения своего Я за счет другого Я, бессмертного, предельно бескорыстного и всесильного, за счет выделения над собой субъекта.
Сознание человеческое – и этим оно отличается от сознания других живых существ – субъективно, то есть способно занять субъектную позицию относительно самого себя-объекта рефлексии. Иными словами, рефлексия – это коммуникация с самим собой на витальные темы. Именно витальностью этой коммуникации и объясняется, что любой творческий акт и процесс – рефлексивны, ведь творчество (научное, техническое, художественное, любое) возможно только в витальной ситуации, даже если оно, творчество, рутинно.
Страх смерти, позора, бесчестия, муки совести – всё это генерирует поток рефлексии, выталкивает нас и наше сознание из самих себя – чтобы защитить. Конечно, есть и другое спасение – в вере, которую можно рассматривать как протезированное сознание с протезированной рефлексией.
Рефлексивная работа сознания – поиски убежища себя в самом себе, потому что у человека нет более надёжной защиты от внешнего мира и самого себя, чем он сам.
Мышление стало формироваться по мере перехода от трансляционной (сигнальной) речи к коммуникации и вслед за пониманием, и это породило иную рефлексию: «мышление по поводу мышления». Все научные исследования Лефевра по рефлексии – вторичная, мыслительная рефлексия рефлексивного сознания. В мыслительной рефлексии субъект-субъектная коммуникация предполагает независимость и равнозначность обоих субъектов, а не надстроенность одного над другим, как это происходит в рефлексии сознания.
Как и в рефлексии сознания, так и в мыслительной рефлексии возможны в принципе бесконечные надстройки и отражения, что очень напоминает отражения в зеркалах, расположенных друг против друга. Принципиально же возникновение мыслительной рефлексии над рефлексией сознания (сколько бы рефлексивных уровней ни имели бы обе), а также формирование ещё одного слоя: рефлексия сознания над мыслительной рефлексией: именно здесь и происходит рефлексивное управление.
Итак, можно выделить три принципиально различных слоя рефлексии:
– наиболее потаённая и интимная рефлексия сознания, alter ego, «внутренний голос», даймон Сократа, описанный Платоном, вступающий «в действие», а точнее – в коммуникацию с субъектом сознания только в витальных ситуациях
– мыслительная рефлексия, охватывающая и рефлексию как мышление над мышлением и рефлексию сознания, а потому представленная двояко – субъектом-иерархом субъекта сознания (alter ego) и внешним коммуникантом (потенциально либо актуально)
– рефлексивное управление, где независимые и самостоятельные субъекты сознания и мышления присутствуют с необходимостью.
Вся эта, достаточно сложная сознательно-мыслительная конструкция не случайна – именно она обеспечивает существование индукционного контура Навигатор (термин Лефевра [1]) – навигатум (наша инновация [2]), в котором, при всех функциональных и онтологических различиях, совершенстве одного и несовершенстве другого, между Навигатором и навигатумом осуществляется единый и взаимообуславливающий процесс коммуникативного диалога между Космическим Разумом и человеком.
Так, на наш взгляд, объясняется, природа рефлексии, мышления, сознания и ведущей компоненты сознания – совести.
Сравним эти три понятия в базовых европейских языках:

Само мышление в понятие сознания и совести не входит, но без совести и сознания невозможно. Мышление, в отличие от совести и сознания, креативно. Мы только в мышлении – со-творцы. Мы только в мышлении составляем индукционный контур, порождающий новые сущности, именно для этого мы и нужны, и существуем, пока можем творить или пока не создадим Навигатору замену себе, после чего можно спокойно раствориться и исчезнуть.
Да, мышление не оперирует и не выбирает между Добром и злом, да, мышлению не нужен нравственный императив, но для того, чтобы мышление не превратилось в своеволие или не стало орудием зла, нужна совесть, нужна непрерывная связь, довлеющая над нами и нам не подчиненная.
С практической точки зрения это значит: технически нельзя быть творческой личностью и мыслителем, если игнорируешь выбор между Добром и злом, если не подчиняешься нравственному императиву, если не слышишь и заглушаешь в себе голос совести. Нельзя технически и онтологически.
Литература
1. Лефевр В.А. Что такое одушевленность? – М.: «Когито-Центр», 2013. – 125 с.
2. Левинтов А.Е. Второе завещание. www.redshift.com/~alevintov, 2013.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе