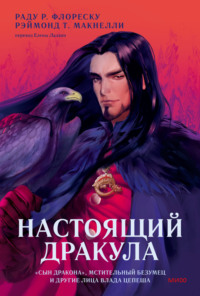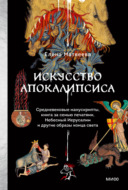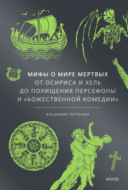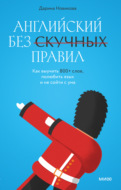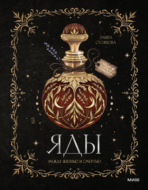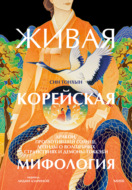Читать книгу: «Настоящий Дракула. «Сын дракона», мстительный безумец и другие лица Влада Цепеша», страница 3
Глава 1. Мир реального Дракулы
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ ТУРОК
Реальный Дракула, правивший на землях, которые составляют территорию современной Румынии, родился в 1431 г. – в год, когда Жанну д’Арк как ведьму сожгли на костре у позорного столба во французском городе Руане. А умер Дракула в 1476 г., за два года до того, как Испания объединилась в королевство под властью Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Личность Дракулы во многом была продуктом своего времени – Возрождения, переживаемого Европой и, в сущности, ставшего переходным периодом. Возрождение возвестило начало Нового времени, выведя на первый план идеи национальной государственности и светской модели государства (секуляризма), которые все еще во многом определяют облик нашей собственной эпохи, однако во времена Дракулы феодальные устои, а также всепроникающая власть Церкви еще не были до конца изжиты.
В тот период Европа от Атлантики до Черного и Балтийского морей в гораздо большей степени представляла собой пространство единой цивилизации, скрепленной прочными династическими и культурными узами, чем современный мир или даже современная Европа. Дракуле и его современникам показалось бы чуждым и странным само понятие разделения на Запад и Восток, которое сегодня так прочно обосновалось в университетских курсах по «западной цивилизации», а также в нашей привычке мыслить категориями разделенных «железным занавесом» западных демократий и социалистических стран Восточной Европы. Некоторые даже склонны сводить европейскую историю к противоборству сил Запада, унаследовавшего высокую культуру Античности, с азиатским деспотизмом. Такого рода конфликты с незапамятных времен вспыхивали на рубежах единой европейской цивилизации, вынужденной противостоять разрушительной чужеродной силе кочевых племен, являвшихся из глубин Азии. Во времена Дракулы самым главным и решающим для судеб Европы проявлением этого конфликта стало противоборство с Османской империей, которая в середине XIV в. предприняла первые попытки вторжения на европейскую землю.
Определение «Османская» происходит от имени Осман (или от искаженного варианта его имени – Оттоман), принадлежавшего первому правителю государства (основанного им в 1299 г.). Османы исповедовали фундаментальное учение ислама, воспринятое от покоренных ими тюркских племен Малой Азии. Наши представления о турках-османах, по всей видимости, во многом несут отпечаток их образа, сложившегося в XIX в., когда в попытках отсрочить симптомы неминуемого внутреннего распада своей империи османские султаны в массовом порядке вырезали покоренных ими греков, армян и болгар, – устремления этих народов создать собственные национальные государства подрывали устои Османской империи. Однако не следует распространять этот чересчур упрощенный негативный образ турок-османов на времена Дракулы без учета значимых особенностей, которые в XV в. характеризовали турецкое правление.
На самом деле все обстояло наоборот: два великих османских султана времен Дракулы, Мурад II (1421–1451), а еще больше Мехмед II (1451–1481), в компании с которым воспитывался наш юный князь, подобно своим предшественникам, были людьми просвещенными, светскими и образованными, покровительствовали итальянским живописцам и выбирали себе в жены дочерей балканских и византийских правителей. Кроме того, они показывали себя дальновидными политиками и преподавали Европе уроки религиозной терпимости, давая приют евреям и другим меньшинствам, которые в те времена жестоко преследовала Римско-католическая церковь.
Через разделяющий Европу и Азию пролив Дарданеллы турки впервые переправились в 1355 г. по призыву византийских императоров, которые рассчитывали с их помощью противостоять натиску балканских государств, и особенно сербских королей, давно точивших зубы на императорский титул. Для укрепления связей с турками владыки Византии отдавали своих дочерей в жены турецким султанам. Однако, ступив однажды на европейские земли, турки больше не собирались оставлять их. Сначала они обратили свое войско на Болгарию, в те времена самое могущественное балканское государство. В 1371 г. Болгария понесла частичное поражение. Большее сопротивление турки встретили со стороны Северной Сербии, но 15 июня 1389 г. сын султана Мурада I, Баязид Молниеносный, разбил войско сербского князя Лазаря в первой битве на Косовом поле (Поле черных дроздов). Решающее поражение сербов открыло туркам путь к еще не покоренным землям Болгарии, в Албанию и на значительную часть Балканского полуострова. Сербии осталась участь полузависимого государства под властью Георгия (Джураджа) Бранковича, носившего византийский титул деспот12. Сам Бранкович до поры до времени выживал с молчаливого согласия османов, потому что отдал свою дочь Мару в жены внуку Баязида, султану Мураду II. А для гарантии своей безопасности он передал свою столицу Белград в руки венграм.
На самом деле турки продвинули свои передовые рубежи до самого Дуная, до границы государства, которым в дальнейшем будет править Влад Дракула, а в то время эта граница обозначала передний край европейской цивилизации. Но хотя османы исповедовали ислам, они не принуждали покоренные ими балканские народы переходить в мусульманство. Их новоприобретенные подданные в большинстве своем сохраняли православную веру. Тем не менее балканские христиане, низведенные до положения людей второго сорта, при правлении султана, соединявшего в своих руках верховную государственную и религиозную власть, негодовали на господство чуждой им веры. И многих приводил в ярость введенный турками налог «кровью»: немусульманское население покоренных балканских стран обязали отдавать турецким вербовщикам самых крепких и здоровых мальчиков; их увозили на чужбину, отдавали на воспитание в турецкие семьи, где им насильно прививали ислам, и обучали военному делу, чтобы в будущем пополнять ими ряды султанского войска – корпус янычаров. Некоторые янычары служили в регулярных войсках пеших лучников: хотя номинально они оставались рабами, им давалась возможность полностью раскрыть свои природные дарования на гражданской или военной службе – и многие в итоге дослуживались до высокого звания визиря (премьер-министра) при дворе последующих султанов. Однако уплата этой дани отнимала у покоренных балканских стран самых физически и умственно одаренных мальчиков, лишала самого цвета юношества, тогда как османские завоеватели еще больше наращивали свое военное превосходство. Эта дань считалась одним из самых дьявольских и, вероятно, беспримерных инструментов покорения народов, какие только могло измыслить человечество.
Некоторые рассматривали конфронтацию Востока (турецкого) с Западом (христианским) как конфликт между двумя системами ценностей и двумя культурами, так же как сегодня воспринимается противостояние между коммунизмом и западной демократией. Но поскольку на приграничных территориях турецкие и христианские ценности переплетались так тесно, что становились практически неотделимы одни от других, нам разумнее всего считать, что во времена Дракулы этим противоборством двигало беспредельное честолюбие Мехмеда II, желавшего сравниться в своих завоеваниях с Александром Великим и готового ради господства над миром пробудить дух священной войны. Скорее всего, Дракула как современник Мехмеда, к тому же воспитанный теми же наставниками и в духе тех же ценностей, намного острее осознавал сокрушительную важность этой борьбы, нежели европейцы его времени. Не будь у государств Восточной и Центральной Европы, еще сохранявших независимость, твердой решимости поставить заслон захватническим амбициям султана, исламский мир, вполне вероятно, мог бы простираться теперь от Босфора до побережья Атлантики.
Именно при жизни Дракулы на Балканах зародилась идея Крестовых походов против османов: расположенные на окраинах Османской империи приграничные европейские государства желали во имя христианской веры бороться с исламским могуществом. Эта борьба за защиту Европы от ислама имела столь же важное значение, как и сопротивление испанцев завоеванию маврами в VIII в. Крестовые походы на Балканах во многих отношениях превосходили значением Крестовые походы XI–XII вв. в Святую землю для отвоевания Гроба Господня, поскольку теперь дело касалось судеб самой Европы.
У врат в Европу стражником стояла когда-то могущественная, а теперь истлевшая до мощей Византийская империя с ее гордой столицей Константинополем, возведенным императором Константином в 330 г. у пролива Босфор на месте греческого города-государства, называвшегося Византием. Хотя Византия считала себя продолжательницей имперского Рима и нередко именовалась Восточной Римской империей, языком общения она выбрала греческий. Византийская церковь в 1054 г. отделила себя от Рима, потому что Константинопольский патриарх не желал подчиняться епископу вечного, соперничавшего с блистательным Константинополем Рима, уже впавшего в разложение и варварство, – а теологические расхождения были измышлены позже, дабы оправдать раскол. Кичившийся своей тысячелетней историей, Константинополь претендовал также на культурное и политическое превосходство над средневековыми императорами-«выскочками» (чье скороспелое императорство началось в 800 г. с коронации Карла Великого папой Львом III) и их преемниками. В начале XV в. Византийская империя все еще сохраняла славу и огромный престиж, а Константинополь неудержимо притягивал к себе алчные взоры могущественных потенциальных завоевателей как с Востока, так и с Запада. Еще сильнее их аппетиты распалял тот факт, что город утратил репутацию непобедимой военной твердыни после того, как был завоеван в 1204 г. подстрекаемыми Венецией крестоносцами. Православные императоры Византии растратили всю свою силу на войны с римско-католическими крестоносцами и своими балканскими соперниками, в особенности болгарскими и сербскими правителями, которые настойчиво стремились заполучить императорскую корону. В год рождения Дракулы Константинополь и его европейская периферия еще существовали – империя походила на диковинную саламандру с непомерно огромной головой и узким растянутым телом, образованным Святой горой Афон, Морейским деспотатом со столицей в Мистре, Фессалониками и горсткой островов в Эгейском море.
Одним из самых трагических аспектов в стремительном нашествии османов на Европу было нежелание западных держав защищать передовые рубежи своей культуры в Восточной Европе. С точки зрения реалий XV в. особенно необъяснимо, почему западноевропейским государям отказали моральный дух и политическая воля: династии французских правителей уже с самого начала консолидировали польское и венгерское государства; Венеция, Пиза, Генуя и Испания господствовали в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море; а бесчисленные западные авантюристы занимали колонии, которые цепочкой протянулись вдоль оспариваемого восточного побережья и на островах близ берегов современных Югославии и Греции и тоже находились под турецкой угрозой.
Запад XV в. не отзывался на последующие призывы к Крестовым походам под благовидными предлогами, которые мало отличались от тех, что пробуждали столь глубокий эмоциональный отклик в век веры, во дни расцвета крестоносного движения. Вспомним, что французский король Карл VII – а Франция считалась «старшей дочерью католической церкви» и ее главной крестоносной силой – только-только вывел страну из самой разрушительной и долгой в ее истории Столетней войны. Карл VII и вскоре наследовавший ему Людовик XI (изощренным интриганством заработавший себе прозвище Вселенский Паук), имевший пристрастие развешивать молодых людей по ветвям деревьев и сажать в железные клетки своих противников во укрепление своей королевской власти, окончательно освободили страну от английских захватчиков. К тому же борьба с бургундскими герцогами за верховенство во Французском королевстве занимала их намного больше, чем война с турками. В сущности, преданность крестоносной традиции некоторое время сохраняли одни только бургундские герцоги, в чьих жилах текла кровь королевской династии Валуа, единственные, кто самостоятельно правил своими владениями на территории современной Франции. Благородным участием в Крестовом походе отца Дракулы в 1446 г. они отчасти искупили бездеятельность своих кузенов-королей в Париже.
Англию еще меньше, чем Францию, занимали мысли о противоборстве с мусульманами; славные традиции Ричарда Львиное Сердце оказались начисто позабыты. Зато страну раздирала отчаянная междоусобная война на выживание между союзами Алой и Белой роз (1455–1485, белая роза выступала эмблемой герцогов Йоркских, алая – Ланкастеров). Эта последняя в Англии феодальная война полыхала на протяжении почти всей жизни Дракулы. Единственные англичане, хоть как-то связанные с нашим повествованием, – это солдаты удачи, которые добровольно вербовались в крестоносные армии. (Один из таких ветеранов Крестовых походов, Джон Типтофт, граф Вустер (1427–1470), позже применил новый способ казни, подсмотренный им в Восточной Европе, и сажал на колья своих противников Ланкастеров. Впоследствии за свои преступления он был казнен.)
Средневековая Испания, если не брать немногие сохранявшие независимость королевства на севере полуострова, все еще изживала травму мусульманского завоевания, хотя арабы (мавры), в отличие от турок, обладали собственной высокоразвитой цивилизацией, отпечаток которой до сих пор хранит изысканная архитектура мечетей в Кордове, в те времена бывшей более передовым центром просвещения, чем Париж или Оксфорд, особенно в естественных науках и математике. Свободные пиренейские королевства постепенно отвоевывали у арабов испанские земли в ходе череды войн, Реконкисты, которая оставила глубокий отпечаток в душах людей, особенно в Кастилии: кастильцы были фанатичными католиками, нетерпимыми к чужой вере, готовыми на любые жертвы, чтобы защитить свою страну. Хотя, по сути, кастильцы были крестоносцами у себя дома и сумели сбросить иго мусульманства, борьба с турецким нашествием на Востоке их не слишком прельщала – немаловажную роль в этом, безусловно, играла географическая отдаленность Кастилии от Восточной Европы. Как и соседи-португальцы, которые под предводительством короля Генриха-Мореплавателя в поисках расширения своих владений обращали взоры за океан – совершали кругосветные плавания вокруг Африки, исследовали Дальний Восток, – Кастилия в правление королевы Изабеллы в конце концов тоже приобщилась к морским экспедициям с целью открыть и завоевать новый континент. Изабелле Кастильской выпало стать покровительницей Христофора Колумба, появившегося на свет лет за пять до того, как Дракула стал князем.




Среди королевств, которые в будущем станут единым государством на Пиренейском полуострове, на Восток смотрел один только Арагон. В частности, турецкая угроза всерьез тревожила каталонцев Барселоны, одного из самых важных портов Средиземноморья, поскольку опасность нависла над их старинными торговыми путями и планами экспансии на Восток. Еще задолго до времен Дракулы прославилась Каталонская компания Востока (Каталонская дружина) – вольное объединение военных наемников под предводительством Рожера де Флора, имевшее целью защищать византийских императоров от всех их врагов, хотя, по существу, каталонцы воевали за себя и за свои интересы. Арагон (в состав которого тогда входила Каталония) предполагал за счет балканских Крестовых походов установить торговые и политические контакты на побережье Эгейского, Адриатического и Черного морей. Показательным примером честолюбивых устремлений арагонского короля Альфонсо V служит решение его побочного сына Ферранте сделать столицей и центром своей власти Неаполь – ввиду его близости к восточному театру войны. Ферранте сохранял свою власть методом устрашения (террора): большинство политических противников он убивал, давал их телам мумифицироваться и выставлял в своем королевском музее, похваляясь этой жуткой коллекцией перед гостями.

Ксилография на фронтисписе издания Geschichte Dracole Waide («История Дракулы воеводы»), Нюрнберг, ок. 1488 г.; манускрипт начинался словами: «В год 1456-й от Рождества Господа нашего Дракула совершил многие ужасные и невообразимые уму дела…» Музей Фонда Розенбахов
Италия XV в. была главным средоточием и центром Возрождения. Но не только. Хотя Никколо Макиавелли родился лишь в 1469 г., цинично-безнравственные принципы, которые он изложит в трактате «Государь» (1517), вовсю практиковались и до того, как книга увидела свет. Конечно, в те времена среди бесконечно враждовавших республик и городов-государств Северной Италии почти не просматривалось признаков итальянского патриотизма и еще того меньше – крестоносного духа, хотя от Балкан Италию отделяет не более чем 30-мильная полоса пролива Отранто.
На севере Италии могущественных Медичи куда больше Крестовых походов прельщало обогащение за счет создания первого международного банка Европы, что, безусловно, указывает еще на одну черту сходства между той эпохой и нашей современностью. Огромные денежные ресурсы банка, имевшего многочисленные отделения в европейских столицах, позволяли Медичи финансировать торговлю, баловать себя невиданной роскошью, подкупать «кого следует» для обеспечения угодных им результатов политических и папских выборов, а также обзаводиться родственными связями с высшей аристократией и королевскими домами. Козимо Медичи, в определенном смысле основатель династии, выставлял себя покровителем классического Ренессанса. В дальнейшем его внук Лоренцо Великолепный добил последние крупицы конституционного правления на севере Италии. В других итальянских государствах политические стандарты пали ниже нижнего предела, поскольку средневековые коммуны сами рушили свои свободы тираноубийством. Этот период в Италии (и повсеместно) отмечен возвышением амбициозных и абсолютно беспринципных автократов, которых иногда называли condottieri, кондотьерами. В стремлении к политической власти они прислушивались только к голосу собственного честолюбия, не гнушались никакими средствами и ради дела истребляли своих противников целыми семьями.
Папство, управлявшее Римом и землями в срединной части Италийского полуострова, переживало трудности, которые сильно ослабляли его естественную роль во всяком Крестовом походе и сводили на нет былой престиж, завоеванный во времена, когда папы выступали вдохновителями крестоносного движения. В описываемые времена Церковь еще оправлялась от опаснейшего в своей истории кризиса, Великого раскола (1378–1417), когда папы в Риме и избранные им в пику в Авиньоне (и позже в Пизе) антипапы соперничали за верховную власть в католическом мире. После Базельского собора, который был созван в 1431 г. для разрешения конфликта, как раз в год рождения Дракулы, последовала еще более грозная напасть, когда император Священной Римской империи вознамерился заменить единоличную власть папы властью кардинальской коллегии. Противостоять этой куда более опасной угрозе помогали расторопные действия папы-венецианца Евгения IV и его легата, искусного в дипломатии кардинала Джулиано Чезарини. Позже оба будут тесно связаны с балканским крестоносным движением 1440-х гг.
В сущности, бурная деятельность папы имела целью отвлечь внимание от разлада внутри католичества посредством преодоления схизмы (раскола) между восточным и западным христианством, разделявшей две Церкви с 1054 г. В сущности, воссоединение мыслилось как пролог к объединенному Крестовому походу обеих ветвей христианства против турок. И это историческое соглашение было достигнуто в 1439 г. на Флорентийском соборе, во всяком случае, на бумаге, чему поспособствовало присутствие константинопольского императора Иоанна VIII. Однако многие митрополиты из православной делегации, особенно русские и румынские, отказались ставить свои подписи под итоговым соглашением, Флорентийской унией. Преемник Евгения папа Николай V в итоге восстановил авторитет престола Святого Петра, заставив противоборствующих пап отречься от сана и тем устранив внутреннюю угрозу папству. Правда, он был куда менее успешен в претворении воссоединения двух Церквей на практике. Чем готовить Крестовый поход, этот блестящий знаток и ценитель искусства, превративший Рим в культурный центр Возрождения, предпочитал коллекционировать рукописи классических сочинений Древней Греции и Рима, основал Ватиканскую библиотеку, покровительствовал вольнодумцам, высказывавшим опасные антиклерикальные идеи, в частности гуманисту Лоренцо Валла13, перестроил собор Святого Петра в стиле романской базилики. Николай V желал всеобщего мира и не очень встревожился, даже когда над Константинополем нависла смертельная османская угроза. Это при его понтификате город был осажден, а затем взят турками. Однако чувство вины за малую поддержку христианского Константинополя в конечном счете укоротило ему жизнь.
С годами правления Дракулы по времени больше всего совпадает понтификат Энеа Сильвио Пикколомини, в папстве взявшего себе имя Пий II (1458–1464). Вольнодумец, поклонник гуманистических идей, не лишенный литературного таланта, он принял священнический сан только в 1446 г., будучи уже 40-летним. Как просвещенный деятель своего времени, он ясно осознавал угрозу османской экспансии. С 1459 г. Пий II много раз призывал христианские державы объединиться для общего Крестового похода против турок, предпринимал активные усилия для его подготовки и собирал средства на это благое предприятие. И безусловно, как убежденный носитель идей «европеизма», папа видел в османах угрозу не только для Восточной Европы, но и для самого христианства. Дракула стал единственным, кто откликнулся на его призыв.
Венецианская республика взирала на Балканы с берегов лагуны своего имени в Адриатическом море, ее главный торговый соперник Генуя располагалась в одноименном средиземноморском заливе. У Генуэзской республики имелись колонии на побережье Черного моря и в Крыму, под ее же властью находился и пригород Константинополя Пера (на северном берегу бухты Золотой Рог). Ввиду противодействия других итальянских государств Венеция не видела иного выхода, кроме территориальных захватов на Востоке, что позволило бы ей осуществить коммерческую экспансию в Левант. Венеция по праву считала себя балканской державой, поскольку уже прибрала к рукам ряд городов вдоль Адриатического побережья, и главной жемчужиной в этом «ожерелье» была раскинувшаяся на обрывистом морском берегу Рагуза (ныне хорватский курорт Дубровник. – Прим. перев.). Притом что венецианский флот абсолютно господствовал в Восточном Средиземноморье, Венеция также завладела – покупкой или иными способами – рядом колоний на оконечности Балканского полуострова, включая Афины, Салоники, а также многочисленные острова в Эгейском море. По факту Венеция сосредоточила в своих руках контроль над наибольшей частью южной и западной оконечностей Балканского полуострова, а стараниями ее купцов венецианский дукат имел хождение по всем Балканам как законное платежное средство. Тем не менее правивший республикой сенат не желал бросить туркам вызов и удерживал республику от военного конфликта с ними дипломатическими ухищрениями. Но когда угроза турецкой экспансии нависла над опорными базами венецианцев на побережье, кое-кто из дипломатов республики проявил интерес к Дракуле с его решимостью противостоять туркам, хотя Венеция присоединилась к Крестовому походу только в 1464 г., когда стало уже слишком поздно спасать господаря.
Более непосредственную угрозу турки представляли для Священной Римской империи, однако и это государство, и другие, еще сохранявшие независимость в Северной, Центральной и Восточной Европе, за очень редким исключением оказались не более Венеции готовы противостоять османам. Относительное политическое безразличие перед лицом турецкой угрозы на северо-востоке Европы хорошо иллюстрирует пример государя Московии, географически отдаленной от владений Дракулы, Ивана III (Великого) – он время от времени отправлял свои торговые суда в турецкие воды и покровительствовал живописцам и зодчим Возрождения, которые по его поручениям возвели множество великолепных зданий московского Кремля. Когда Иван III в конце концов отправил дипломатическое посольство ко двору венгерского короля Матьяша, им двигали никак не крестоносные намерения, а лишь желание глубже изучить западный мир. Главой посольской миссии назначили дьяка Фёдора Курицына, и под конец своей дипломатической службы он составил весьма примечательный политический трактат о жизни Дракулы.
Это бессилие воли и духа с особенной очевидностью проявлялось в германских государствах – в Священной Римской империи, над которой нависала куда более реальная угроза турецкого завоевания, чем над Великим княжеством Московским на дальних восточных окраинах Европы. Во времена Дракулы Священная Римская империя, если сложить все входившие в ее состав епископства, вольные города, а также малые и большие княжества, насчитывала более трех сотен «германских образований», населенных людьми самой разнообразной этнической и языковой принадлежности. Этому аморфному разноязычному государству (которое, по словам Вольтера, не было «ни священным, ни римским» и явно носило исключительно германский характер) единственным общим знаменателем служили император да ослабевающее влияние католической церкви. В отличие от других государств Западной Европы, неукоснительно державшихся права первородства в наследовании власти, императоров Священной Римской империи избирал совет, куда входили трое архиепископов и четверо курфюрстов – наиболее влиятельных князей. Совет стремился подбирать слабых кандидатов по тому принципу, что они едва ли станут вмешиваться во внутренние дела феодальных княжеств. Исключением стало избрание императором Сигизмунда, сына императора Карла IV Люксембургского: коронованному германским императором в 1411 г. Сигизмунду суждено было предпринять по крайней мере одну решительную попытку Крестового похода. Причина могла состоять в том, что еще в 1387 г., задолго до избрания, он уже вступил на королевской трон Венгрии (а Венгрия считалась могущественной восточноевропейской державой), взяв в жены Марию, дочь последнего короля Венгрии и Польши французского происхождения Лайоша (Людовика) I Великого. Этот брак связал Венгрию и Священную Римскую империю династическими узами, сохранявшимися ни много ни мало до конца Первой мировой войны. Кроме того, после смерти своего сводного брата Вацлава (Венцеля) Сигизмунд в 1419 г. стал также королем Богемии (Чехии).
После кончины Сигизмунда в 1437 г. три его королевства в конечном счете перешли к Альберту Габсбургу (на нем. лад – Альбрехту), правителю крошечного австрийского герцогства, женившемуся на дочери Сигизмунда Елизавете Люксембургской. Никогда не избиравшийся императором Альберт II правил этими королевствами всего два года. Австрию, Богемию и Венгрию унаследовал его сын Ладислас, родившийся уже после смерти отца, из-за чего получил прозвище Постум (Посмертный), однако фактическое правление он мог начать только по достижении совершеннолетия. Вена, где заседало правительство Ладисласа, как и Буда, стояла на берегу Дуная, что делало город уязвимым для турецких атак. Когда Альберта не стало, роль реального вершителя судеб Восточной Европы, а также предводителя крестоносного движения против османов перешла к Яношу Хуньяди, регенту венгерского королевства и генерал-губернатору (воеводе) Трансильвании. Одно время он также выступал наставником Дракулы в политических делах и военном искусстве.
Далее титул императора получил Фридрих III Габсбург (1440–1493), последний из императоров Священной Римской империи, которые короновались в Риме (в 1452 г., хотя на тот момент он уже со времени смерти Альберта был королем Германии под именем Фридрих IV). Идеи Крестового похода Фридриха мало интересовали. Гораздо больше его заботило, как поддерживать иллюзию, что он, будучи герцогом Австрии, имеет больше законных прав на венгерский престол, чем сын и преемник Яноша Хуньяди Матьяш, на том основании, что корона Иштвана I Святого, единственная регалия, которая придавала законность королевской власти над Венгрией, надежно припрятана в тайнике его дворца в Винер-Нойштадте. (Символическая священная корона, увенчанная тяжелым золотым крестом и усыпанная драгоценными каменьями, была получена в 1000 г. первым королем Венгрии Иштваном из рук римского папы Сильвестра II в знак присоединения Венгрии к христианской семье европейских государств ввиду принятия Иштваном католической веры.) Длинные зимние вечера при довольно малолюдном дворе в Винер-Нойштадте Фридриху скрашивали музыкально-поэтические представления некоего германца Михаэля Бехайма, мейстерзингера, а прежде солдата удачи, который сочинил ту знаменитую поэму о Дракуле.
Польша к тому моменту была самой могущественной державой Восточной Европы. Она вошла в силу в 1384 г., когда вторая дочь Лайоша I Великого Ядвига (чья старшая сестрица Мария была первой супругой императора Сигизмунда) еще десяти годов от роду была выдана замуж за великого князя Литовского, язычника Ягайло, с условием, что тот обратится в католичество. Так он и сделал, нарекшись христианским именем Ладислас II. Этот брак способствовал образованию широкой конфедерации государств, которая протянулась от берегов Балтики через Украину до Черного моря и зиждилась на крепкой католической вере населения, на отваге королей и рыцарских доблестях знати. Сын Ягайло Ладислас III стал духовным вождем двух Крестовых походов и принял смерть, как пристало рыцарю, на поле брани, когда бился с турками бок о бок со старшим братом Дракулы. Его преемник Казимир IV (1447–1492) традицию не поддержал, в том числе по причине опасений прогерманского мятежа на Балтике, угрозы набегов крымских татар на Украину, а также амбиций великого князя Московского Ивана III.
Таким образом, куда ни глянь, в том раздираемом распрями и междоусобицами мире, правители которого больше всего стремились стяжать политическую власть и материальные богатства, а также покончить с последними отголосками монополии, когда-то навязанной им Римско-католической церковью, лишь очень немногие государства обладали истинной решимостью заново возжечь крестоносный дух. Государство Дракулы как раз и представляло собой одно из этих редких исключений.
ПЕРЕХОДНАЯ ЭПОХА
Хотя Италия, безусловно, выступала наставником и пропагандистом идей классицизма, гуманизма и научного изобретательства, было бы ошибкой считать, что все эти веяния не распространились по континенту до дальних восточных окраин европейской цивилизации. В стенах основанного в 1364 г. Краковского университета математик Николай Коперник уже подступал к открытию новых гелиоцентрических представлений о строении Вселенной и попутно продвигал далеко вперед астрономическую науку. В Пражском университете, основанном отцом императора Сигизмунда Карлом IV в 1348 г., дух Возрождения повернул в философско-теологическое русло; в качестве языков преподавания мирно уживались немецкий и чешский – в признание принципа мирного сожительства народов. Летний дворец короля Матьяша в Вишеграде, где Дракула много лет провел в домашнем заточении, был почти до основания перестроен итальянскими зодчими и мастеровыми. Именно в этом летнем дворце придворный художник написал портрет Дракулы, впервые запечатлев масляными красками облик будущего правителя румынских земель.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе