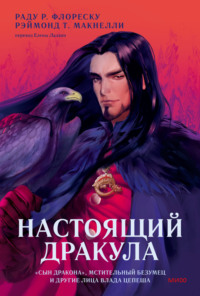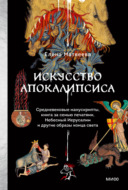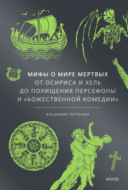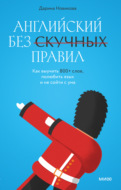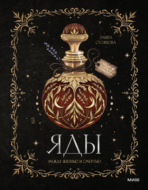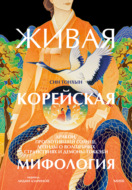Читать книгу: «Настоящий Дракула. «Сын дракона», мстительный безумец и другие лица Влада Цепеша», страница 6
Понятно, что с того момента, как он ступил на землю Трансильвании, Влад видел главной целью вернуть себе трон, на который, как он считал, он имеет все законные права и который обещал ему император Сигизмунд в награду за принесенную Владом присягу на вассальную верность. А император, которого больше всего тревожили беспрестанные военные столкновения с гуситами в Богемии, продолжал, несмотря на частые набеги турок через границу, поддерживать валашского господаря Александра Алдю. С сигишоарской колокольни Влада император определенно не держал своего обещания. Только в 1434 г. Сигизмунд, чью чашу терпения переполнили слишком тесные связи господаря Алди с турками, вняв совету Великого магистра Тевтонского ордена Редвица, велел Владу закупить у трансильванских городов потребное ему оружие, собрать войско из ссыльных бояр с их присными, румынских рекрутов из отданных под его власть герцогств и навербовать сколько сможет наемных солдат. Покупая вооружение для своей армии, Дракул прекрасно понимал значение пушек как передвижного ударного орудия. Одна пушка с выгравированным на ней именем мастер Леонардус представляла такую огромную ценность, что Дракул пожаловал отлившему ее мастеру бронзовую купель, которую до сих пор можно увидеть в евангелическом соборе Святой Марии города Сибиу.
Как только Дракул прознал, что его сводный брат Александр Алдя лежит на смертном одре, он сейчас же выступил на Валахию. В ходе сражений он сумел отбросить к берегам Дуная нескольких турецких беев, которые поддерживали уже пропащее дело Алди. Наконец в декабре 1436 г. Влад вступил в княжескую столицу Тырговиште. Таким образом зимой 1436–1437 гг. Дракул наконец осуществил свою мечту, еще в 1431 г. узаконенную императором Сигизмундом через коронацию: теперь Дракул стал фактическим правителем, господарем Валахии, и расположился в княжеском дворце. Позже к нему присоединились его молдавская супруга и трое сыновей – Мирча, Дракула и Раду.
При валашском дворе подрастающего Влада Дракулу ожидала совершенно иная жизнь, чем в захолустной Сигишоаре, где ему хотя бы иногда позволялись вольности и развлечения. Теперь его обучали совсем иначе, чем прежде, и это новое обучение продлилось шесть лет. Судя по всему, в этот период, всего-то от пяти до одиннадцати лет, произошло становление его личности. И формальное образование, и превратности политических событий сыграли определяющую роль в формировании неоднозначной личности Дракулы. В Тырговиште его начали обучать основам рыцарства и рыцарской культуры по западному образцу. Его учили плавать, владеть оружием, обучали приемам пешего и конного боя, стрельбе из лука, придворному этикету, а также тонкостям искусства верховой езды, которую он в детстве едва освоил, но в которой теперь достиг поразительных успехов.
Нам мало что известно о том, как и с чего начиналось интеллектуальное развитие Дракулы. Первым наставником, нанятым его отцом, стал боярин преклонного возраста, высокообразованный человек и доблестный воин, участвовавший в Никопольской кампании на стороне христиан. Он преподавал юному Дракуле итальянский язык и, по всей вероятности, азы французского и венгерского языков, а также давал ему начатки знаний по гуманитарным предметам и по мировой истории. Монастырские писцы обучали его письму кириллицей и на церковнославянском языке, на котором велась княжеская канцелярия, а также языку дипломатической переписки – латинскому. Почти не вызывает сомнений, что Дракуле преподавали и новый предмет, вскоре ставший непременной составляющей в программе обучения княжеских детей, – политическую науку, в частности теорию о божественном праве королей20 и основы политики raison d’état, национальных интересов, т. е. объективно значимых целей и задач национального государства как единого целого. И первое, и второе в последующем нашли отражение в «Поучении Нягое I Басараба», трактате, вобравшем в себя политические премудрости, накопленные в Валахии за период правления этого выдающегося валашского господаря с 1512 по 1521 г., уже позже времен Дракулы; вместе с тем трактат в точности передает доктрину управления государством, преобладавшую в Валахии в XV в. По большому счету изложенные в «Поучениях» принципы мало отличаются от тех, что Макиавелли высказал в своем трактате «Государь», написанном в 1517 г. Так, некоторые сентенции Макиавелли, в частности что для государя лучше, чтобы его боялись, чем чтобы любили, очень точно отражают будущую политическую философию Дракулы, и можно предположить, что эти представления были привиты ему как раз в период обучения в Тырговиште.
Несомненно, помимо формального образования, глубокий отпечаток на личность Дракулы наложили неопределенность и переменчивая удача политической карьеры его отца. Когда в 1436 г. Влад Дракул окончательно утвердился на валашском престоле, безошибочное политическое чутье подсказало ему, что хрупкий баланс власти стремительно смещается в пользу амбициозного турецкого султана Мурада II. Тот уже подчинил себе Сербию и Болгарию и теперь замышлял нанести последний удар по остаткам независимости Византии. Это и подвигло Влада Дракула вскоре после смерти его суверена Сигизмунда в 1437 г. заключить союз с османами. Мурад II с великой помпой принял в Брусе (или Прусса (греч.), ныне Бурса) Влада Дракула с делегацией из трехсот бояр, а валашский господарь официально принес султану вассальную присягу и уплатил десять тысяч дукатов, что составляло ежегодную дань, которую Валахия выплачивала османам еще со времен господаря Мирчи (неважно, состояла страна в союзе с султаном или нет).
В 1438 г., через год после крупного восстания трансильванских крестьян, Дракул сопровождал Мурада II в одном из его частых набегов на Трансильванию, во время которых турки проливали реки крови, грабили и предавали огню города и сёла. Советы оказавшихся под угрозой городов по-прежнему верили, что Дракул обойдется с ними милостивее турок: как-никак он был христианином и почти соотечественником. Вот почему глава Себеша пожелал сдать город именно Дракулу при условии, что горожанам сохранят жизнь и ни одного из них не возьмут в турецкое рабство. Сам Дракул, связанный клятвой ордена дракона защищать христиан от язычников, по крайней мере в этот раз сдержал ее, избавив город от полного уничтожения. В целом за этот конкретный набег на Трансильванию турки захватили 70 000 пленников и награбили богатую добычу. Эти подробности известны нам от самого участника событий – некоего студента из Себеша, именовавшего себя братом Джордже, который с беспримерным мужеством отчаяния бился с турками в Портновской башне Себешской крепости и был взят в плен. Башня, переименованная в его честь в Башню студента, стоит и по сей день. За долгие годы турецкого плена брат Джордже написал на немецком и латинском языках мемуары где великолепно описал нравы и обычаи турок в XV в.
В начале 1440-х гг. Влад Дракул изменил своей протурецкой политике, и объяснить этот поворот возможно, только имея хотя бы беглое представление об общем положении дел на юго-востоке Европы. Один фактор не вызывает сомнений: наведя относительный порядок в делах Римско-католической церкви, папа Евгений IV приложил все силы и старания для ее воссоединения с Восточной православной церковью на Флорентийском соборе, что и произошло 4 июля 1439 г. в присутствии византийского императора Иоанна VIII. Таким образом, создалась важная предпосылка для Западного крестового похода в защиту Константинополя. Возник еще один важный фактор: в Европе появился один из самых выдающихся правителей и военачальников периода, предшествовавшего правлению Влада Дракулы. То был Янош Хуньяди, чьи жизнь и политическая судьба тесно переплетутся с жизнью и политикой как Дракула-отца, так и Дракулы-сына. Блестящей карьере Яноша Хуньяди, которого Румыния и Венгрия провозглашали национальным героем, нисколько не препятствовали его простонародные румынские корни.
Портрет Яноша Хуньяди показывает нам мужчину среднего роста с пропорциональным сложением, золотисто-каштановой шевелюрой, бычьей шеей и красноватым лицом, на котором выделялись пронзительные карие глаза и высокий лоб. При очень скудном формальном образовании Хуньяди бегло говорил по-венгерски и по-румынски, знал сербский, хорватский и итальянский языки и немного изъяснялся на турецком. Дамы находили его не иначе как премилым благодаря его несравненному мужскому обаянию и мастерству танцора. Между тем главным, что им двигало в жизни, было честолюбие, и для достижения своих амбициозных замыслов он готов был воспользоваться любыми средствами. Добившийся всего в жизни своими силами, не чуждый авантюризма, искушенный делец и в некотором смысле банкир, Янош Хуньяди сколотил огромное состояние и под процент ссужал деньгами императора Священной Римской империи.
Хуньяди можно назвать кондотьером в классическим смысле, хотя и с одной существенной особенностью: он искренне верил в идеал крестоносного движения и желал направить его на Балканы, чтобы раз и навсегда изгнать из Европы турок и отвести угрозу от Константинополя. В этом смысле Хуньяди являл пример достойного европейца, а своим «отечеством» он считал христианство. Но даже при этом высоком идеале Хуньяди всеми силами и помыслами стремился к своей наивысшей и главнейшей цели – добиться политической власти, богатство волновало его куда меньше. В борьбе за власть ему были хороши все средства: деньги, титулы и, вероятно, даже Крестовый поход. Хуньяди желал добиться власти над Центральной и Восточной Европой для себя и своих сыновей от супруги Эржебет Силадьи, происходившей из не очень родовитой венгерской знати Трансильвании. Несмотря на выкрутасы политической и военной удачи, Яношу Хуньяди в конце концов удалось стать регентом венгерского королевства и губернатором Трансильвании, а своего сына Матьяша, рожденного в 1439 г., он воспитал в духе, позволившем тому стать одним из великих венгерских королей и проводником культуры Ренессанса за пределами Италии. (Матьяш добавил к своему имени эпитет Корвин по названию фамильного имения, напоминающего о черной птице – corvus, что переводится как «ворон», – которая, согласно легендам, однажды спасла его от смерти. Так что эта черная птица стала центральным элементом фамильного герба новой династии.)
Возвращаясь немного назад, отметим, что еще император Сигизмунд с его острым чутьем на таланты разглядел в молодом Хуньяди мужество и задатки полководца, почему и назначил его пажом при своем дворе. И именно в Нюрнберге на церемонии посвящения в орден дракона впервые пересеклись пути Яноша Хуньяди и будущего господаря Валахии Влада Дракула, хотя тесных отношений между этими двоими никогда не было. Хуньяди недолго пробыл в пажах при нюрнбергском дворе, поскольку император отправил его обучаться передовым приемам ведения войны к непревзойденному знатоку военного искусства, кондотьеру на службе у миланского герцога Филиппо Мария Висконти, который в то время вел военную кампанию против венецианцев. Кроме того, Хуньяди тщательно изучил изобретенные богемскими гуситами тактики – те применяли боевые возы с установленными на них орудиями (вагенбурги) как наступательное оружие, сравнимое по действенности с современными танками, а в обороне сцепленные вместе вагенбурги противостояли атакам противника не хуже крепостных стен.
После смерти императора Сигизмунда в 1437 г. Хуньяди счел целесообразным присягнуть на верность его преемнику, эрцгерцогу Австрии Габсбургу, который короновался как Альберт II. В преемники Сигизмунду Альберт был избран как супруг честолюбивой дочери Сигизмунда Елизаветы Люксембургской. Таким образом, Альберт стал следующим королем Венгрии и, согласно традиции, был коронован короной Иштвана I Святого в старинном соборе города Секешфехервар (Альба Регия, в пер. с венг. – Престольный белый град). Малоопытный, но благородный духом Альберт получил в свои руки королевство, пребывавшее в тяжелом положении: в Трансильвании бурлил крестьянский бунт, гуситское восстание в Богемии ослабляло силы королевства, к тому же нового короля не жаловали венгерские магнаты, никогда не питавшие особых симпатий к Габсбургам. Несмотря на все эти неприятности, Альберт рассудил, что первостепенного внимания заслуживает угроза турецких набегов на Трансильванию (вроде того, в котором поучаствовал Влад Дракул), угрожавшие обеим столицам Альберта – и Буде, и Вене. Вот почему Альберт поручил Яношу Хуньяди, теперь уже наместнику и генерал-губернатору Трансильвании, защиту южных пределов венгерского королевства. Это, поначалу довольно скромное, назначение честолюбивый трансильванский воевода в последующие годы успешно обернул в свою пользу и даже удостоился прозвания Белый рыцарь валахов. Янош Хуньяди действовал по принципу (которым позже руководствовался Наполеон) «лучший способ защиты – нападение». С тех времен и до смерти, последовавшей в 1456 г. от чумы, Янош Хуньяди отвечал за подготовку не менее четырех крупных международных Крестовых походов – в попытке навсегда изгнать турок с балканских земель, превращенных ими в свои провинции, и ослабить давление на Константинополь.
Султан Мурад II, чьи лазутчики аккуратно доносили ему обо всем происходившем при венгерском дворе, в том числе о назначении Яноша Хуньяди в Трансильванию, решил упредить планы Венгрии и ударил первым. Он напал на Смедерево, последнюю сохранявшую свободу сербскую крепость за пределами Белграда, которую оборонял сербский деспот Джурадж Бранкович и его сыновья Григор и Стефан. Несмотря на героическое сопротивление защитников Смедерева, 27 августа 1439 г. крепость была захвачена турками. Сыновей Джураджа Бранковича Григора и Стефана султан взял в заложники, невзирая на то, что сам был женат на его дочери Маре. Сам Бранкович сумел скрыться через венгерскую границу и решил отдать венгерской короне свою столицу Белград, занимавшую господствующее положение на юго-восточном фланге венгерского королевства у слияния Дуная и Савы. Но еще до этого дара Бранковича королю Альберту II практически не оставалось иного выхода, кроме как объявить Крестовый поход против османов. К несчастью, прежде чем ему удалось собрать армию, Альберт подхватил дизентерию и 27 октября 1439 г. скончался в Вене среди уже собранных отрядов своего войска.
Теперь вопрос преемника на венгерском троне зависел от того, что предпримут две могущественные дамы. Одной из них была вдова Альберта, дочь Сигизмунда I Елизавета (Эржебет) Люксембургская, по материнской линии принадлежавшая к роду графов Цилли, одному из влиятельнейших феодальных кланов Германии. Отдалившаяся в последние годы от Альберта, который попытался лишить ее права наследования престола, Елизавета, с ее властолюбием и честолюбивыми помыслами самой сделаться правительницей, недолго оплакивала усопшего супруга. Она попыталась утвердить притязания на власть, опираясь на поддержку своей матери Барбары Цилли, своего родственника Ульриха, главы клана Цилли и зятя Бранковича, а также новоизбранного императора Священной Римской империи Фридриха III, кузена Альберта по линии Габсбургов. На том основании, что на момент смерти супруга она была беременна наследником, Елизавета заявила, что желает сохранить трон за своим еще не рожденным ребенком. Правда, в Буде ходили слухи, что этот ребенок вовсе не Альберта, а плод незаконной любовной связи с одним венгерским магнатом. «Чудотворное дитя» появилось на свет 22 февраля 1440 г., и, как мы уже знаем, в придачу к нареченному имени Ладислас младенец сразу же получил прозвание Постум, что означает Посмертный. Стараясь узаконить претензии сына на наследование венгерского престола, изощренная интриганка Елизавета тайно отправила свою доверенную фрейлину Хелену Коттанерин выкрасть хранившуюся в Вишеградской крепости корону Иштвана Святого и устроила так, чтобы по традициям венгерской земли ее сына-младенца в Секешфехерваре короновал этой короной архиепископ-примас Венгрии Денеш Сечи. Дабы обезопасить юного короля, Елизавета выбрала ему в опекуны его дядю Фридриха III, в наставники – Энеа Сильвио Пикколомини (который в будущем станет папой Пием II), а сформировать свою личную охрану поручила наемнику Яну Искре из Брандиса, в прошлом предводителю войска словацких гуситов.

Ладислас V, по прозванию Постум, король Венгрии (1444–1457). Портрет неизвестного мастера-современника австрийской школы. Музей истории искусств, Вена
Хитроумный маневр Елизаветы едва ли отвечал интересам Яноша Хуньяди, великого Белого рыцаря, прозорливо предвидевшего, что для Венгрии все это обернется периодом слабости и неустойчивости. Поэтому, как и большинство венгерских магнатов, Хуньяди поддержал другого претендента на венгерский трон, молодого польского короля, романтика и рыцаря Ладисласа III21, сына великого Ягайло. Елизавета не имела достаточной власти, чтобы противостоять Хуньяди и венгерским магнатам, и в итоге стороны достигли компромисса: Елизавета признает венгерским королем короля Польши Ладисласа III на время жизни последнего, а взамен ее сын Ладислас Постум получает право наследовать престол Венгрии, если польский Ладислас не оставит потомков. В достаточно скором времени споры о наследовании венгерского престола сами собой разрешились ввиду героической смерти Ладисласа III, в 1444 г. павшего на поле брани в битве при болгарской Варне, и в итоге венгерский трон отошел Ладисласу Постуму.
Утвердив порядок в венгерских делах, в 1441 г. Янош Хуньяди, воевода Трансильвании по поручению новоизбранного на венгерский престол короля Польши, прибыл в Тырговиште к Владу Дракулу с требованием возобновить Крестовый поход против турок, которого валахи избегали все недолгое правление венгерского короля Альберта. Положение дел – неотступное военное давление турок, угрожающе нависавших над Белградом (теперь уже венгерской крепостью), и междоусобицы в самой Венгрии – категорически требовало заручиться верностью Валахии. Кроме того, венгры рассчитывали, что, будучи рыцарем ордена дракона, Дракул не рискнет отступиться от своих клятв на верность христианскому делу. С другой стороны, будучи трезвым реалистом, Дракул слишком хорошо понимал, особенно после падения Смедерева, что благодаря завоеванным позициям османы обладают подавляющим военным превосходством: действительно, уже к 1442 г. турки господствовали на всем течении Дуная, турецкие гарнизоны занимали на валашском берегу такие важные крепости, как Джурджу и Турну. Помимо этой неумолимой логики, на решениях Дракула не могли не сказываться предательские закулисные игры самого Хуньяди – наряду с призывами к Дракулу оказать поддержку Крестовому походу тот продолжал втайне расточать заверения в своей поддержке сыну Дана II Басараба, который обосновался в Трансильвании и оттуда соперничал с Дракулом за валашский престол. По всей видимости, это последнее соображение сыграло решающую роль в решении Дракула по крайней мере на время сохранить нейтралитет между Османской Портой и Венгрией. В марте 1442 г. в Валахию вторглись турецкие силы под командованием бейлербея Румелии Шехабеддина-паши22, но Дракул по-прежнему сохранял нейтралитет и дал туркам беспрепятственно пройти через свою территорию в Трансильванию. Однако воинство Шехабеддина-паши потерпело сокрушительное поражение от войска Яноша Хуньяди и потеряло убитыми нескольких беев.
Некоторая половинчатость в соблюдении Дракулом вассальной клятвы султану посеяла семена подозрений в душе Мурада, человека чести, верившего в нерушимость скрепленных договором обязательств. Сомнения Мурада в верности Дракула усугубил, если верить турецкому историку Мехмеду Нешри, санджак-бей Софии. «Милостивый господин мой, уж поверь мне, – говорил он Мураду, – ни Янош Хуньяди, ни этот Георгий Бранкович [теоретически вассал султана] не верны тебе. Точно так же не верь, будто Влад Дракул истинный друг тебе, – он ненадежен». На что султан с искренней простотой ответил: «Весной я приглашу обоих ко двору». Осторожный Бранкович, давно подозревавший турок в лицемерии, почел за лучшее не рисковать и остался в Белграде. А более доверчивый Дракул, прихватив двоих младших сыновей Дракулу и Раду, отправился на Галлиполийский полуостров, чтобы предстать пред очи султана. Едва они достигли городских ворот города Гелиболу23, турецкая стража схватила Дракула и заковала в кандалы. Его юных сыновей увезли в отдаленную горную крепость Эгригёз в Малой Азии. Самого Дракула сначала содержали в турецкой тюрьме на Галлиполи, а потом около года – в столице Османской империи Адрианополе (турки называли город Эдирне) на правах «гостя» султана. Тем временем Валахией в 1442–1443 гг. правил его старший сын Мирча, явно ходивший у отца в любимчиках. Отпустили Влада после принесенной и на Библии, и на Коране клятвы никогда больше не участвовать в предприятиях против своего турецкого сюзерена. И конечно, Дракул должен был выплатить султану ежегодную дань в 10 000 золотых дукатов, но к этой вассальной обязанности добавилась еще одна – каждый год отправлять султану пять сотен крепких здоровых мальчиков для пополнения султанского войска янычаров. По идее, учитывая не слишком благонадежную репутацию валашского вассала, можно понять желание турок получить вещественные гарантии, которые обяжут Дракула держать обещания, неоднократно нарушенные в прошлом. Для усиления гарантий будущей лояльности султану Дракул соглашается оставить у турок своих юных сыновей – 11- или 12-летнего Дракулу и Раду, который был не старше семи лет и росточком «с букет цветов». Следующие шесть лет подросток Влад Дракула прожил среди турок сиротой без отца и матери. Ему был непривычен язык его тюремщиков. Их религия казалась ему чуждой. И должно быть, он остро ощущал, что покинут, забыт и заброшен отцом и своей прочей родней.
Турецкие хронисты того времени сообщают нам, что по крайней мере первое время Дракулу и его брата Раду содержали как пленников в крепости Эгригёз (тур. Косой глаз) в районе Кютахья провинции Караман в Западной Анатолии. Один из соавторов побывал в городке Эгригёз, расположенном на высоте почти 900 м над уровнем моря. Городок живописно раскинулся на юго-восточном склоне высокого холма Коджиа (Kocia). Это край невысоких гор и холмов, одетых густыми дубовыми, сосновыми и буковыми лесами, чем-то напоминающий подкарпатскую область Валахии, где провели детство юные княжичи. Позже их перевели в Токат во внутренней Анатолии, а потом в столичный Адрианополь. Дракулу удерживали в Турции до 1448 г., Раду – до 1462 г.
После перевода в столицу княжичи вместе с другими заложниками сопровождали султанский двор в поездках в Бурсу и в летний дворец султана в Манисе. Безусловно, султан удерживал у себя заложников не только ради гарантии благонадежного поведения их отцов-правителей, но и для того, чтобы воздействовать на мировоззрение юношей, которые в дальнейшем могли бы занять родительские троны, прививать им лояльное, благожелательное отношение к Османской империи без того, чтобы принуждать их перейти в мусульманство. С молодыми заложниками предписывалось обходиться доброжелательно и любезно до тех пор, пока их родители соблюдали свои вассальные клятвы. Конец этим тепличным условиям приходил только в двух случаях: если родители заложников нарушали данные султану обещания или если сами заложники в своем поведении переходили все границы дозволенного. Показательно в этом смысле случившееся с двумя сыновьями правителя Сербии Бранковича: княжичей Стефана и Григора, которые воспользовались милосердными условиями содержания и вступили в изменническую переписку со своим отцом, 8 мая 1441 г. в наказание ослепили каленым железом, несмотря на горькие слезы и мольбы жены султана, их прелестной 22-летней сестры Мары.
Еще одним видным заложником при дворе Мурада II был сын албанского князя Георгий Кастриоти из Круи, известный также под именем Скандербег, будущий национальный герой Албании и вождь антиосманского сопротивления. Он был много старше остальных заложников и, успев прославиться военными подвигами, вызывал всеобщее восхищение, а балканские княжичи-заложники питали к нему великое почтение как к «дяде» и старейшине. Что любопытно, при султанском дворе в тех же условиях воспитывался еще один примечательный подросток, менее чем на год моложе Дракулы (поскольку родился 30 марта 1432 г.), – и был это не кто иной, как принц Мехмед, второй сын султана Мурада II и в будущем заклятый враг Влада Дракулы. В таком вот высокородном окружении росли Дракула и Раду, наставляемые лучшими умами в утонченных образовательных традициях Османской империи XV в. В штате наставников и педагогов состоял известный курдский философ Ахмед Гюрани, внушительного вида бородатый мужчина, которому султан даровал право сечь кнутом всякого нерадивого ученика, даже самого наследника престола. К числу других уважаемых известных учителей относились муллы Синан и Хамидуддин, а также Ияс Эфенди, в прошлом сербский военнопленный. Помимо заповедей Корана, аристотелевой логики, прикладной и теоретической математики, образование Дракулы довершилось в лучшей византийской традиции, перенятой турками. Его знание турецкого языка приближалось к совершенству – каковое обстоятельство в будущем еще не раз сослужит ему добрую службу.
Можно не сомневаться, что шестилетний турецкий плен, причем в возрасте, когда выковывается характер, сыграл в становлении личности Дракулы роль по крайней мере не менее важную, чем предыдущие годы при валашском дворе. И потому можно утверждать, что именно в этот османский период юности в характере Дракулы развились холодная бесчувственность и садистические наклонности. В целом учителям нелегко бывало сладить с этим худощавым, немного нескладным угрюмцем, к тому же подверженным приступам ярости, и, чтобы принудить его к послушанию, они частенько пускали в ход кнут и прочие виды наказаний. Как же отличался от него Раду, необычайно миловидный и чувственный, на расцветающую красоту которого засматривалась чуть не вся женская половина сераля. Различия в характерах, темпераментах и физических данных не могли не породить глубокую ненависть между братьями Владом и Раду, которую еще больше разжигала соответствующая разница в обхождении с ними при дворе.
Тем временем сгущавшиеся тучи нового военного противостояния между турками и христианскими крестоносцами обернулись тяжелыми временами для сыновей Дракула, и их будущее виделось все более зыбким. Воодушевленный победами, которые Хуньяди одержал в 1442 г. в Трансильвании, папа Евгений IV решил объявить долго откладывавшийся Крестовый поход. Его задачи состояли в том, чтобы освободить балканские народы от турецкого гнета, на деле подтвердить факт воссоединения Западной и Восточной христианских церквей, провозглашенного на Флорентийском соборе в 1439 г., а также восстановить престиж папства, которому все еще угрожали антипапы и концилиарное движение24 соборных отцов, желавших прервать абсолютизм папского правления Римской курией. Главным архитектором новой коалиции крестоносных сил выступил папский легат Джулиано Чезарини, хотя у него имелись могущественные союзники – папский легат в Венеции кардинал Гондольфьери и уже знакомый нам просвещенный гуманист из Сиены Энеа Сильвио де Пикколомини, еще не ставший папой Пием II. Призывы папы вкупе с энергичными усилиями кардинала Чезарини дали начало Крестовому походу 1443 г., который возглавляли Янош Хуньяди, сербский деспот Бранкович и сам кардинал Чезарини под общим командованием короля Польши и Венгрии Ладисласа III. Поход получил название «долгая кампания», потому что затянулся до самой зимы (в те времена войны обычно велись только в летний период).
Дракул, чьи двое сыновей оставались в заложниках у султана, осмелился выставить для крестоносного воинства лишь немногочисленный отряд под командованием старшего сына Мирчи.
Осенью 1443 г. крестоносная армия численностью 25 000 воинов, объединявшая под своими знаменами поляков, румын, сербов, германцев и австрийцев, выступила из Белграда и одержала блестящую победу над турками в битве при Нише (город в современной Сербии), потом освободила Софию и, казалось, вот-вот очистит от турок весь Балканский полуостров к неистовому ликованию местного болгарского населения. Как писал в своих мемуарах Энеа Сильвио де Пикколомини, в то время состоявший в секретарях у императора Священной Римской империи Фридриха III, он и сам питал радужные надежды, что грядет время, когда турки наконец будут изгнаны из пределов Европы. К несчастью, под Рождество зима проявила свой суровый нрав на горных перевалах болгарских Балкан, и крестоносцы пали жертвами первых серьезных морозов и снегопадов на коварной гористой местности, к чему добавились перебои со снабжением. Хуньяди отдал приказ войску возвращаться назад в Белград, где вовсю праздновали Рождество.
Долгая кампания 1443 г. доказала, что военные силы Центральной и Восточной Европы могут и сами разгромить турок, не прибегая к помощи западных держав. Мирный договор с турками, который под конец года польский и венгерский король Ладислас III подписал в Сегеде, а султан Мурад II – в Адрианополе, был заключен на необычайно выгодных для христиан условиях: в частности, турки обязывались вернуть ряд захваченных сербских и венгерских крепостей, а также отпустить всех заложников, в том числе сыновей Влада Дракула и ослепленных сыновей Бранковича. Подписавшие договор стороны поклялись, одна на Коране, вторая на Библии, соблюдать пятилетнее военное перемирие, требовавшееся Мураду, чтобы разобраться со своим противником в Азии. Однако только сербский деспот Бранкович остался верен договору и потому действительно получил назад своих сыновей.
Осенью 1444 г. польский король поддался на настойчивые уговоры папского легата Чезарини и в нарушение Сегединского договора двинул свое войско в новый Крестовый поход против турок. Это клятвопреступление привело султана Мурада в ярость, а для крестоносной армии обернулось полным разгромом в печально известной битве при Варне. Папа Римский освободил крестоносцев от данной в Сегеде клятвы на том основании, что султан «неверный». На сей раз у кардинала Чезарини были более амбициозные замыслы, предполагавшие, что крестоносную армию поддержит венецианский галерный флот, задачей которого было не дать туркам переправиться через Босфор из Малой Азии в Европу.
Когда крестоносцы под командованием Яноша Хуньяди, кардинала Чезарини и молодого польского короля выступили в поход на Варну, Дракулу было послано особое приглашение присоединиться. Как уже говорилось, для «долгой кампании» 1443 г. он выставил чисто символические военные силы под водительством Мирчи. Однако на этот раз армия крестоносцев планировала двигаться вдоль берегов Дуная, а не вторгаться, как в прошлый раз, вглубь Балканского полуострова. Понимая, что ему в конце концов придется присоединиться к походу, Дракул лично встретился с Хуньяди в Никополе, чтобы обговорить свое участие и военную стратегию. Опытному в делах войны господарю Валахии хватило одного взгляда на лагерь крестоносной армии, чтобы оценить, насколько она малочисленна, – в этих шатрах могло разместиться от силы 15 000 воинов. На военном совете Дракул заметил собравшимся военачальникам крестоносцев: «Да султан даже для выезда на охоту собирает больше сил, чем христиане выставляют для предстоящего сражения» – и попытался убедить польского короля повернуть назад. Кроме того, у Дракула имелись сомнения морального порядка, ведь христиане, преступив клятву, вероломно нарушили недавно подписанный договор. К тому же, будучи по натуре суеверным, он не мог выбросить из головы слова одного болгарского гадателя, который предостерег его, что из нынешнего похода христиан не выйдет ничего хорошего. В попытке усыпить совесть Дракула папский легат освободил его от данной туркам вассальной клятвы, но это все равно не помогло, и Влад Дракул опять решил держаться безопасной середины – в помощь действиям польско-венгерского войска вдоль берегов Дуная он отправил конницу численностью всего 4 тыс. всадников и снова под командованием сына Мирчи.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе