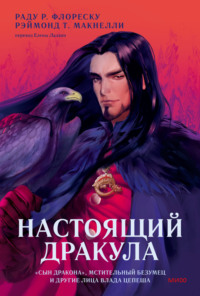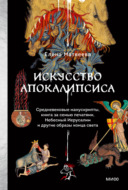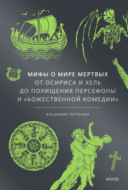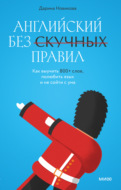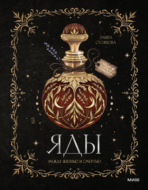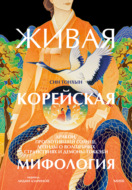Читать книгу: «Настоящий Дракула. «Сын дракона», мстительный безумец и другие лица Влада Цепеша», страница 5
Влад рассудил, что, чем сложа руки ожидать помощи от императора, лучше заручиться поддержкой польского короля Ладисласа II Ягайло, чье покровительство принесет ему больше пользы в борьбе за валашский трон. Польский король, время от времени соперничавший с Сигизмундом, заключил союз с Литвой, что позволило сформировать самую мощную по тем временам коалицию государств в Восточной Европе. Так что Влад знал, что делает, когда ранней весной 1423 г. под покровом ночной темноты с кучкой верных сторонников тайно покинул Буду: оставив прежнего покровителя, он желал найти в Кракове более деятельное покровительство. Но весть о побеге просочилась ко двору, и император дает приказ братьям Мартону и Дьёрдю Турзо, графам Уйвар, догнать и схватить беглеца, пока он не пересек польскую границу. Влада и его сторонников настигают, увещевают и везут обратно в Буду. В наказание за вероломство император подтвердил законность притязаний Дана II, который с 1422 г. правил Валашским княжеством. Однако других утеснений Влада не последовало, разве что император велел на некоторое время усилить за ним надзор.
Сигизмунд нашел хороший способ уберечь молодого строптивого пажа от дальнейших безрассудств подобного рода – направил его недюжинные дипломатические способности на переговоры, только-только начинавшиеся с целью подготовить почву для воссоединения Римско-католической и Восточной православной церквей, в чем сам император Сигизмунд и его византийский визави Иоанн VIII Палеолог имели каждый свой интерес. Греческий историк Михаил Дука описывает присутствие Влада в Константинополе походя и с некоторым небрежением: «В те дни там объявился один из многочисленных внебрачных сыновей Мирчи, этого распутного воеводы валахов. Как состоящий в военном чине, он был вхож во дворец императора Иоанна, где еще раньше совещался с молодыми людьми, сведущими как в военном деле, так и в подстрекательствах к мятежам. Тогда же в Константинополе побывали некие валахи, желавшие содействовать ему». Влада отрядили встретить и потом всюду сопровождать византийского императора Иоанна VIII, который высадился в Венеции 15 ноября 1423 г. в надежде заручиться военной поддержкой у морской республики, у Милана или даже у самого императора Священной Римской империи. Владу поручили убедить осажденного османами византийского императора, что, если он желает получить помощь Запада, важно, чтобы православная церковь признала главенство Святого престола в Риме. Влад сопровождал императора и на обратном пути в Константинополь и за время долгого морского путешествия постарался поближе с ним сдружиться.
Однако лукавый румын вынашивал и собственные планы, расходившиеся с официальной целью его миссии. Он отправился с императором в Константинополь, следуя давней традиции румынских и балканских князей, а именно чтобы заручиться политической поддержкой своих претензий на трон, а возможно, и укрепить свои шансы в этом деле через брак с какой-нибудь византийской принцессой. (В конце концов, Владу было не больше 28 лет, а юных принцесс, уже вступивших в брачный возраст, при византийском дворе имелось в изобилии.) С другой стороны, «экспорт» византийских принцесс с давних времен служил поколениям императоров верным средством сохранять политический контроль над Балканским полуостровом.
Первые же впечатления от колдовского очарования и блеска этой уже испускающей дух тысячелетней византийской цивилизации оставили в душе Влада неизгладимый отпечаток. Роскошь, величавая торжественность, невиданная изысканность двора, обилие и разнообразие товаров на главном городском рынке тоже изрядно впечатляли. Еще сильнее его воображение будоражили теснившиеся на прилавках местных базаров ремесленные изделия и богатая одежда: переливающиеся драгоценными каменьями затейливые украшения из золота и серебра, тяжелая шелковая парча, ткани из Фландрии, благовония и доставляемые генуэзскими и венецианскими купцами с Востока пряности, отборнейшие балканские вина, вывезенные из Европы и Азии несравненной красоты рабыни разных рас и национальностей – словом, все то, что было призвано пускать пыль в глаза неискушенному путешественнику. Наибольшей зрелищностью обладали православные ритуалы, таинственные и сложные, разворачивавшиеся под сводами собора Святой Софии, – казалось, они больше сродни мистическому диалогу между священниками и верующими, чем богослужению. Эффект от этого священнодействия усиливали щедрые воскурения ладана, как и пышное внутреннее убранство собора, покрывающие стены мозаики с ликами святых и византийских императоров, неописуемо впечатляющие иконы в золотых окладах, изображающие лики святых с возведенными горе очами, которые призывали верующих к молитве. Ослепительный блеск, величие и пышность, грандиозность константинопольского ипподрома, где на потеху публике устраивались жестокие игрища, участники которых бились насмерть с дикими животными, не говоря уже о повальной страсти суеверных константинопольцев по всякому поводу советоваться с гадателями и провидцами, – все эти диковины распаляли воображение Влада.
Погрузившись в эту колоритную заманчивую среду, Влад начал всерьез подумывать, не переметнуться ли ему от германского двора, такого блеклого и унылого, к блестящему кипучему Константинополю. Однако откровенные беседы с императором Иоанном VIII, в которых тот рассуждал о безнадежности военного положения Византии, убедили Влада, что разумнее будет вернуться к Сигизмунду. В ответ на откровенность императора румынский князь внушил ему, что его присутствие будет критически необходимым на церковных соборах, о созыве которых тогда вел переговоры Сигизмунд и которые в итоге состоялись в Базеле (1431 г.) и Флоренции (1439 г.) с целью воссоединить католическую и православную церкви. Таким образом, за те несколько месяцев, что Влад провел в византийской столице, он сыграл небольшую, но очень полезную роль в хитросплетениях переговоров о спасении Константинополя посредством воссоединения двух Церквей, которое виделось важнейшей предпосылкой для организации совместного Крестового похода Востока и Запада с благой целью изгнать турок из Европы.
В личных честолюбивых устремлениях молодой князь преуспел куда как меньше. Ему представили нескольких законнорожденных принцесс византийского двора, а с одной неназванной греческой наследницей у него даже состоялось свидание на берегу Босфора. Но, покидая имперскую столицу, Влад лишь еще больше утвердился в мысли, что в его кровном деле отвоевания валашского престола император Иоанн VIII Палеолог способен помочь не больше, чем польский король. Его ненарушенная верность императору Сигизмунду вскоре должна была принести свои плоды.
В годы, последовавшие за казнью (1415 г.) первого протестантского мученика в Европе Яна Гуса, гуситская ересь, как назвала его учение католическая церковь, начала распространяться. В феврале 1430 г. Сигизмунд I созвал в Нюрнберге имперское собрание с целью организовать Пятый крестовый поход против могущественных армий гуситского бунтовщика Яна Жижки из Троцнова, который при помощи весьма революционной по тем временам военной тактики в 1420-х гг. умудрился сдержать натиск четырех крестоносных армий. Среди новшеств, которые принесли военный успех Я. Жижке, были подвижные полевые укрепления, составленные из соединенных цепями повозок с вооруженными солдатами внутри, так называемые вагенбурги. У каждого солдата в повозке имелась своя конкретная боевая задача, примерно как у современного танкового экипажа. Позже этот западный метод ведения боевых действий перенял Янош Хуньяди, а потом преподал его своему юному подопечному Дракуле.

Янош Хуньяди (1387–1456), бан Северина (1438–1441), воевода Трансильвании, наследный граф Тимишоары и Бистрицы, генерал-губернатор и регент Венгрии (1444–1453). Отец короля Матьяша Корвина, также известен как Белый рыцарь христианских крестоносцев. Гравюра Себастьяна Лангера, XIX в. Библиотека Академии наук Румынии
Годом позже император Сигизмунд призвал в Нюрнберг высших сановников империи, в том числе и Влада. На рассвете 8 февраля 1431 г. в двойной часовне17 Нюрнбергской крепости прошла самая необычная из всех виданных этими стенами церемония – посвящение в рыцари ордена дракона. Первоначально основанный в 1387 г. императором Священной Римской империи и его второй супругой Барбарой Цилли, 13 декабря 1408 г. орден был реорганизован в тайное братство. Подобно прочим, орден дракона для вида провозгласил обычный набор целей и задач, которые ставили себе другие духовно-военные ордены того времени, например орден рыцарей-госпитальеров или Тевтонский орден: в числе прочего – защиту германского короля и его семейства, охрану империи от внешних врагов, попечительство над вдовами и сиротами, а также поминовение и молитвы за упокоившихся рыцарей ордена. Главная же цель подразумевала охранение и распространение католичества в борьбе с приверженцами Яна Гуса и прочими еретиками и, разумеется, крестоносное движение против неверных османов. А «тайный характер», как считали основатели ордена, требовался по той причине, что на самом деле он создавался ради достижения необъявленной цели – обеспечить Люксембургскому дому политическое верховенство в Европе. Этим же объяснялась малочисленность достойнейших, избранных первыми принять посвящение в орден, – таковых набралось всего 24 персоны из королевских домов Европы, включая Влада.
Помимо многообразной символики, новоиспеченным рыцарям ордена дракона полагались две мантии разного цвета, предназначенные для разных случаев. Одна – зеленая (как отсылка к цвету дракона); надевалась поверх красного одеяния, символизировавшего кровь мучеников. Вторая – черная, которую в далеком будущем облюбуют вампиры Стокера и которую полагалось носить только по пятницам или во дни поминовения Страстей Христовых. Кроме мантий, каждый рыцарь ордена был обязан носить золотую цепь или ожерелье с медальоном или подвеской, украшенной эмблемой ордена – изображением дракона – работы искусного нюрнбергского ювелира. Дракон с полуоткрытой пастью и двумя крыльями опирался на четыре расставленные лапы, его хвост обвивался вокруг головы и тянулся вдоль спины, разделяя ее надвое. Дракон располагался на двойном кресте типа лотарингского, который ввела Жанна д’Арк. На кресте были начертаны два девиза ордена: O quam misericors est Deus («О, как милосерден Бог») и Justus et paciens («Справедливостью и миром»). Эмблема символизировала победу Христа над силами тьмы. Медальон полагалось носить не снимая всю жизнь, а по смерти рыцаря ордена его медальон, по идее, следовало захоронить вместе с ним.
Для Влада посвящение в орден дракона стало необычайной честью, которая сторицей компенсировала малозначительность поручавшихся ему дипломатических миссий. Определенно, он оказался в выдающейся компании: в числе 24 первых членов ордена были главы государств, например король Арагонский и Неаполитанский Альфонсо, деспот Сербии Стефан Лазаревич, великий князь Литовский Витовт, а также кузен Влада (к которому он попытался перебежать от Сигизмунда) Ладислас Ягайло, король Польский. Члены ордена «классом пониже» были представлены венгерской знатью и другими баронами империи.
Когда Влад в конце концов возвратился на родину, валашские бояре, прослышавшие, какой великой чести он удостоился, прозвали его Дракулом, чтобы подчеркнуть его принадлежность к ордену дракона (на латыни дракон – draco), который посвятил себя борьбе с турками и еретиками. Простой же люд ни о каком таком ордене, как и о посвящении в него Влада, не знал, зато, видя изображение дракона на его родовом гербе, а позже – на монетах, которые он чеканил, уже по своим причинам стал называть его Дракул – в православной иконографии, в особенности на иконах святого Георгия, поражающего дракона, под драконом подразумевался дьявол, а в румынском языке слово drac (ul – это всего лишь аналог определенного артикля) имеет оба эти значения – и «дракон», и «дьявол». Важно подчеркнуть, что в те времена это конкретное прозвище никоим образом не подразумевало, будто Влада Дракула воспринимали как исчадие зла или подозревали его в шашнях с силами тьмы, как это сейчас утверждают некоторые. Имя Дракула, увековеченное Брэмом Стокером, появилось позже, вернее, было унаследовано сыном Влада Дракула. Ведь румынское Dracula, с а на конце, представляет собой всего лишь уменьшительную форму и означает «сын дракона» (драконенок). (По статуту ордена сын Влада унаследовал от отца его титул дракул.) А все намеки на злобу и жестокость Дракулы только позже прилипли к его имени стараниями его политических противников и очернителей, не преминувших воспользоваться двойным значением слова, от которого происходило его прозвище. Семья князя не видела в эпитете Дракула ничего зазорного, это подтверждается их признанием этого прозвища, как и тем, что сам Дракула подписывал этим именем свои грамоты, а историки используют его применительно к родне Дракулы (например, к его братьям Раду и Мирче), равно как и к их потомкам, собирательно называемым Дракулешти.
Но вернемся в 8 февраля 1431 г., ибо вечером того дня в тронном зале Нюрнбергской крепости состоялась еще более важная церемония, на которой присутствовали сам император, бургграф Нюрнбергский Фридрих фон Цоллерн (из дома Гогенцоллернов), Великий магистр Тевтонского ордена Клаус фон Редвиц, высшая венгерская, богемская и прочая имперская знать, а также несколько валашских бояр с родины Влада. Перед этим высоким собранием Влад Дракул (как мы теперь имеем право его величать) присягнул на верность императору, называя его «мой истинный господин и суверен, к чьему двору мы призваны для великих свершений». Владу вручили положенные регалии власти, и император провозгласил его князем Валахии. В обмен на эту высокую честь император Сигизмунд выдвинул одну дополнительную просьбу: когда Влад займет княжеский престол, он должен, хотя и будет править православной страной, обеспечивать защиту и свободу исповедания своими подданными-католиками их веры; отдельно император упомянул монахов-францисканцев (миноритов) как заслуживающих особого внимания и благорасположения. Таким образом, отныне Влад Дракул был связан со Священной Римской империей тройными узами: как рыцарь ордена дракона, как вассал императора Сигизмунда и как компаньон в Крестовых походах католиков.
Под конец того достопамятного дня Нюрнберг утопал в празднествах. Повсюду зажигались огни, вывешивались флаги – их полотнища свисали из проемов под крышами высоких фахверковых купеческих домов, выстроившихся вдоль узких мощеных улочек, трепетали на ветру вдоль перил мостиков через реку Пегниц, словно нанизывающую город на свои плавные извивы. На площадях разворачивались ярмарки, народные увеселения с танцами, на наскоро сбитых подмостках разыгрывались пьески и пантомимы, выступали жонглеры и сотни других уличных актеров и музыкантов. Плотная толпа празднующих собралась на площади перед громадой готической церкви Св. Зебальда у подножия замкового холма Кайзербург. Казалось, будто пышно разодетые купцы – и даже простонародье имперской столицы всех Германий – осознавали знаменательность этого дня, хотя могли лишь отдаленно догадываться о том, насколько он важен. И разумеется, не могло остаться незамеченным появление валашских бояр: чужеземная манера одеваться, богатые меха и роскошные византийские одеяния притягивали любопытные взгляды горожан, а у коммерсантов к любопытству примешивались робкие надежды, что новые торговые пути вскоре свяжут их с саксонскими городами Трансильвании.
Ближе к ночи состоялось еще одно увеселение, но теперь уже только для избранных. У Тиргартенских ворот на окраине города, по такому случаю превращенной в ристалище и ярко освещенной факелами, в присутствии императора и всего двора происходил потешный рыцарский турнир – самые доблестные рыцари империи, закованные в тяжелые доспехи, каждый под своим стягом, в потешных поединках мерились воинским мастерством и искусством наездников. Среди них был и Влад верхом на арабском жеребце, в ниспадавшей с плеч мантии дракона, горделиво выставлявший напоказ валашского орла – эмблему своего новоприобретенного престола. После нескольких поединков Дракул воспользовался случаем щегольнуть своей необычайной рыцарской сноровкой и копьем ловко выбил из седла противника в полной броне. Некая ценительница рыцарских доблестей, наблюдавшая за поединками с императорской трибуны, бросила к ногам валашского князя золотую пряжку, украшенную надписью ровными округлыми унциальными18 буквами. Всю жизнь Влад берег этот трофей как зеницу ока, а незадолго до смерти передал своему сыну Дракуле. В 1931 г. пряжка была обнаружена в числе предметов, сохранившихся в захоронении Дракулы на момент, когда оно было вскрыто двумя известными археологами, Дину Росетти и дядюшкой соавтора этой книги Георге Флореску; им также удалось проследить связь пряжки с тем достопамятным днем, когда Дракул получил ее в качестве трофея. На пряжке и поныне можно разглядеть имя сработавшего ее известного нюрнбергского мастера.
Глава 2. Детство и образование князя: 1431–1448
Между тем надежды Влада быстро отвоевать трон Валахии откладывались. Император Сигизмунд, верный своему обыкновению исходить в политике из целесообразности, рассудил, что, невзирая на пафосное посвящение Дракула в орден дракона, для дел империи ему выгоднее по-прежнему признавать валашским господарем сводного брата Влада, Александра Алдю, поскольку тот поддерживал молдавского князя Александра Доброго, состоявшего в лагере противников Ладисласа II Ягайло, который, несмотря на принадлежность к братству ордена дракона, как король Польши соперничал с императором Сигизмундом. В утешение Сигизмунд назначил Влада воеводой (военным губернатором) в Трансильванию с поручением «надзирать за приграничными землями» на юге, поскольку господарь Александр Алдя позволял османам использовать территорию Валахии как опорную базу для набегов вглубь Трансильвании. Весной 1431 г. новоиспеченный воевода Дракул прибыл в Трансильванию и решил обосноваться в крепости Сигишоара, выбрав ее по причине стратегически выгодного центрального местоположения. Расположенная на склонах холма крепость с необычайно толстыми стенами из камня и кирпича протяженностью 3 тыс. футов (914 км) незадолго до того была укреплена новыми оборонительными сооружениями и теперь могла выстоять против самых мощных осадных орудий, какими бы ни обзавелись турки. Мощные донжоны (массивные башни внутри крепостных стен) числом 14, поверху опоясанные парапетами с бойницами, делали Сигишоару практически неприступной. Каждый донжон именовался в честь гильдии, на деньги которой он содержался, – портных, ювелиров, скорняков, мясников, золотых дел мастеров, кузнецов, цирюльников, канатчиков. Над Старым городом до сих пор господствует величественная, увенчанная затейливым навершием Башня совета старейшин, в которой некогда помещалась местная тюрьма. Часы на башне по-прежнему отсчитывают время, и в стенном проеме рядом с циферблатом каждый час все так же исправно сменяются установленные на диске механические фигурки – как дань памяти несравненной изобретательности швейцарских часовщиков, когда-то создавших этот хитроумный механизм.
Город трансильванских саксов Сигишоара открывал множество возможностей для новой миссии Влада оказывать протекцию католической церкви, поскольку здесь уже давно обосновались многие католические ордены: бенедиктинцы, цистерцианцы, премонстранты, францисканцы, доминиканцы. (Даже сегодня на главной площади перед Башней совета старейшин, также называемой Часовой, можно полюбоваться элегантной архитектурой доминиканского монастыря, построенного в стиле ренессанса.) Среди многочисленных церквей и монастырей пестрели затейливые, выкрашенные в яркие цвета фахверковые трехэтажные дома, говорившие о присутствии здесь саксонской общины преуспевающих коммерсантов, которые торговали с Нюрнбергом и другими германскими городами Запада. Сигишоара, подобно трансильванским городам Брашову и Сибиу, служила перевалочным пунктом для товаров, следовавших с Запада, из германских городов, к Балканам, в Константинополь и к Черному морю. Для тех же целей Сигишоарой пользовались и другие западные купцы, державшие путь на северо-восток в Польшу и к Балтийскому морю.
Дом, в котором обосновался Влад, располагался на центральной площади города подле Башни совета старейшин, но, в сущности, мало чем отличался от окружавших его домов зажиточных коммерсантов. Сегодня в ряду соседних домов его выделяет небольшая табличка, указывающая, что в этом доме с 1431 по 1435 г. жил Влад Дракул. Это массивное трехэтажное строение густо-желтого цвета с черепичной крышей и узкими окошками-бойницами – типичной для Средневековья разумной предосторожностью, поскольку на улицах нередко завязывались шумные драки и побоища. Дом, по всей видимости, датируется началом XV в. С западной стороны в него вели три входа: один – в нижний этаж, где, вероятно, помещался немногочисленный караул, приставленный к особе Влада; два других входа по узкой лестнице вели в верхние этажи, где Влад Дракул принимал приближенных своего мини-двора.
В 1976 г. по случаю пятисотлетия со дня смерти Дракулы дом решили реставрировать. При удалении фрагмента старой перегородки рабочие обнаружили прелюбопытную настенную роспись в неоренессансном стиле, изображавшую троих мужчин и женщину. Центральное место занимала довольно-таки тучная фигура мужчины с двойным подбородком, сильно нафабренными усами, смуглой кожей, миндалевидным разрезом глаз под дугообразными бровями и точеным прямым носом. На мужчине белоснежный турецкий тюрбан и характерное для Восточной Европы свободное одеяние с широкими рукавами, перехваченными у запястий многочисленными застежками в форме крестиков. Что важно, левой рукой он сжимает нечто вроде жезла, какой мог полагаться Владу как воеводе, а правой рукой принимает из рук женщины золотую чашу – можно предположить, что это отсылка к незнакомке, одарившей Влада золотой пряжкой на рыцарском турнире в Нюрнберге, а может, это просто боярыня его двора. Поразительное сходство этих миндалевидных и того же миндального цвета глаз с теми, что изображены на известном нам портрете сына Влада Дракула, позволяет предположить, что обнаруженная фреска (сегодня выставленная в историко-краеведческом музее Сигишоары) представляет собой единственное дошедшее до наших дней изображение Влада II Дракула, хотя, скорее всего, оно сделано после его смерти и скопировано с несохранившегося оригинала.

Предположительный портрет Влада Дракула, отца Дракулы. Был обнаружен в 1976 г. в ходе реставрации фамильного дома Дракулы в Сигишоаре. Очевидно, копия XVII в. с более раннего портрета. В настоящее время находится в Музее истории Сигишоары. Помещенная в правом верхнем углу копия портрета Дракулы из замка Амбрас указывает на его сходство с Владом Дракулом. С разрешения редактора журнала Magazinul Istoric Кристиана Попиштяну, Бухарест
В ранней истории Румынии хронисты редко упоминали женщин в своих летописях отчасти по той причине, что валашские князья разделяли «гаремную философию» османов и не делали особой разницы между наложницами и законными супругами. Когда дело касалось наследования престола, реальное значение имело только одно – что претендент рожден правящим князем, или, по местному выражению, что в нем есть «отцова королевская косточка». Этими пробелами в летописях и объясняются споры относительно личности женщины, давшей жизнь Дракуле. По убеждению большинства историков, Дракул взял в жены старшую дочь молдавского господаря Александра Доброго (1400–1431) Кьяжну (ориг. Cneajna) из рода Мушатинов19, родную сестру двоих сменивших друг друга господарей Молдавии, Ильи I и Богдана II, отца прославленного Стефана III Великого (Штефана чел Маре). Женитьба Влада состоялась, скорее всего, в 1425 г., после его возвращения из Константинополя. Подобный династический союз с братским румынским княжеством имел большой смысл, особенно в свете тесных связей Мушатинов с польским королем, который был бесценным союзником Влада на его пути к валашскому трону. Эти брачные узы открывают причину, по которой с тех пор и далее правящие династии Валахии и Молдавии предпочитали, хотя и не всегда, поддерживать взаимные мир и дружбу. В конце концов, Илья I и Богдан II приходились Владу Дракулу шуринами. А Стефан Великий был двоюродным братом самому Дракуле, каковое родство имеет в нашем повествовании немаловажное значение.
Старшим законнорожденным сыном Влада Дракула был княжич Мирча, родившийся в 1428 г.; вторым по старшинству – Влад Дракула, родившийся в Сигишоаре под знаком Стрельца в ноябре, а скорее в декабре 1431 г. Третий сын Влада по имени Раду появился на свет в 1435 г. и, по общему мнению, был самым красивым из братьев.
Помимо законной супруги, у Влада, как и у его предшественников, имелись несколько наложниц, и среди них была прислужница одной валашской боярыни, звавшаяся просто по имени, Кэлцуной (ориг. Călţuna). Позже она постриглась в монахини, а сделавшись настоятельницей монастыря, приняла имя мать Евпраксия. Кэлцуна и родила от Влада Дракула сына Влада, получившего прозвище Монах; соответственно, он приходился Дракуле сводным братом, впоследствии стал его заклятым врагом, а позже – преемником Дракулы на валашском престоле. Можно не сомневаться, что Влад Дракул наплодил и других незаконных отпрысков, в том числе еще одного князя Мирчу, о котором мало что известно. (По всей очевидности, семейство питало особую любовь к имени Мирча, в память своего знаменитого деда, великого господаря Мирчи I.)
В ранние и самые восприимчивые годы детства, проходившего при заштатном воеводском дворе в Сигишоаре, Дракулу окружали почти сплошь женщины – придворные дамы, повитухи из простонародья, кормилицы, няньки. На княгиню Кьяжну и жен нескольких оказавшихся в трансильванском изгнании бояр возлагалась обязанность внушать княжеским отпрыскам, что они не чета простым смертным и что, если судьбе будет угодно, она однажды вознесет их до высочайшей доли правителя. Поэтому княжичи росли в атмосфере лести, любви и преклонения, купаясь в лучах всеобщего внимания. Их высокий ранг требовал от них усвоить определенные манеры и образ поведения: следовало знать, как правильно одеваться, следовало соблюдать подобающие манеры, следовало верховодить своими сверстниками – такие уроки надежно впечатывались в сознание княжичей, учитывая, какое огромное значение общество той эпохи придавало церемониалу и требованиям этикета. Кроме того, придворные дамы обучали княжеских детей языку их народа, румынскому (на котором в армии отдавались команды).
С самого нежного возраста особый упор в воспитании делался на должное физическое развитие и закалку: хотя они были княжичами, их в лучших спартанских традициях закаливали, в том числе и в непогоду. Если им удавалось пережить простуды с лихорадками и кашлями, считалось, что они крепки телом и душой, а в физической и моральной крепости как раз и состояли главные достоинства хорошего воина. В русле этой княжеской «физкультуры» даже от пятилетнего малыша требовалось умение галопом доскакать на неоседланной лошади до ближайшего родника или пастбища. И поскольку они росли в городе, бывшем центром торговли, им позволяли водить компанию с купеческими сыновьями. Конечно, княжичам разрешались и народные увеселения, проходившие в городе по праздникам: кукольные представления, традиционные для Восточной Европы, в которых марионетки разыгрывали сценки из жизни библейских или исторических персонажей; выступления актеров разъездных трупп, бродячих акробатов, миннезингеров и прочих уличных увеселителей. Летом для них устраивались игры с мячом, состязания по бегу и прыжкам, качели (для чего крепкое красное полотнище с дощечкой за кончики подвязывали к дереву), а также другие развлечения, призванные развивать ловкость и сноровку. Зимой они с рогатками охотились на орлов, катались со склонов холмов на примитивных салазках с двумя полозьями, выслеживали зайцев и для тренировки меткости упражнялись с луком и стрелами – все это подготавливало княжичей к тому, чтобы впоследствии, когда вырастут, обучиться владеть настоящими видами оружия.
Нам ничего не известно о религиозной принадлежности Дракулы и его братьев, но, поскольку оба их родителя были католиками, более чем вероятно, что изначально княжичи тоже воспитывались в католической вере. Рожденный на германской земле Мирча почти наверняка был крещен в римско-католическую веру. Что касается Дракулы и Раду, то их детство проходило на румынской земле, где было множество православных церквей, и можно предположить, что их тайно крестили по православному обряду в румынской церкви, хотя не исключено, что из дипломатических соображений их на первых порах водили к мессе в часовню при доминиканском монастыре, который располагался вблизи их сигишоарского двора. Владу приходилось лавировать: с одной стороны, он едва ли мог позволить себе раздражать императора Сигизмунда, который поручил его особому попечению католические учреждения Трансильвании. С другой стороны, Влад Дракул прекрасно понимал, что переход в православие категорически необходим будущему правящему князю Валахии, ибо этого требовали старинные и непреложные законы страны.
Имеются любопытные сведения, которыми, впрочем, мы могли бы пренебречь, списав на безобидное детское любопытство, если бы не знали, какое леденящее кровь прозвище заработает в будущем Влад Дракула. Местные предания утверждают, что мальчик с ранних лет проявлял болезненное любопытство к казням преступников и подсматривал из окошка своей спальни в нижнем этаже, как приговоренных переводят из маленькой тюрьмы в Башне совета старейшин в донжон ювелиров, где обычно производились казни через повешение.
На полотнах живописцев позднего Средневековья отпрыски высшей знати и княжеских домов, даже мальчики пяти-шести лет, неизменно изображались «маленькими мужчинами», которые манерой держаться и одеянием ничем не отличались от взрослых. Пожалуй, в этом смысле живописцы проявляли замечательную прозорливость, поскольку в XV в. дети знатных родов, и даже те, кто воспитывался при скромном заштатном дворе в Сигишоаре, отличались куда большей зрелостью мировоззрения, чем предполагал их нежный возраст. Маленькие княжичи частенько сбегали с женской половины и с интересом подслушивали, о чем толкуют взрослые на мужской половине, хотя в силу возраста не постигали смысла этих заумных разговоров, крутившихся вокруг насущных политических целей. Для Дракула самой настоятельной задачей было консолидировать свою власть в Трансильвании, для чего требовалось заключить союзы с соседними саксонскими городами, в том числе с Брашовом и Сибиу, и заручиться их военной поддержкой. «Знайте, – писал Влад Дракул главе городского совета Брашова, – что господин мой император доверил мне охранять эту область, и оттого без моего на то согласия не молите о мире с моими недругами в Валахии». И кроме того, он писал горожанам Брашова: «Молю вас как собратьев по вере и как друзей поддержать меня и предоставить мне помощь». Помимо этого, Влад искал добровольцев для своей армии в герцогствах Фэгэраш и Амлаш, традиционных вотчинах валашских князей, которые император Сигизмунд передал под его управление. Император также даровал Владу право чеканить в Сигишоаре монету (многие такие монеты дошли до наших дней) с рельефным изображением дракона и княжеского орла Валахии – эти золотые дукаты сделались законным платежным средством по всей Трансильвании и Венгрии и постепенно вытесняли из оборота монеты, имевшие хождение ранее. На самом деле это была огромная привилегия, щедро пополнявшая немалое личное состояние Влада; деньги требовались не только на роскошь, по статусу полагавшуюся его двору, но и на создание и вооружение войска, чтобы отвоевать себе валашский престол.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе