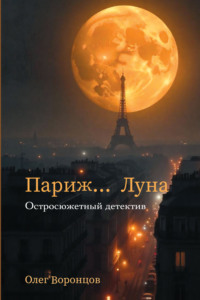Читать книгу: «Париж. Луна…», страница 12
– Он был любителем балета? – вмешался Скопов.
– Нет, просто патриотом. Дягилев для постановок нанимал, в основном, только бывших русских. Можете представить себе эту орду плотников, художников по декорациям, швей для костюмов, электриков и кучу другого люда для каждого спектакля? Вот это и была скрытая форма спонсирования, как сейчас это принято говорить, русских людей со стороны Куприянова-Седого.
– А откуда у него были деньги? – поинтересовался Волобуев.
– Вы знаете, господа, в этом кроется большая загадка. Взять хотя бы эту фотографию. Манташев и Чермоев ещё в царские времена были крупными нефтепромышленниками. У них имелись серьёзные средства, и они их нарастили, торгуя нефтью, в том числе с Америкой, пока экономический кризис там не ударил и по ним. А вот Куприянов-Седой прибыл в Париж со средствами, которые, в основном, являлись капиталом его жены.
– Дочери Заносова? – переспросил Павел.
– Браво, молодые люди! Видно, не зря вам заказывают статьи. Совершенно верно, крупнейший сибирский золотопромышленник Заносов был отцом жены Куприянова-Седого. К сожалению, как вы, наверное, знаете, судьба его не пожалела. Его расстреляли красные… Так вот, я так и не смог найти информацию о том, как и где зарабатывал деньги ваш Григорий Ипполитович.
– Он часто ездил в Германию. К тому же, он там прожил с семьей несколько лет, пока окончательно не вернулся в Париж. Владислав Александрович, если это не секрет, почему вы изучали его финансовое положение?
– Какой же здесь секрет? Оглянитесь вокруг. Эти три парижские квартиры, совмещенные в одну, эти книги, архивы, периодика, издание исследований, содержание людей, свет, тепло, в конце концов, – всё это стоит денег. Где-то в 60-е годы люди, работавшие в архиве, а тогда это было аж целых пять человек, стали составлять список потенциальных доноров. Ведь архив имеет юридическую форму «Фонда российской общины Франции». Искали всех, кто имел или мог иметь финансовые средства или другие возможности, чтобы продвигать идеи фонда и способствовать его становлению. Когда-то мы проводили рождественские и пасхальные вечера, литературные встречи, состязания русских детей, уже родившихся во Франции, по русскому языку и литературе. Но постепенно всё это сошло на нет… Сами понимаете, упадок интереса из-за технологической революции, ассимиляция русских французским обществом, смена устоев и догм. Царская Россия осталась в слишком далеком прошлом, чтобы о ней толковать, сидя над старыми фотографиями.
В некоторой степени Волобуев был поражен холодной рассудительностью Потёмкина. Казалось, он рассказывал про что-то постороннее, не имевшее к нему никакого отношения, хотя именно в этих стенах заключалась вся его прошедшая жизнь.
– И вы ничего не нашли про то, как он зарабатывал деньги? – опять вмешался нетерпеливый Скопов.
– Абсолютно ничего. Даже намеков. У него не было никакого собственного дела во Франции, иначе бы я что-нибудь раскопал бы. Более того, он держался так незаметно, что о нем и его семье практически ничего не писала светская пресса.
Скопов встал со своего стула и протянул Потёмкину подшивку газет, раскрытую на статье о тех, кто внес свои средства на финансирование русской столовой в районе Монпарнаса.
– Вот, взгляните, пожалуйста, Сергей Ильич вчера нашел, – сказал он, указывая пальцем на список, в котором значилась и фамилия Куприянова-Седого.
– Ну, и что? – вяло пожал плечами долговязый старик. – Таких подносителей в те годы было много. Да, он помогал и Дягилеву, и русской столовой, и Студенческому Христианскому движению, и различным русским церквям в Париже. Но его имя упоминалось вскользь, и никто толком ничего не знал ни про него, ни про его семью.
– Мы знаем, что в 1938 году его дочь Полина собиралась выходить замуж, – возразил Скопов.
– Она не только собиралась, но и вышла за сына контр-адмирала русского флота Ивана Никитовича Кораблёва.
Если ещё в начале беседы Волобуев имел сомнения, то теперь они развеялись сами собой. Потёмкин знал что-то о Григории Ипполитовиче не только потому, что обладал хорошей памятью, а наверняка ещё и в связи с тем, что, по какой-то одному ему известной причине, интересовался историей этого человека.
– Как звали сына? – спросил старший следователь.
– Вот этого я не вспомню, – покачал головой Владислав Александрович. – Уж простите, ради Бога, старика за короткую память.
– Всем бы такую память, как у вас! – возразил Волобуев. – Вы ещё и нам фору дадите.
– А когда они обвенчались? – живо поинтересовался Скопов, проведший весь вчерашний день в поисках этой информации.
Потёмкин сощурил глаза от умственного напряжения.
– Нет, не могу припомнить, – извиняющимся тоном ответил он. – По-моему в конце года, но я не уверен.
– Ясно, – сокрушенно заметил Павел, – продолжаем искать.
– Владислав Александрович, а во времена гитлеровской оккупации, где был Куприянов-Седой?
Старик нахмурил брови.
– Здесь, в Париже. Хотя с доскональностью утверждать не могу. Один человек, мой хороший знакомый, который умер уже много лет назад, говорил мне, что Куприянов-Седой жил неплохо и при немцах. Во всяком случае, ни в чем не нуждался.
– Он с ними сотрудничал? – попытался напасть хоть на какой-нибудь след Волобуев.
– Неизвестно… Вряд ли, иначе попал бы в списки коллаборационистов, и мы бы об этом узнали. Тех, кто помогал немцам, после войны судили.
– А чем занимался Куприянов-Седой после войны?
Старик уныло пожал плечами.
– Без малейшего понятия. Исчез. Он никак и нигде не участвовал: ни в политике, ни в общественной жизни, ни в жизни русской общины.
– Может быть, он умер во время войны? Или погиб? – предположил Сергей Ильич.
– Конечно, есть и такая вероятность. Но опять же, подчеркиваю, достоверно нам ничего неизвестно.
– А семья, дети, внуки? – настойчиво добивался старший следователь СКР, он же лжежурналист.
Потёмкин широко развел руками.
– Одному Господу Богу известно!
– Хорошо, а как же тогда вся эта светская хроника? – спросил Волобуев, показывая на свой стол с кипами подшитых газет и журналов.
Владислав Александрович снисходительно хмыкнул.
– Для того, чтобы журналисты о чем-нибудь написали, необходима, как минимум, информация. Разве не так, господа журналисты? И если человек не хочет, чтобы о нем писали, то и афишировать о себе он не будет. Я знаю много богатых и известных людей, которые живут как затворники. При этом много путешествуют, но их личная жизнь не попадает на страницы светской хроники. Возможно, это не укладывается у нас в голове, но не всё в этом мире поддается логике.
– Безусловно, – согласился Волобуев. – Будем считать, что Григорий Ипполитович был со странностями.
– Все мы со странностями, большими или маленькими, – заметил старик. – Я вот, к примеру, почти никогда не знаю, что буду делать завтра. Это мой стиль, и он мне нравится. Вы спросите: «Как же так? Как он работал в фонде и в архивах?» А меня вот война, господа, приучила не заглядывать вперед. Я стараюсь жить по максимуму каждый день. Что будет, то будет! Конечно, я тоже строю какие-то планы, что-то обдумываю наперед, но никогда, подчеркиваю, никогда не становлюсь пленником завтрашнего дня. В моем-то возрасте гарантировать следующий день никто не возьмется.
Наступила некая смысловая пауза, и Сергей Ильич, не долго думая, решил ею воспользоваться.
– Владислав Александрович, вот вы так тщательно, можно сказать по крупицам пытались найти что-то про Куприянова-Седого. Неужели только ради денег? Только ради спонсорства?
– А разве это не существенный мотив, молодой человек? – вопросом на вопрос ответил Потёмкин, хотя Волобуев сумел разглядеть в нем некоторое замешательство. – Деньги – мощный стимул в жизни, особенно в капиталистической системе. Я тоже был молод и амбициозен. Мне всегда претило жизненное прозябание. Я мечтал свернуть горы. Хотел превратить этот фонд в клокочущее сердце русской мысли во Франции. Но, видать, не судьба. Да, я искал богатых спонсоров. И поверьте, много раз находил их, иначе бы мы давно закрылись.
Сергей Ильич был уверен, что старик что-то недоговаривает. Он оказался не таким простодушным, как поначалу могло показаться. Но интуиция следователя настойчиво подсказывала ему, что этот человек был порядочным и достойным.
– Кстати, господа журналисты, – как будто о чем-то вспомнил Потёмкин, – раз вы готовите статью о разделенных русских семьях, то у вас есть информация и о брате Григория Ипполитовича?
Следователи из Москвы обменялись многозначительными взглядами. «Дед что-то знает и скрывает», – решил про себя Волобуев. Ситуацию разрядил Скопов.
– Да, у него был брат, но его расстреляли как иностранного шпиона в 1938 году. Мы пытаемся найти кого-то из родни, но сами понимаете, после сталинских чисток и Великой Отечественной сделать это нелегко. Знаем, что был сын, но вот где он и как – без понятия. Столько лет прошло…
Потёмкин понимающе закивал головой и, немного подумав, добавил.
– Разве это ещё имеет какое-то значение? Слишком давно всё произошло, и многих уже нет в живых… Сожалею, господа, что ничем особым не смог вам помочь. Поверьте мне на слово, что здесь, в архиве, вам делать нечего. Если вы хотите найти следы Куприянова-Седого, то вам следует прибегнуть к каким-нибудь другим оригинальным способам.
Чувствуя, что старик собрался их покинуть, Волобуев достал из кармана пиджака визитную карточку лжежурналиста, на которой был его новый электронный адрес, созданный Ириной на прошлой неделе, и номер мобильного телефона.
– Владислав Александрович, если вы все же что-то вспомните или захотите нам рассказать, – слово «захотите» Сергей Ильич выделил интонационной паузой, – вот мои координаты.
– Благодарствую, – почти что торжественным тоном произнес Потёмкин. – Ещё раз прошу простить, что не смог вам ничем определенным помочь. Вы продолжайте работать, а я ещё переброшусь парой фраз с Филиппом Петровичем. Спешу откланяться и искренне желаю вам удачи!
Произнеся это на одном дыхании, он вскочил со стула довольно резко для своего преклонного возраста, пожал на прощание руку гостям из Москвы и удалился.
Выждав, на всякий случай, несколько минут, Скопов поднялся из-за своего стола и пересел на стул, стоявший рядом с начальником.
– Чего-то недоговаривает, – шепотом произнес он. – Знает больше того, что рассказывает.
Волобуев согласно кивнул головой.
– И про брата знает, – продолжал Павел. – То есть это он знал наверняка. В газетах, поди, про это не писали. Откуда ему известно?
Сергей Ильич задумчиво продолжал кивать головой.
– Да и про немецкую эпоху звучало всё как-то загадочно. Может, этот дед, как член Сопротивления, должен был уничтожить Куприянова-Седого? – фантазия Павла запустила двигатель на полные обороты. – Мог же Куприянов-Седой быть на стороне немцев? Запросто. Он ненавидел СССР и Советскую власть. Наверняка знал про то, что случилось с братом. Ему было всё равно, кто победит коммунистов. Раз Гитлер напал на СССР, то он стал помогать фашистам.
Волобуев осознавал, что версия Павла не была лишена смысла. Но он был уверен, что не всё так просто.
– Вот что, Паша, раз мы решили и запланировали провести сегодняшний день здесь, то давай по-честному отработаем то, что наметили. Закончи сегодня этот 38-й год, а я постараюсь по-быстрому проглядеть всё, что мне удастся за сегодня. Концентрируйся только на фамилии Григория Ипполитовича, ни на чем другом. Я тоже начну теперь просматривать всё гораздо быстрее…
Глава 13
Они ушли из фонда в пять вечера, так ничего и не найдя. Щедрин очень расстроился, но лжежурналисты его успокоили, сказав, что сдаваться не собираются и будут продолжать искать. Прощание было трогательным, каким часто бывает прощание гостеприимных по природе русских.
Волобуев чувствовал себя неважно, поэтому они договорились встретиться для ужина в холле не раньше восьми вечера. Старший следователь поднялся к себе в номер. Он снял верхнюю одежду и сбросил обувь. Затем, прямо в костюме, прилёг на диван и включил телевизор. Тело ломило, голова болела. Они опять не пообедали, но аппетита не было. Он вспомнил, что обещал перезвонить Азизу, но не было сил. Затем прикрыл глаза и принялся прокручивать в голове прошедшие дни…
Волобуев беспокойно дремал на диване своего номера. Включенный телевизор ему совсем не мешал. Ни даже тот факт, что его голова лежала на слишком высокой подушке. Он, скорее, находился в полу-сидячей позе, чем в лежачей. Ему снился рассказ Орлова на яхте, который во сне вдруг начал обрастать тысячами всевозможных смыслов. Качки не было, и Сергей Ильич мог хорошо видеть берег, залитый солнцем, с городским пейзажем вперемежку с кронами деревьев на набережной. Всё было чёрно-белым, не цветным, и во сне ему это показалось угрожающим. Орлов заботливо наливал Волобуеву кофе, и все пальцы его рук были унизаны бриллиантами. «Как вульгарно!» – подумалось ему. Но сказать это Орлову, даже во сне, побоялся.
А потом на просторной палубе, которая почему-то имела гигантские размеры футбольного поля, он встретил одиноко сидящего в шезлонге Потёмкина, который беспрерывно повторял одно и то же: «Одному Господу Богу известно! Одному Господу Богу известно! Одному…»
Его разбудил настойчивый звонок телефона. Он медленно открыл глаза, вначале не соображая где находится. В комнате было темно, не считая света от работавшего телевизора. Звонил Павел, который уже ожидал в холле.
– Сергей Ильич, что-нибудь случилось? Я вас уже полчаса жду внизу.
Волобуев посмотрел на часы. Было полдевятого.
– Прости, Павел, я заснул. Неважно себя чувствовал…
– Может, тогда отменим, никуда не пойдем?
– Нет-нет, я через пять минут буду внизу. Жди, – повелительным тоном сказал он в трубку.
В ванной Сергей Ильич тщательно умылся, расчесался, поправил галстук и брызнул на подбородок немного одеколона. Сон придал ему сил…
Они сидели на утеплённой террасе небольшого ресторана, рассматривая через стекло большие толпы людей, направлявшиеся даже в это позднее время к стоявшему недалеко собору Нотр-Дам. У большинства в руках были видеокамеры или фотоаппараты. Люди оживлённо беседовали, показывали руками в сторону собора, останавливались, чтобы сфотографироваться, и всем своим поведением показывали восторженность от пребывания в этом удивительном городе.
Следователи поужинали большими антрекотами с гарниром из картофеля. На закуску им принесли белую спаржу под голландским соусом. В этот вечер они ограничились бокалом пива, но Сергей Ильич не выпил и половины порции. На десерт мужчины заказали знаменитый торт татен с яблоками, и теперь Волобуев сидел, наслаждаясь уже третьей чашкой крепкого чая.
Он пытался вспомнить свой вечерний сон, но смог припомнить лишь самый конец, где на просторной палубе в шезлонге одиноко сидел Потёмкин.
Внезапно в голову пришла фраза, которую Потёмкин непрерывно повторял во сне. На старшего следователя нашло озарение.
– Павел, – ударил он себя по лбу и воодушевлённо посмотрел на молодого коллегу, – слушай, мы совсем упустили из виду очень важную деталь.
– Какую? – недоверчиво усомнился Скопов.
– Если Куприянов-Седой, как человек набожный, выдавал свою дочь замуж, то где это должно было происходить?
– В церкви, – осторожно предположил Павел, ещё не зная, в какую сторону гнёт начальник.
– То-то и оно, что в церкви. В одной из парижских церквей. Церквей, а не костёлов. Улавливаешь? Церквей в Париже, поди, не так много. А хороших в те времена было раз-два и обчёлся. Не мог же он венчать свою дочь в какой-нибудь церквушке для русских рабочих завода Рено?!
– Позвоним утром Щедрину? – предложил Павел.
– Да, только ты всё равно ещё сегодня зайди в Интернет и посмотри, какие здесь самые помпезные церкви. Куприянов-Седой мог не светиться в светской хронике, но церковь он игнорировать не мог. К тому же, как правило, люди были привязаны к одной и той же церкви. А это значит, что там могли быть записи и венчаний, и крещений, и смертей… Вот что мы сделаем. Утром позвоним Щедрину, посоветуемся. Ты пойдешь в другой архив, с которым мы ещё из Москвы договаривались, а я прямо с утра рвану в церковь.
– Я думаю, Сергей Ильич, что надо Щедрина или Потёмкина попросить об одолжении, – предположил Скопов.
– Каком? – дёрнул головой Волобуев.
– Необходимо, чтобы они позвонили в эту церковь и предупредили о вашем визите. Мы же для них люди чужие, из той, другой России. С какой стати они должны нам помогать? А Щедрин и Потёмкин свои в доску, всех здесь знают и пользуются уважением. Надо этим воспользоваться.
– Ты прав, Паша, – согласился старший следователь.
– Отличная идея про церковь, – похвалил начальника Скопов.
– Знаешь, я давно усвоил истину: в нашей работе не бывает гениальных идей или чего-то сверхнеобычного. Внимание и концентрация, больше ничего! Главное – увидеть маленькую деталь, заметить мелочь, на которую никто не обратил внимания раньше, сопоставить различные события, казалось бы разрозненные, услышать слова, кем-то недосказанные. Вот и весь секрет нашей работы. Это только в кино следователи такие гениально-смекалистые, а в реальной жизни, ты и сам знаешь, всё обстоит гораздо проще. Но, – при этом Волобуев поднял вверх указательный палец правой руки, – всё, что я сказал, не может ни на йоту принизить наши заслуги.
На некоторое время за столом воцарилась тишина. Каждый думал о своём. Ресторан постепенно пустел, туристов на улице становилось всё меньше.
– Сергей Ильич, когда в музей пойдем? Когда ещё такая возможность представится? – почти что взмолился Павел.
– Ты опять за своё? Я тебе ещё в самолёте пообещал – сходим обязательно. Я двумя руками за. Но вначале надо заслужить. Мы пока ещё ничего толком не обнаружили.
– Не так легко это сделать, – вздохнул молодой следователь. – Мы же не из французской уголовной полиции! У них наверняка много чего есть.
– Сам понимаешь, что обращаться к ним на данной стадии – нереально. У нас ничего нет, а они – не бюро информации. Закон есть закон, и в каждой стране, в большинстве своём, его соблюдают. Проси счёт, пора возвращаться.
Огромная луна висела над городом, бросая светлый отблеск на темные и холодные воды Сены. Было ветрено, и река была неспокойна.
Волобуев поднял воротник пальто и спрятал руки в карман. Перчатки, которые его жена Антонина заботливо положила в чемодан, остались в гостинице. По дороге он думал о том, как на глазах менялись все крупные города Европы. Массовая миграция в Москву людей с Кавказа или бывших среднеазиатских республик теперь здесь, в Париже, не казалась ему чем-то особенным. За эти несколько дней он осознал, что французская столица тоже подверглась массовому нашествию со стороны франкоязычной Африки. Арабское население севера Африки и темнокожее население из других франкоязычных стран черного континента чувствовали себя в мегаполисе на берегах Сены, как у себя дома. В сущности, для большинства это и был единственный дом…
Утро выдалось беспокойным. Ему несколько раз звонили с работы. Не всё начальство было в курсе того, чем он занимался и где находился в это время. Волобуев их отсылал к главе Следственного комитета или его замам. Сам он не желал ничего объяснять. Потом позвонила супруга и поинтересовалась, как он себя чувствует, и нет ли у него температуры. Ровно в девять позвонила Меньшикова и в третий раз за последние дни предложила им для передвижения по Парижу машину с русскоговорящим водителем. Сергей Ильич опять вежливо отказался, оправдывая это тем, что они, по сути, больше сидят, чем передвигаются. Утренний моцион прошёл сумбурно, впопыхах, однако следователь, сам не зная почему, был в хорошем расположении духа. Ни особого повода, ни объясняющих обстоятельств, ни видимых причин на то не было. Просто так, ни с того ни с сего, он стоял перед зеркалом и улыбался сам себе. Такое с ним случалось не часто.
Завтракал он с большим аппетитом, и на недоуменные взгляды Скопова отвечал лишь широкой улыбкой и сияющими от возбуждения глазами.
Помощь Щедрина оказалась очень эффективной. Распорядитель русского архива, отметая всяческие доводы и сомнения, предположил, что представители высшего сословия, каковым безусловно являлся Куприянов-Седой, наверняка посещали самую именитую русскую церковь в Париже – Собор Святого Александра Невского, который был освящен ещё в 1861 году. Ему понадобилось лишь пятнадцать минут, чтобы договориться о том, чтобы батюшка Андрей увиделся с Волобуевым внутри собора в одиннадцать тридцать.
Сергей Ильич отказался от идеи такси и решил доехать на метро, так как собор был недалеко от одной из станций. На всякий случай Павел просмотрел с начальником план центральной части города, обвел на карте черным жирным кругом местонахождение собора и подчеркнул расположенную рядом станцию метро. После этого они попрощались до вечера.
Волобуев приехал в церковь гораздо раньше назначенного времени. Доехал он без проблем, потолкавшись в метро в толпе африкано-арабских жителей французской столицы и приезжих туристов.
Сергей Ильич никогда не считал себя поклонником религии, и не стал, как многие, слепо следовать моде и приобщаться к церкви. Точно так же он не пытался никого убеждать, обвинять или оправдываться. Ему не приходило в голову вступать в научные дискуссии с коллегами по поводу божественного происхождения мира. Не потому, что у него не было аргументов, а именно потому, что их было очень много. Слишком много для принятия какого-либо однозначного решения.
Это была как раз та область жизни человечества, которая заставляла его изучать, но не занимать никаких твёрдых позиций. Было бы неправильно утверждать, что Волобуев с самого детства просто увлекался астрономией или космологией. Как и все россияне, он гордился первым советским спутником, Юрием Гагариным и сожалел о том, что первыми на Луну высадились американцы. Но чем больше он читал, чем больше интересовался, тем больше понимал глубину человеческого незнания по поводу того, откуда и как взялась жизнь, и что окружало нас во Вселенной. Теперь он осознавал, почему многие учёные, исследовавшие космос и смежные с этим понятием науки, неожиданно приходили к выводу о существовании Бога. Ну кто мог отважиться и ответить на вопрос, что было до большого взрыва и как это произошло? И был ли в действительности такой взрыв? Правда ли, что всё живое на земле происходило от одной первой клетки и первого организма? В теорию сингулярности он, почему-то, не верил.
Здесь, возле этого русского собора в Париже, ощущение времени исчезло. И не потому, что мир казался бренным или перевоплощённые русские души, десятками и сотнями своих визитов к этой святыне пропитавшие каждую стену соседних домов, каждый метр асфальта и каждый булыжник мостовой особой энергией и ностальгией. Сергею Ильичу вдруг показалось, что все хитросплетения русской истории устало дремали на ступенях Собора Святого Александра Невского, ожидая какой-то крайне необходимой развязки или, хотя бы, просто душевного поминания. «Мы, русские, так и не научились сами у себя просить прощения и прощать», – подумалось ему с грустью. Разбитые семьи, искалеченные судьбы, переселённые народы, сожжённые и разрушенные деревни и города, сброшенные памятники, взорванные храмы, расстрелянные герои и, самое страшное, миллионы, преданные забвению. Как будто прошлое уже никогда не будет иметь значения. «Дерево не может жить без корней, а человек без памяти».
Он тут же отметил, что получилась красивая фраза. «Моя или я перековеркал чьё-то?» – подумал он, поднимаясь по ступеням храма.
Внутри было холодно и пустынно. Горевшие свечи и их плясавшие огоньки казались единственными живыми существами внутри. Ему пришла в голову мысль о том, что тишина может быть гулкой. Такой она была здесь. Иногда тишину прерывал какой-нибудь скрежет или звук тупого удара, заполнявшие разом пространство храма и исчезавшие где-то под сводами. Торжественность наваливалась непомерным грузом на следователя, как будто сейчас должно было что-то произойти из ряда вон выходящее или кто-то, неведомый и важный, должен был вдруг оказаться рядом. Но никто здесь внутри не спешил тревожить медленное величие человеческой мысли. Волобуев оказался наедине со своими суматошными и далеко не библейскими размышлениями, зажатый извне беспощадными картинками русской истории и памятью тех, кто посетил этот собор за всё его существование с 1861 года. Ему неожиданно захотелось узнать их имена и истории, родословные и судьбы. Десятки тысяч русских, привлекаемые храмом и храбрым именем Александра Невского, веря или не веря в Бога, в достатке или в отчаянии, любя или проклиная, приходили в это место на поклон. Одни низко кланялись Богу, а другие ностальгически поклонялись географическому месту на карте под названием Россия. И Сергей Ильич знал, что среди всей этой большой массы людей не было ни одного безразличного. Россия была не для безразличных. Она могла вызывать противоречивые эмоции, но никогда – безразличие. Люди здесь, в Париже, как правило, мечтали о развязке: трепетно вспоминали жизнь в России; теряли себя там и вместе с собой теряли родину; преодолевали всё ради новой встречи с ней и пытались обмануться, представляя хотя бы на долю секунды, что Россия к ним вернулась. А, может быть, просто от них никогда и не уходила. О, это чувство далёкой и, возможно, навсегда утерянной Родины! Кто им вернёт величие Невского проспекта, суету Москвы, бескрайние просторы тайги или горькие душевные распевы русских крестьян? Всё в прошлом, далёком и потому неправдоподобном. А что их ждало в будущем? Для многих жизнь закончилась за кормой парохода, отплывавшего из Крыма в спешке из-за шального напора Красной Армии. Страну разорвали на белое и красное, напрасно заплатив неимоверную цену за постижимость утопии. Лучших безжалостно истребляли и гнали. Голодным обещали хлеб, бедным – человеческое братство, глупым – всеобщие знания. И у каждого, и с той, и с другой стороны, оказалась своя развязка, хотел он этого или не хотел.
Сюда, в Собор Святого Александра Невского, все эти годы русские люди шли за поддержкой. Кто молился, кто плакал, кто вспоминал, а кто просто дышал. Это был кусочек их колючей родины, от которой они враз шарахнулись, испугавшись красных кровавых последствий. И о которой плакали и молились теперь уже до конца своих дней. У них отняли страну проживания, но не смогли отнять родины с её широкой бесшабашностью, трагической историей и квашеной капустой.
За осмотром церкви и размышлениями быстро пролетело время. В храме находилось несколько посетителей, две супружеские пары, явно туристы. Потом, откуда-то из невидимой двери, появился батюшка в черной рясе и с пышной бородой. Был он среднего роста, лет сорока, с широким открытым лбом и добрыми глазами, которые, казалось, не переставали улыбаться. Нисколько не сомневаясь, он сразу приблизился к Волобуеву.
– Добро пожаловать к нам в храм Божий! – радушно поприветствовал он гостя. – Вы и будете тот самый Сергей Ильич?
– Да, батюшка, добрый день! Я и есть Сергей Ильич. А вы батюшка Андрей…
– Андрей Николаевич, но для людей я батюшка Андрей или отец Андрей.
– Спасибо вам огромное за то, что согласились встретиться.
– Господь с вами! Храм всегда открыт для людей. Мы здесь для того, чтобы помогать страждущим и ищущим и наставлять на путь истинный. Вы из Москвы?
– Да, – коротко ответил Волобуев.
– Крещёный? – поинтересовался батюшка.
– Да, – признался Волобуев, – прабабкой, втайне от моих родителей.
– Видать, очень она вас любила, – улыбнулся отец Андрей. – Я такие истории часто слышал. Не вы один. Простите, Сергей Ильич, чем могу служить? У меня через полчаса дневная служба. Сами понимаете, у нас свой график…
– Да, да, конечно, я прекрасно всё понимаю. Вам Филипп Петрович вкратце объяснил?
– Очень вкратце. Сказал, что вы журналисты из Москвы и пишете статью о какой-то семье, разделённой большевистской революцией.
– Да, всё так, – подтвердил Волобуев. – Конкретно меня интересует вот что. Вы не в курсе, в 1938 году, если, предположим, в этом храме было венчание, оно у вас как-то регистрировалось? Или крещение?
– Безусловно. У нас практиковались церковные книги. Сейчас всё по-другому, но в те годы всё записывалось в церковных книгах.
– Замечательно! – обрадовался Сергей Ильич. – А как можно было бы на них взглянуть? Мы ищем сведения из жизни Григория Ипполитовича Куприянова-Седого, который прибыл в Париж ещё в конце 20-х годов прошлого столетия.
– Господи Иисусе наш, как же мне вам помочь? Я бы рад, но как давно это было! Книги те уже давно не у нас.
– А где? – обеспокоенным тоном спросил следователь.
– В епархии, где же ещё? У нас здесь с помещениями туговато, места всегда было мало. Всё, что старое и ненужное, отправляем в епархию. Да и людям божиим так сподручнее – там информация со всех церквей Парижа и пригородов. Некоторых церквей уже и нет, а книги, как водится, – в епархии.
Волобуев понимающе качал головой, обескураженный тем, что поиск откладывался. Идя сюда, он был полон надежд и уже представлял себе, как находит нужную для следствия информацию.
– Вы очень спешите? – участливо спросил батюшка Андрей.
– В общем-то, нет, – признался гость из Москвы.
– Тогда я вам предлагаю следующее. Останьтесь на службу, помолимся вместе, а потом я вас отвезу в епархиальное управление и помогу там немного. Мне-то лучше знать, где и как искать.
– Замечательно, – обрадовался Волобуев, ни секунды не размышляя над полученным щедрым предложением…
Они встретились с Павлом только в восемь часов вечера. Батюшка Андрей, сделавший так много в этот день для Волобуева, от приглашения на ужин отказался, сославшись на службу и другие обязанности. Он высадил Сергея Ильича за три квартала до гостиницы, по его собственной просьбе, чтобы тот имел возможность прогуляться и подышать вечерним парижским воздухом.
Волобуев еле сдерживал вырывавшуюся наружу радость. Этот день он записал себе в актив, потому что смог отыскать в помещении, больше похожем на склад, среди упакованных коробок с тысячами всевозможных книг и брошюр, архивов и просто бумаг, то, что делало этот день запоминающимся. Конечно, думал он про себя, благодаря Божией помощи и содействию батюшки Андрея, которого в епархии все любили и уважали. Он не только показал Сергею Ильичу где искать, но и уселся рядом с ним и в течение четырех часов дружно со следователем сдувал пыль со старых церковных книг, внимательно просматривая страницу за страницей. К величайшей радости Волобуева, он оказался прав во вчерашнем своем предположении – Григорий Ипполитович Куприянов-Седой посещал Собор Святого Александра Невского.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+31
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе